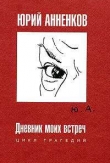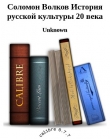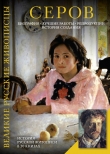Текст книги "Непрочитанные страницы"
Автор книги: Александр Лесс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Когда пьеса наконец была написана и с Театром имени Вахтангова достигнута договоренность о читке, Булгаков неожиданно получил пакет от Вересаева. Михаил Афанасьевич вскрыл пакет: пьеса о Пушкине.
– Какой золотой старик! – с восхищением воскликнул Булгаков.– Не удержался все-таки, написал пьесу!..
Оказалось, что Вересаев, никогда не выступавший в драматургии и плохо знавший законы сцены, написал слабую, плохую пьесу. Михаил Афанасьевич так и отозвался о ней в телефонном разговоре с Вересаевым.
– Дайте ее в театр,– советовал Булгаков Вересаеву.– Если театр примет ее, я свою пьесу положу в письменный стол и, клянусь вам, не буду даже вспоминать о ней...
Вересаев не послушался Булгакова и пьесу театру не отдал.
Настал день читки.
Читал Булгаков свою пьесу мастерски, с необыкновенным подъемом. Едва он закончил чтение, артисты начали бурно и радостно аплодировать. Булгаков вытащил из первого ряда Вересаева и, как бы утверждая его моральное соавторство, чуть ли не силой заставил Викентия Викентьевича кланяться.
...После того как пьеса начала идти в театрах, Управление по охране авторских прав, согласно завещанию Булгакова, высылало Вересаеву половину авторского гонорара.
Высылало до последних дней жизни не только Викентия Викентьевича, но и его жены.
СТИХИ АНЖЕЛИКИ САФЬЯНОВОЙ
Весной 1918 года на прилавках книжных магазинов появилась новинка – «История и стихи Анжелики Сафьяновой». Книга эта давно уже стала библиографической редкостью – о ней знают лишь немногие старые библиофилы, да и то понаслышке.
Мне давно хотелось познакомиться с книгой Сафьяновой, тем более что в некоторых номерах «Сатирикона» и других дореволюционных журналах я часто встречал ее стихи. Но книги Сафьяновой в библиотеках не оказалось.
Тогда мне пришла в голову мысль разыскать автора или хотя бы ее родственников. Я решил справиться в Литфонде: не оказывает ли Литературный фонд материальной помощи поэтессе Анжелике Сафьяновой или ее близким?
Мне ответили:
– В списках Литфонда поэтесса Сафьянова никогда не значилась...
Мне ничего не оставалось делать, как примириться с неосуществленной мечтой и при случае наводить справки у литераторов старшего поколения.
...Недавно писатель Николай Павлович Стальский, которому я сообщил о своих безуспешных поисках, сказал:
– Почему бы вам не обратиться к Никулину?.. Он хорошо знает дореволюционную поэзию и мог бы оказать вам большую пользу...
На следующий день я пришел к Льву Вениаминовичу Никулину. Писатель молча выслушал мой рассказ, улыбнулся и ничего не ответил. Он медленно поднялся из-за письменного стола и подошел к книжному шкафу. Он не спеша открыл шкаф, порылся в книгах и через несколько минут положил на стол светло-коричневую, в форме общей тетради, книгу. Я взглянул на нее и – оторопел. На переплете было напечатано: «Л. Никулин. История и стихи Анжелики Сафьяновой».
– Что это значит? – спросил я, совершенно ошеломленный.– При чем тут ваша фамилия?..
Никулин рассмеялся:
– А при том, что я сам писал эти стихи... Никакой Анжелики Сафьяновой в природе не существовало, хотя в книге и напечатан ее портрет...
– Что же это такое?.. Литературная мистификация?
– Совершенно верно...
Я попросил Льва Вениаминовича рассказать мне историю этой книги и вот что от него услышал:
– Начиная с тысяча девятьсот тринадцатого года я печатал в разных журналах свои стихи, которые подписывал псевдонимом: Анжелика Сафьянова. По существу, это были пародии на модные в то время сентиментально-интимные стихи о любви. К моему удивлению, редакции принимали стихи всерьез. Они считали их настоящими лирическими стихотворениями и твердо верили, что стихи понравятся читателям. Так и случилось, Узкому кругу читателей мои иронические и претенциозные стихи нравились, и читатели были убеждены, что действительно существует поэтесса Анжелика Сафьянова.
– Но как же вам удалось издать эту книгу уже после революции?
– О, это очень забавная история,– ответил Никулин.– Однажды в знакомом профессорском доме мы играли в карты. Среди нас был художник-дилетант, А.– очень состоятельный молодой человек. В этот вечер ему чертовски везло, хотя он абсолютно не нуждался в выигрыше.
Игра закончилась на рассвете. Художник, забрав со стола выигрыш, сказал:
«Надо бы употребить эти деньги на что-нибудь полезное или хотя бы занятное... О, послушайте, я знаю, что я сделаю! – после минутной паузы воскликнул художник.– Я издам на этот выигрыш стихи, которые мне давно нравятся, я их вырезаю и всегда удивляюсь, почему не издают?..»
«Чьи же это стихи?» – поинтересовался я,
«Стихи Анжелики Сафьяновой,– сказал он и рассмеялся.– Но гонорара, Никулин, вы не получите... Моего выигрыша на гонорар не хватит...»
Было еще очень рано, когда мы с художником вышли на улицу. Улицы были безлюдны. Откуда-то издалека доносились беспорядочные выстрелы – время было тревожное.
Мой «меценат» размышлял вслух:
«Гм... бумага и типография... за этим дело не станет... У меня есть друзья, они устроят... Еще существуют маленькие частные типографии...»
«Ну, а издательство? – робко спросил я.– Нужно же на титульном листе указать марку издательства...»
«Чепуха!» – решительно сказал он.
В этот момент мы проходили мимо афишной тумбы. На одной из афиш мы прочли название оперетты: «Зеленый остров».
«Вот! – воскликнул художник.– Так будет называться наше издательство – «Издательство «Зеленый остров»... Звучит?»
Так через месяц в мифическом издательстве «Зеленый остров» вышла книга, которая лежит перед вами. Конечно, мой «меценат» не мог отказать себе в удовольствии украсить книгу портретом своей жены – изображением никогда не существовавшей Анжелики Сафьяновой.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Страстная площадь, 1926 год. Кинотеатр «Ша нуар», ныне – «Центральный» на площади Пушкина. В те годы здесь помещался клуб Коммунистического университета трудящихся Востока. При клубе был театр. Он носил странное название – «Метла». Это слово расшифровывалось так: «Московская единая театральная ленинская артель».
В одно туманное осеннее утро здесь шла генеральная репетиция спектакля «ПЭК» – «Первого эстрадного комплекса» – обозрения, сочиненного актерами. То были молодые, горячие сердца, страстно преданные революции, увлеченные идеей борьбы с буржуазными пережитками в быту и сознании людей. Не случайно и сам театр назывался «Метла». Уже одно это название как бы говорило зрителям: театр будет выметать из нашей жизни негодное, мещанское, отжившее. Отрицая старое театральное искусство, как, впрочем, все, что досталось в наследство от старого мира, они жадно искали в искусстве новых путей и форм, чтобы выразить бушевавшие в их душах чувства.
...Сцена изображает поле боя. Слышатся стоны раненых. Около режиссерского столика – хохот.
Режиссер с палкой в руках бросается на сцену и кричит на одного из актеров:
– Если ты не можешь стонать, как человек, убирайся отсюда!..
Актер стонет, как может.
Режиссер кричит:
– Вон!..
Члены художественного совета хохочут, а актера-неудачника с позором прогоняют со сцены.
Один из членов художественного совета говорит режиссеру:
– Сжальтесь над ним!.. Ему только семнадцать лет... Он еще научится стонать!..
Репетиция продолжается.
Вечером – спектакль. В зале пусто. Никакого интереса у небольшого числа зрителей спектакль не вызвал.
– Какая чепуха! – говорили они, расходясь.– Весь вечер нам показывали одну темноту!..
После спектакля члены художественного совета понуро бредут по Тверскому бульвару. Все думают о провале спектакля и о том, сколь тернист путь истинных служителей искусства.
Это были: режиссер Николай Экк, впоследствии поставивший «Путевку в жизнь», неудачный актер – Исидор Шток, ныне известный советский драматург, члены художественного совета – поэты Назым Хикмет, Виктор Гусев и индийский драматург Эс Хабиб Вафа.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПСЕВДОНИМА
Когда в газетах промелькнуло сенсационное сообщение, что автор «Овода» Этель Лилиан Войнич, оказывается, здравствует и живет в Нью-Йорке и что в гостях у нее побывала группа советских писателей,– мне по какой-то невольной ассоциации подумалось: никто из наших литераторов не состоит с Войнич в таком «духовном родстве», никто не связан с ней так тесно, как Людмила Андреевна Ямщикова. Между тем советская писательница не только ни разу не видела Этель Войнич и никогда не переписывалась с ней, но даже не знала, жива ли она.
...Это случилось почти полвека назад.
Группа гимназисток–учениц последних классов гимназии – возвращалась в Петербург после экскурсии по Кавказу. Среди них была и Люся Ямщикова. Устав от обилия впечатлений и продолжительной поездки по железной дороге, девушки томились и скучали в вынужденном бездействии. И тогда, чтобы хоть немного развлечь товарок, Люся предложила им попробовать свои силы в «литературе». Это громкое слово понималось весьма скромно: в пределах обычного гимназического сочинения на «вольную тему».
– А что писать? – спросили подруги.
– Да что угодно!.. Ну хоть воспоминания о местах, где мы только что были... О горах, о море... Что захочется, что вообразится!..
Девочки подумали, потолковали друг с дружкой,– тем дело и кончилось. Отозвалась только одна. И вот Люся и ее подруга погружаются в «творчество», хотя отлично знают, что оно не сулит им никаких благ, в виде одобрения учителя или хорошей отметки в «четверти».
Произведение Ямщиковой было явно «революционного» характера. Некий смелый и гордый юноша, живущий со своим племенем на одном из склонов Кавказских гор, решает спасти народ от злобного духа – Эльборуна, который веками грабил и мучил людей. Юноша бесстрашно идет на бой в царство вечных льдов и, конечно, побеждает врага. Ледяной трон Эльборуна рассыпается в прах, а сам Эльборун проваливается в глубь земли...
Вернувшись домой, Люся поделилась «пробой пера» со своей матерью – писательницей Маргаритой Владимировной Ямщиковой, известной в нашей литературе под псевдонимом «Ал.Алтаев». Маргарита Владимировна посоветовала послать «Гнев Эльборуна» – так назвала юная писательница свое произведение – в редакцию журнала «Всходы».
«Гнев Эльборуна» был принят к печати. Возник вопрос: каким именем подписать рассказ-легенду?
Ямщиковой не нравилась ее фамилия, хотя многие уверяли, что в ней слышится импонирующая читателям «удаль». Автор решил скрыться под псевдонимом. Но под каким?
И вдруг Люсе вспомнился «Овод» – роман о бесстрашном борце за счастье людей, книга, которая оставила глубокий след в ее душе... Сколько раз со слезами на глазах она перечитывала отдельные страницы романа!.. Зита Рени, влюбленная в Артура Бертона, называла его ласково и трогательно: «Феличе»... Артур Феличе! Как красиво звучит, а главное – это имя героя романа! Так пусть же так и будет: «Арт.Феличе». Под этим псевдонимом журнал «Всходы» в феврале 1912 года и опубликовал первое произведение молодого автора.
С тех пор, вот уже пятьдесят три года, Людмила Андреевна Ямщикова выступает в литературе под именем «Арт.Феличе». Более полувека этот псевдоним живет в ней как часть ее души и сердца...
Рассказать же об этом «духовном родстве» меня побудила последняя книга Ямщиковой – исторический роман, выпущенный Детгизом в начале 1959 года. На переплете и титуле напечатано: «Арт.Феличе. Морские нищие».
Вскоре после того как в печати появились сообщения, что Войнич жива, я навестил Людмилу Андреевну Ямщикову в ее маленькой, уютной квартирке в высотном доме на Котельнической набережной.
– Как это невероятно, как неожиданно и как радостно! – с восторженным изумлением говорила мне писательница.– Войнич жива!.. Я написала ей письмо и сегодня с утра только и занималась тем, что добывала ее адрес...
И Людмила Андреевна протянула мне приготовленное к отправке письмо. Оно очень трогательно, это маленькое письмецо одного писателя другому, и мне хочется привести его полностью:
«Дорогой мой учитель Этель Войнич!
Разрешите мне назвать Вас этим словом, хотя я и не имею счастья знать Вас лично.
Ваша книга «Овод» полвека назад произвела и на меня огромнейшее впечатление. Она помогла формированию моего характера.
До сих пор во мне живы воспоминания далекого детства. Я говорю это потому, что избрала своим псевдонимом имя главного героя Вашего романа. Вот уже 48 лет, как я выступаю в литературе под именем «Арт.Феличе».
Пусть к многочисленным письмам с выражением любви к Вам прибавится и мое.
Живите и здравствуйте долгие годы.
С глубоким уважением и любовью.
Арт.Феличе (Л.А.Ямщикова)».
ПОПРАВКА ПО СУЩЕСТВУ
В вестибюле Центрального Дома литераторов собрались писатели, журналисты, фотокорреспонденты.
Ждали Эдуардо де Филиппо.
Он приехал в начале одиннадцатого, сразу после спектакля, уставший, со следами только что смытого грима на характерном худощавом лице с высоким покатым лбом и тоненькой ниточкой серебристых усов.
Свободно и просто, как входят в дом истинных друзей, он вошел, встреченный аплодисментами, и, на ходу пожимая руки, упругой походкой, слегка наклонив голову, направился в Малый зал.
Он сел за круглый стол у самой сцены.
Сергей Смирнов приветствовал Эдуардо де Филиппо не только как большого друга Советского Союза и талантливого драматурга, но и как замечательного артиста и режиссера – генерала от искусства, как выразился Смирнов.
Эдуардо де Филиппо встал. С минуту он молча оглядывал зал, словно изучая его. Затем начал говорить. Он сказал, что глубоко взволнован приемом и словами, обращенными к нему.
Он говорил, и его подвижное лицо, как бы в такт мыслям, ежесекундно меняло выражение, а глаза – большие, светлые, чуть выпуклые глаза под тяжелыми веками – становились то пристально-зоркими, то задумчивыми, то иронически улыбающимися.....
Свою речь он закончил так:
– Я приехал в вашу великую страну не как генерал, а как солдат... Как солдат искусства... И если вы предлагаете мне звание генерала – я от него отказываюсь. В искусстве нет и не может быть генералов!..
СУВЕНИР
Я пришел к писателю Леону Островеру, чтобы взять у него интервью о том, как он работал над книгой о Тадеуше Костюшко.
В разгар беседы в моей авторучке кончились чернила. Я попытался было взять авторучку, лежавшую на столе писателя, но Островер запрещающим жестом остановил меня,
– Нельзя?..– удивленно спросил я.– Почему?..
Островер помолчал, затем таинственно улыбнулся.
– Не рассматривайте мой поступок как причуду старика,– заговорил он мягко, точно оправдываясь.– Послушайте-ка лучше историю этой ручки...
...Случай, о котором я хочу рассказать, произошел зимой тысяча девятьсот двенадцатого года – ровно пятьдесят лет назад.
В то время я учился в Берлинском университете. По субботним вечерам мы собирались в кафе «Монополь». Традиционные встречи в кафе с непременными дискуссиями, чтением стихов, жаркими спорами, обменом литературными новостями приятно разнообразили нашу чинную академичную жизнь. Однажды в кафе появился Шолом-Алейхем. Он направлялся на лечение в Италию и по пути остановился в Берлине, чтобы проведать свою дочь и ее семью. Сюда, в «Монополь», Шолом-Алейхем пришел со своим зятем – Микаэлем Койфманом, начинающим писателем и моим товарищем по университету.
Беседа за столом, как всегда, была оживленной, страстной. И хотя в этот вечер кафе заполнила главным образом молодежь, самым остроумным и блестящим был Шолом-Алейхем, тогда уже тяжело больной.
Но вот закончился наш вечер, страсти улеглись, и мы вышли на Фридрихштрассе. Падал первый снег. Мы, уроженцы России, обрадовались снегу, который в те минуты напомнил нам Родину. И вдруг большой, грузный Шолом Аш, словно бы угадав общее настроение, начал стремительно забрасывать нас снежками. Мгновенно в игру включился Шолом-Алейхем. В этот момент подошел толстый шуцман. По его хмурому лицу не трудно было догадаться, что он полон решимости одернуть разыгравшихся иностранцев. Но, взглянув на пожилого, улыбающегося, возбужденного Шолом-Алейхема, рассмеялся и, отойдя в сторону, с интересом наблюдал за игрой.
Расставаясь, Шолом-Алейхем пригласил меня на следующий день в гости к Микаэлю Койфману.
Здесь я уже встретил совершенно другого Шолом-Алейхема – глубокого, серьезного, пытливого, слегка иронического, жадно интересующегося самыми разнообразными вопросами – от краковского средневековья и поэзии польского поэта Выспянского до методов преподавания в высших учебных заведениях.
Узнав, что, еще будучи гимназистом, я выпустил книжку стихов, Шолом-Алейхем попросил меня прочесть какое-нибудь стихотворение из этой книжки. Сейчас-то я понимаю, что это были мальчишеские стихи, но тогда я считал себя настоящим поэтом и держался самоуверенно. Шолом-Алейхем слушал очень внимательно, откинувшись на спинку стула. Время от времени он шевелил рукой свои густые, с проседью волосы или пощипывал коротко подстриженную бородку. Ох, и досталось же мне от него и за плохие стихи, и за выспренность стиля, и за пессимистические нотки, которыми была полна моя «поэзия»!
Видя мое огорченное, убитое лицо, Шолом-Алейхем неторопливо открыл письменный стол, достал черную, с серебряным ободком авторучку – в те годы это была дорого стоящая новинка – и вложил ручку в верхний карман моего пиджака.
«Желание писать у вас есть,– сказал он серьезным тоном, как бы подчеркивая этим значительность момента.– Умение придет. Ручкой вы обеспечены. Теперь надо трудиться. И если будете трудиться, станете хорошим писателем».
...Ручка, подаренная Шолом-Алейхемом, всегда на моем письменном столе. Все свои книги я написал этой ручкой. Я никому не разрешаю ею пользоваться и никогда не выношу ее из дома – боюсь случайной поломки или потери...
Ну, а теперь продолжим нашу беседу!..
ИНТЕРВЬЮ
Их уже осталось немного, этих старых театральных репортеров – последних представителей уходящего, но гордого племени «всесведущих». Для них театр был роднее дома, дороже семьи. Они знали все – имя и отчество любого режиссера, актера или актрисы, замыслы драматургов, планы театров; как бы ни был переполнен зрительный зал, они всегда получали пропуск на лучшее место.
С одним из таких журналистов – Яковом Черновым – я сижу в жаркий летний день в кафе Дома актера. Мой собеседник лениво тянет холодный нарзан и говорит:
– Я не знаю, известно ли тебе, что Мейерхольд не любил нашего брата, нервничал, когда в печати появлялась какая-нибудь информация о его театре, и по-актерски суеверно остерегался сообщать о постановке до премьеры.
Предметом моей постоянной гордости было то, что я, как мне казалось, пользовался расположением Всеволода Эмильевича.
Однажды – кажется, это было в тысяча девятьсот тридцать втором году – я условился с Мейерхольдом о встрече. В назначенный час я вошел в его кабинет. Здесь висели тяжелые портьеры, плотно занавешивавшие окно и дверь.
В кабинете никого не оказалось.
Я провел в одиночестве минут пятнадцать, и мне стало скучно. Я потянулся в кресле, запрокинул руки за голову и зевнул. Вдруг я почувствовал, что мне неудобно сидеть. Подвернув под себя ноги, я забрался в кресло поглубже. Прошло еще минут пять. Я взял со стола газету, машинально просмотрел ее и положил на место. В этот момент мое внимание привлекла кожаная папка, лежащая на столе. Я открыл ее и увидел... список ролей. Я тут же их переписал. Затем встал, прошелся по кабинету, остановился у зеркала, посмотрел на себя в зеркало и, сам не знаю почему, вдруг высунул язык.
В это время послышался ехидный смешок, и из-за портьеры вышел Всеволод Эмильевич.
«Вот спасибо! Вот спасибо! – сказал он, довольно потирая руки.– Это именно мне и нужно было!..»
Я покраснел до корней волос и, смешавшись, недоуменно посмотрел на Мейерхольда. Он тут же пояснил свою мысль:
«Видите ли, я очень интересуюсь тем, как ведет себя человек наедине с собой. Не раз мне приходилось убеждаться, что он ведет себя довольно глупо. И вы только что дали этому красноречивый и убедительный пример. Как несуразно вы вели себя!.. Ну, посмотрите: вас буквально корчило в кресле, ваши движения не были координированы, и логическим завершением вашего поведения с самим собой явилось то, что вы сами себе показали язык!..»
Это была единственная длинная фраза, которую произнес Мейерхольд во время нашей встречи. На беседу же о своей новой постановке он затратил буквально одну минуту, после чего встал, дав понять, что аудиенция окончена.
– А насчет того, что ты тайком переписал роли, он тебе ничего не сказал? – спросил я.
– Представь себе – ни слова!..
ИНКОГНИТО
В каюту капитана среднего рыболовного траулера «Всадник» вошел длинный худой парень в «столичном» пальто и пушистой шапке, Поздоровавшись, он протянул капитану служебную записку отдела кадров Мурманского сельдяного флота, в которой говорилось, что «Волосевич Георгий Николаевич направляется на СРТ-849 «Всадник» в качестве матроса II класса».
Капитан траулера, Михаил Николаевич Черкунов, прочел направление, оценивающе посмотрел на парня, острым взглядом смерил его с головы до ног и сказал:
– Хорошо... Теперь иди к боцману...
Боцман выдал матросу белье, телогрейку, сапоги, рукавицы, рыбацкую каску-зюйдвестку и зеленый непромокаемый костюм-«рокан».
– Плавал? – спросил дрифмейстер – «мастер лова».
– Ни разу,– честно признался новичок.– Не плавал даже пассажиром...
– Ничего,– сказал дрифмеистер.– Не утонешь. Пойдешь вожаковым...
– Вожаковым так вожаковым... А что это такое?
– В море увидишь.
Описанная выше сцена произошла спустя несколько месяцев после того, как редакция «Нового мира» опубликовала повесть Георгия Владимова «Большая руда».
К этому времени писатель задумал новую работу – повесть о рыбаках.
Но как писать, не испытав на себе то, что лишь услышано от знакомых моряков, увидено чужими глазами, проверено лишь чужим опытом? Ведь самые захватывающие рассказы «морских волков» не заменят собственных ощущений, без которых не была написана ни одна мало-мальски стоящая книга.
Конечно, автор нашумевшей повести мог получить командировку от любой редакции и явиться на корабль в роли «путешествующего литератора». Но эту роль писатель решительно отверг – болтаться на судне без дела, когда другие работают на совесть, «без дураков», значило, по его мнению, с самого начала воздвигнуть незримую стену вежливого отчуждения между собой и прототипами будущей повести.
Во всем Мурманске только два человека знали, что писатель Георгий Владимов и матрос II класса Георгий Волосевич – одно и то же лицо. Это были инструктор обкома партии и начальник отдела кадров сельдяного флота. И хотя они с нескрываемой иронией отнеслись к «затее» писателя, подчеркивая трудности морской жизни и уговаривая «не делать глупостей», Владимов стоял на своем:
– Товарищи, это для меня вопрос не дискуссионный. Я только прошу, чтобы никто на судне не знал, кто я... Даже капитан...
А рыбакам «Всадника», радушно принявшим новичка в свою среду, Владимов сказал:
– Сам я из шоферов... Работал на Курской магнитной аномалии... Возил руду...
Девяносто три дня маленький рыболовный траулер бороздил воды Северной Атлантики. Девяносто три дня от зари до зари рыбаки промышляли сельдь у исландских берегов, вблизи заснеженных норвежских скал и фьордов.
Не раз налетали жестокие штормы, и тогда ходуном ходила палуба, свирепый ветер обжигал лицо, снежные заряды слепили глаза, а ледяные волны, перекатываясь через борт, сбивали с ног людей, катали по палубе бочки с засоленной сельдью... Сколько шишек набивал себе молодой моряк, какие кровавые мозоли были у него на ладонях,– ведь он многого не знал и многого не умел! Но всегда, особенно в минуты опасности, он ощущал локоть своих новых друзей, их грубоватую, но сердечную заботу, чтобы «салага» не дай бог не покалечился и не убился.
Так изо дня в день в тяжелом труде постигал писатель премудрости нелегкой морской жизни.
А в свободные от вахт часы, в тесном, насквозь прокуренном кубрике, лежа на койке, он слушал истории – комичные и печальные, забавные и горькие. Иногда, задернув над койкой занавеску, он набрасывал картины, сцены, диалоги будущей повести. В эти минуты он больше всего боялся, чтобы его «кореши» не узнали, чем он занимается...
Перевыполнив план лова, «Всадник» пришвартовался к стенке Мурманского порта.
Георгий Волосевич сошел на берег, получил расчет, паспорт, трудовую книжку. Он вновь стал Владимовым. Он собирался в Москву. Он уже купил билет на поезд, отходивший вечером, и прогуливался с матросами по улицам Мурманска. Случайно он увидел в киоске «Союзпечати» свою повесть «Большая руда» – во время плавания она вышла отдельным изданием.
Владимов купил книжку и через знакомого моряка послал ее на СРТ-849 с такой надписью:
«Капитану доблестного «Всадника» Михаилу Николаевичу Черкунову от вожакового, у которого ни разу за весь рейс не подрезал[1] вожак».
Впоследствии писателю рассказывали, что капитан недоумевающе посмотрел на книгу, не спеша открыл ее, прочел надпись, и глаза у него сделались «квадратными».
– Вот так штука! – проговорил капитан.– А я его, помнится, раза два и матом крыл!.. Что он теперь про меня напишет!..
...Повесть скоро будет закончена. Все описанное в ней увидено автором, испытано на себе. А между тем зреют новые замыслы: хорошо бы, например, написать серию рассказов о москвичах, а для этого – поработать с полгода шофером такси...
Разумеется, инкогнито.
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
Академик Отто Юльевич Шмидт был назначен редактором журнала «Природа». Он позвонил доктору биологических наук профессору Ивану Антоновичу Ефремову, желая привлечь его к работе в журнале,– в то время Ефремов был уже известен и как писатель-фантаст.
Трубку взял Ефремов.
– Здравствуйте, Иван Антонович!.. Говорит Шмидт... Хочу пригласить вас сотрудничать в журнале «Природа». Не сможете ли приехать ко мне?.. Следовало бы обстоятельно побеседовать...
– А почему бы вам не приехать ко мне? – спросил Ефремов.– Или вы уж так вознеслись, что считаете зазорным навестить меня?..
– Могу, конечно... А вы не очень высоко живете?.. У меня сердце пошаливает... трудно подниматься...
– Что это вы так быстро потеряли резвость? – тем же шутливым тоном спросил Ефремов.– Впрочем, не беспокойтесь – лифт работает...
– Ну что ж, вот и отлично!.. А можно ли приехать, скажем, послезавтра, часов в семь вечера?
– Приезжайте! – сказал Ефремов и положил, трубку.
Спустя несколько минут Ефремов сообразил, что добрый его знакомый профессор Георгий Шмидт, с которым он только что так легкомысленно разговаривал, никакого отношения к журналу «Природа» не имеет. Очевидно, произошла ошибка. Очевидно, ему звонил академик Отто Юльевич Шмидт, и Ефремов, как следует не расслышав, не понял, с кем говорит. При этой мысли Ефремова точно варом обварило. Что делать? Позвонить и извиниться? Или немедленно поехать и принести извинение лично?
Ефремов написал письмо. Он сообщил, что произошла ужасная ошибка, о которой он глубоко сожалеет. Он не мог себе представить, что разговаривает с Отто Юльевичем Шмидтом, и был убежден, что беседует со своим знакомым. При этом Ефремов извинился за неуважительный тон, в котором велся разговор.
Письмо было тут же отправлено. Узнав, что оно попало в руки адресата, Ефремов поехал к академику и извинился лично.
– Следует ли огорчаться, Иван Антонович?.. Я рад, что недоразумение разъяснилось, а впрочем, я был готов приехать к вам,– сказал Шмидт, выслушав объяснение Ефремова, и улыбнулся своей мягкой, обаятельной улыбкой.
...А Ефремов до сих пор не может вспоминать об этом эпизоде без чувства неловкости и в то же время без ощущения обаяния личности академика Шмидта, его скромности и такта.
ПОСЛЕДНИЙ ОРИГИНАЛ
Вот уже четверть века москвичи зачитываются «Заметками фенолога», которые за подписью «Дм.Зуев» появляются на страницах «Вечерней Москвы».
Читатели, разумеется, не знают – да и не могут знать! – что автор этих своеобразных, талантливых произведений Дмитрий Павлович Зуев – один из самых оригинальных людей в Москве, а вернее – последний оригинал в нашей древней столице.
Зуев пишет на «срыве» – длинных полосках газетной бумаги, пишет аршинными буквами, с какими-то немыслимыми закорючками и вензелями. Он так обильно сопровождает рукопись поправками, сносками и дополнениями, что видавшие виды редакционные машинистки соглашаются перепечатывать рукописи Зуева не иначе как разыграв их между собой на спичках.
Дмитрий Павлович редко бывает в редакции – неделями он пропадает в охотничьих хозяйствах и заповедниках. Часто Зуев встречает зори на берегах подмосковных рек и озер, проводя ночи у костра с егерями, охотниками, рыболовами. Свой великолепный словарный запас он пополняет в общении с этими людьми. Он вдохновляется, слушая пение птиц, шелест потревоженного легким ветром камыша, наблюдая, как тает утренний туман и как первые лучи солнца, едва вспыхнув над горизонтом, бросают свою позолоту на вершины деревьев.
Он приходит – нет, он врывается – в редакцию в высоких болотных сапогах, в какой-то допотопной кацавейке, возбужденный, обновленный, радостно-озабоченный и со словами: «Почет!» – небрежно пожимает нам руки, а затем забивается в какую-нибудь тихую комнату и там, низко склонившись над листом бумаги, пишет свои заметки... Как истинный художник, он работает с упоением, забывая обо всем на свете. Он спит на жестких редакционных диванах не раздеваясь и, так проработав сутки, а то и двое, входит в кабинет заместителя секретаря редакции, входит всегда с одной и той же жалобой на машинисток.
– Ну что это такое в самом деле,– говорит он, потрясая в воздухе сорокастраничной рукописью.– Это голгофа какая-то, а не машинописное бюро... Издеваются... Не хотят печатать!..
Заместитель секретаря редакции Александр Васильевич Степанов, четверть века назад добровольно принявший шефство над автором «Заметок фенолога», смотрит на Зуева уставшими глазами, бегло просматривает его творение и молча пишет в левом верхнем углу рукописи: «Срочно! В номер!»
И, конечно, никто из читателей очередного номера газеты не знает – да и не может знать! – сколько труда вложил Степанов, чтобы отделить в рукописи Зуева главное от второстепенного, убрать ненужное, подчеркнуть основное. По меткому речению Николая Семеновича Лескова, Степанов «переделывал, перечеркивал, перемарывал, вставлял, сглаживал и снова переделывал»...
– И что ты думаешь? – сказал мне однажды Степанов.– Я с удовольствием «несу свой крест»... Правда, обработка рукописи Зуева требует нескольких часов нечеловеческого труда, но, понимаешь, есть в его многословных заметках что-то такое, что захватывает тебя самого... Его проза свежа, талантлива и очень, очень самобытна...
...Зуев носит монокль, французский берет и грубые яловые сапоги. Салат из одуванчиков он предпочитает всем салатам европейской кухни,– Дмитрий Павлович мелко режет одуванчики, обильно поливает их уксусом, солит и ест. Зуев любит вспоминать, что во время первой мировой войны он был уполномоченным Красного Креста, и с гордостью замечает, что его фамилия, как лица, занимавшего сей важный правительственный пост, была указана в телефонной книге «Вся Москва». В случае, если очередной его опус почему-либо задерживается опубликованием, Зуев «переписывается» с редактором, оставляя на его столе длинные «меморандумы»... К этим его чудачествам все уже давно привыкли и относятся к ним с той снисходительной улыбкой, которая не сердит его и не обижает.