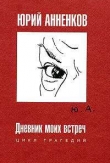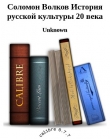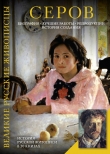Текст книги "Непрочитанные страницы"
Автор книги: Александр Лесс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Москва приветливо встретила сына выдающегося русского писателя. На Можайском шоссе Лесковым была отведена квартира. Отзывчивые соседи снабдили Лесковых кроватями и маленьким столом, который попеременно служил то кухонным, то обеденным, то письменным. Литературовед Б.М.Другов принес им этажерку для книг и стул.
Андрей Николаевич, которому в то время было семьдесят шесть лет, превозмогая нездоровье, продолжал неутомимо трудиться. Бледного, похудевшего, сильно состарившегося, в неизменной черной шелковой шапочке, его часто можно было видеть в клубах московских фабрик и заводов, в воинских частях, на вечерах в Литературном музее, в студии Радиокомитета, где он читал доклады о жизни и творчестве Николая Лескова.
Но мысль о книге не покидала его.
– Жить мне осталось немного,– говорил он не рез,– Надо торопиться, а то и не успею...
И каждый день, с утра и до вечера, он ходил по пустынным московским улицам из одного архива в другой, из одного хранилища в другое, собирая «Лесковиану», записывая на клочках бумажек – иногда на ходу – то, что удавалось найти или вспомнить.
В 1946 году Лесковы возвращаются в родной Ленинград. В восьмидесятилетнем возрасте Андрей Лесков предпринимает гигантский труд – он начинает писать свою книгу сызнова. В неустроенной, холодной квартире, пришедшей в ветхость за годы войны, он работает со страстью одержимого. Он не обращает внимания ни на болезнь, все чаще и все острее дающую себя чувствовать, ни на трудности послевоенной жизни,– он весь во власти творчества. Через несколько лет книга рождается во второй раз, и рукопись, насчитывающая тысячу пятьсот машинописных страниц, передается издательству.
Прикованный к постели неизлечимой болезнью, причинявшей ему физические страдания, А.Н.Лесков все же находил в себе силы держать корректуру, править и дополнять текст. 87-летний старец не давал себе ни минуты отдыха. Уже умирающий, он думает не о смерти. Он звонит в издательство, разговаривает с редактором, волнуется, торопит, отстаивает «спорные» места в рукописи. Это был титанический творческий и жизненный подвиг. Но как жестоко поступила с ним судьба! Автор не увидел своего труда – Андрей Лесков скончался 5 ноября 1953 года, незадолго до выхода из печати книги, над которой он работал двадцать два года. Как солдат на поле боя, Андрей Николаевич стойко переносил физические муки и умер в молчании, никому не жалуясь, мужественно уйдя из жизни, до конца исполнив свой долг перед литературой, перед памятью отца.
Думая о жизни Андрея Лескова, о его творческом подвиге, о его талантливой книге и трагической авторской судьбе, невольно вспоминаются слова Салтыкова-Щедрина:
«Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти».
КАК ПРОПАЛ РУБЛЬ
Редакция поручила мне сделать несколько фотографий Леонида Леонова, и я приехал к нему в Переделкино, где находится дачный «городок писателей».
После съемки я попросил Леонида Максимовича показать мне самое примечательное в его саду,– о нем я много слышал как о подлинной коллекции ботанических редкостей.
Я долго гулял по обширной территории сада, в котором каждое дерево посажено собственными руками писателя, взращено его любовью и его трудом. Я с увлечением рассматривал никогда не виданные ботанические диковинки, раскиданные по саду и на стеллажах в теплице,– десятки редчайших тропических растений, удивительных по красоте и форме.
Перед тем как уехать в Москву, я рискнул обратиться к Леониду Максимовичу с просьбой рассказать мне о первых его шагах на литературном поприще, о первых его знакомствах в литературном мире – это всегда бывает интересно в биографии каждого большого писателя.
Вот что рассказал мне Леонид Леонов:
– Первый «настоящий» писатель, с которым я познакомился, был Александр Степанович Яковлев. Но несколько раньше мне привелось однажды побывать в доме другого «настоящего» писателя.
Дело было так.
Я начал свою литературную деятельность со стихов в годы пребывания в гимназии. С занятиями стихосложением я покончил в тысяча девятьсот двадцатом году, перед уходом на фронт гражданской войны, и тогда же сжег две толстые тетрадки стихов. Жалеть их не стоит, стихи были плохими и, по моде тех лет, сильно заражены символизмом.
Трагическому сожжению сему предшествовала вполне комическая история.
По окончании гимназии, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, я испытал неотложную потребность показать какому-нибудь авторитетному литератору свое рукоделие, дабы оно, это авторитетное литературное имя, изрекло мне соответствующее авторонаправляющее суждение.
После долгих сомнений я отправился на Первую Мещанскую, в дом номер тридцать два, где жил В.Я.Брюсов. Этот дом стоит и сейчас, совершенно такой же, каким был розно сорок лет назад, и каждый раз, когда я проезжаю мимо, я вижу себя в длинной, плохого качества темно-серой шинели, с набором моих поэтических творений входящим в ворота этого дома.
Я вошел со двора и позвонил. Старая кухарка, помнится, даже в наколке, не пуская за порог, объявила, что «Валерий Яковлевич никого в целом свете не принимает». По советам сведущих людей, я немедленно вручил ей рубль, и она, вдруг подобрев, оговорилась:
– В пятницу приходи... Много вашего брата шатается к Валерию Яковлевичу по пятницам...
Я отправился к нему в указанный день с соответствующим трепетом, потому что имя Валерия Брюсова стояло в ту пору очень высоко на поэтическом Олимпе и книжки его я аккуратно покупал на деньги, заработанные уроками.
Памятуя наставление кухарки, я смело, как бросаются в прорубь, открыл дверь и вступил в большой и, как я вижу его теперь, отделанный в мавританском стиле вестибюль с какой-то висящей галерейкой впереди.
Чувствовал я себя, естественно, как пациент в приемной зубоврачевателя: и хотелось, потому что сомневался в себе очень, и жутковато было. Я выстоял долгую минуту, но никто не показывался. Тогда я позволил себе кашлянуть для привлечения внимания, и тотчас же на галерейке, прямо передо мной, показалась строгая, надменного вида дама, которая, увидев меня, закричала голосом, памятным мне доныне:
– Куда вы пришли?.. Что вам надо?.. Уходите немедленно отсюда!..
Произнесено сие было в столь убедительном тоне, что я немедленно и, правду сказать, не без удовольствия удалился.
Так пропал мой рубль.
С тех пор никому, никогда, ни при каких условиях я рукописей своих не показывал и ничьими наставлениями или поправками не пользовался. Настоятельно советую молодым литераторам придерживаться того же правила.
Основываясь на тех торопливых образцах своего чисто мальчишеского творчества, приводить которые остерегусь, я явственно слышу теперь, что мог бы сказать мне о них зрелый, своенравный и чрезвычайно трудолюбивый писатель. Несомненно, его суждение травмировало бы меня надолго, а я развивался как литератор с большим опозданием и лишь года три-четыре спустя приступил к первым своим рассказам, которые вернее было бы назвать всего лишь пробами пера.
Рост молодого автора целиком зависит от того, в какой мере он сам, своими, а не чужими глазами умеет видеть собственные недостатки.
Вот и все!
ПОСЫЛКА ПРИБЫЛА В ЛОНДОН
– В самую трудную пору второй мировой воины – в сентябре тысяча девятьсот сорок второго года – В посольство Советского Союза в Лондоне прибыла посылка. Она была адресована послу, и сотрудник, разбиравший почту, немедленно вручил ее Ивану Михайловичу Майскому. Он вскрыл посылку и не без удивления обнаружил между двумя листами толстого картона... ноты.
Это была партитура Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, написанной в Ленинграде в первую блокадную осень,– партитура мужественного и страстного произведения, проникнутого светлой верой в победу над фашистскими захватчиками. На заглавной странице Майский прочел надпись, сделанную мелким почерком композитора: «Дорогому Бернарду Шоу на память о Шостаковиче, 19 сентября 1942 г., Москва».
В письме, которое было приложено к нотам, Шостакович просил посла передать партитуру Бернарду Шоу. Майский тотчас исполнил просьбу композитора, а спустя два дня в кабинете посла раздался телефонный звонок. Говорил Шоу:
«Дорогой Майский, благодарю вас за подарок. Он мне очень приятен. В этом факте я вижу символ глубокого единения всех людей творческого труда в борьбе против чудовища гитлеризма...»
Шоу произнес эти слова с необычайной для него теплотой в голосе...
Академик Иван Михайлович Майский прервал рассказ и задумался. Он молчал, погрузившись в воспоминания тяжелых военных лет. В эти минуты мне показалось, что он с обостренной отчетливостью видит тот ненастный осенний лондонский день, когда в посольство прибыла своеобразная фронтовая весточка Шостаковича, слышит голос Шоу, ощущает незримые духовные нити, связывавшие двух этих великих людей в борьбе против общего врага.
– Я не знаю истинных мотивов, побудивших Шостаковича принести Бернарду Шоу столь ценный дар,– после некоторой паузы в раздумье проговорил Майский.– Скажу только, что это не было обычным памятным подарком одного художника другому. Значение дара Шостаковича неизмеримо шире и глубже. Я уверен, что композитор хотел в музыкальных образах рассказать Бернарду Шоу о том, какую горькую чашу страданий пришлось испить ленинградцам в этой войне...
...В домике Шоу в местечке Айот-Сент-Лоуренс, в Хертфордшире, в котором долгие годы жил и в котором скончался «один из самых смелых людей Европы», и сегодня можно увидеть подарок Шостаковича. Он бережно хранится близкими Шоу людьми.
«АЛЕКСАНДР ПУШКИН»
В семейном альбоме писателя Ивана Алексеевича Новикова хранится маленькая фотография. На ней изображен летчик-истребитель Юрий Горохов.
Всякий раз, когда в минуты раздумья писатель просматривал альбом, как бы листая страницы своей жизни, когда взгляд его останавливался на этом снимке, он вспоминал годы войны, Урал, эвакуацию...
...Во время Великой Отечественной войны Иван Алексеевич жил в Свердловске. Здесь он работал над романом «Пушкин в изгнании» – основным своим произведением последних двадцати лет. Напряженная работа над новыми главами, тщательная отделка ранее написанных чередовалась с публицистическими статьями, новыми стихами, размышлениями о писательском труде.
Но не только литературная работа составляла смысл его духовной жизни в эвакуации. Была у него заветная мысль. Он не делился ею ни с кем. Ей отдавал он силы своей души и сердца. Часто Иван Новиков выступал на заводах Урала, в клубах, дворцах культуры. Он читал лекции и доклады о великом русском поэте, читал отрывки из своего романа. Средства, поступавшие от этих выступлений, писатель откладывал на особый счет. Так продолжалось около года. Наконец была собрана солидная сумма. Настал момент, когда Новиков мог выполнить давно задуманное. И вот он приобретает самолет-истребитель «Лавочкин-5».Но как назвать его? Конечно, именем любимого поэта, Вскоре на фюзеляже появляется надпись: «Александр Пушкин». Проходит несколько дней, и в Свердловск приезжает «хозяин» самолета – летчик Юрий Горохов. Иван Алексеевич знакомится с пилотом и тепло провожает его на фронт.
Иван Новиков держит связь с Гороховым. Он радуется письмам летчика. Сбит первый самолет противника, сообщает Горохов... Сбиты еще два самолета... Еще три... И еще три вражеских машины...
Как были дороги сердцу писателя эти строки, написанные Гороховым, быть может, в землянке, в перерыве между жаркими воздушными боями!.. В эти минуты ему приходили на память бессмертные строки:
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
«ЛИШЬ ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ...»
В июне 1942 года фашисты начали наступление на юге. Пал Севастополь, жестокие бои шли за Воронеж. Под дробь барабанов и медь фашистских маршей в эфире звучали бахвальные речи гитлеровских генералов. «Конец России! Конец коммунизму!» – самонадеянно вещали они. В лагере военнопленных под Минском царило подавленное настроение – тысячи пленных в тоске и тревоге переживали горечь военных неудач.
В эти тяжелые дни в лагере появилась маленькая рукописная газета «Пленная правда». «Орган советской совести и непродажной чести»,– говорилось в ее подзаголовке,– «десятидневная газета бойца». Эпиграфом к газете служили строки из Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».
«Пленная правда» передавалась тайком по лазаретным койкам и по нарам рабочего лагеря. Она клеймила предателей, продававших Родину за котелок баланды или буханку хлеба. Она призывала к сплочению, к побегам из плена, обрушивалась на лагерных воров, нагло обкрадывавших пленных. Каждая строка этой газеты поднимала гражданское сознание людей, вдохновляла их, вселяла уверенность в разгроме фашизма, в победе Красной Армии.
«В нашем сознании, в наших умах,– писала газета,– неугасимо теплится искра нашей единственной правды, объединяющей наши сердца, сердца родных братьев и сестер – детей одной матери-Родины. Эта наша правда заключается в сознании того, что наша стране победит врагов, выбросит вон всех насильников и бандитов и станет снова свободной. Мы знаем, какие бы успехи ни имел временно наш враг – конечная победа за нами!»
«Гражданин СССР!.. Это высокое звание не может отнять у меня никто. Отнять это звание можно, лишь вырвав сердце из груди».
Газету делал известный писатель Степан Злобин – ее единственный автор, редактор и «издатель». Укрытый плащ-палаткой вместе с лампочкой и столом, он писал газету в течение трех ночей. За три ночи ему удалось «выпустить» «Пленную правду» тиражом в три экземпляра. В те опасные ночные часы Злобина охраняли от внезапного налета гитлеровцев надежные и бесстрашные товарищи, с которыми борьба в плену против фашистов связала писателя нерасторжимой солдатской дружбой.
Через несколько дней после выхода первого номера газеты Злобин был схвачен гестапо и отправлен в лагерь смерти в глубь Германии. Он не знал, конечно, куда девались выпущенные им три экземпляра «Пленной правды», и был убежден, что весь «тираж» безвозвратно погиб. Между тем в августе 1949 года какой-то мальчик обнаружил один экземпляр этой уникальной газеты в мусоре строительной площадки на Логойском тракте под Минском и передал находку в местный музей Великой Отечественной войны. Там она и хранится среди дорогих сердцу каждого советского человека реликвий. Случайно писатель услышал, что экспонат под номенклатурой «Пленная правда» выставлен в Минском музее Великой Отечественной войны. Злобин обратился с запросом в музей, и вот...
...В квартиру № 124 высотного дома на Котельнической набережной вошел почтальон. Он протянул писателю большой пакет. В нем оказались... фотокопии «Пленной правды»!
Шестнадцать лет спустя Злобин смотрел на эту газету так, будто видел ее впервые, будто не он, а кто-то другой писал ее в те полные напряжения лагерные ночи... Он вчитывался в каждую строку, от волнения дрожали губы, буквы двоились и туманились перед глазами...
Я пришел к С.П.Злобину, чтобы познакомиться с «Пленной правдой», с обстоятельствами ее «издания».
Прошло уже довольно много времени, а я все сидел в рабочем кабинете писателя и с волнением читал, перечитывал и не мог оторваться от этого необычного и воистину героического документа в истории советской печати.
Неожиданно к Злобину пришли два неизвестных мне человека.
– Знакомьтесь с моими друзьями,– сказал писатель.– Вот этот товарищ все ночи охранял меня, когда я писал «Пленную правду»...
ИСТОРИЯ ДВУХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
На письменном столе Степана Павловича Злобина я увидел две записные книжки – две потрепанные тетрадки, сшитые из листков тонкой, почти папиросной бумаги. В каждой – около ста страниц, густо испещренных чернильными и карандашными записями; некоторые странички обветшали, карандашные записи местами стерлись.
Заметив, что я заинтересовался записными книжками, Злобин сказал:
– А знаете, если бы не эти тетради, мой роман «Пропавшие без вести», пожалуй, не был бы написан... В них – бесценный материал, послуживший мне основой для книги.
Я спросил:
– Константин Георгиевич Паустовский в «Золотой розе» утверждает, что записные книжки писателю не нужны, что лучшей записной книжкой является его память. Она, как сказочное сито, пропускает сквозь себя мусор, но задерживает крупинки золота... Верно ли это с вашей точки зрения?
– Я думаю, что Константин Георгиевич не совсем прав,– ответил Злобин.– Я начал было писать роман, но без своих записных книжек ничего не мог сделать. Память наша, к сожалению, не самое надежное хранилище фактов человеческой жизни, особенно деталей – существенных и характерных деталей, из которых складывается всякое реалистическое художественное произведение.
Это обстоятельство именно так рассматривалось великими художниками слова и мастерами изобразительного искусства. Ознакомьтесь с подготовительными материалами к различным произведениям Пушкина, перелистайте записные книжки Толстого, Чехова, Короленко, просмотрите эскизные альбомы Леонардо да Винчи, Александра Иванова, Федотова, Серова... Иногда нам кажется, что те или иные события не в силах вытравить из нашей памяти ничто в мире: они как бы выжжены жизнью в наших сердцах и умах. Мне казалось совершенно невозможным забыть первые месяцы второй мировой войны, горестное отступление нашей армии, военные успехи фашистов, бесчисленные окружения, попытки отходов, прорывов и ужасы фашистского плена. Но проходит время, и заживают самые болезненные раны. Вы не найдете сейчас на моем лице шрамов, а ведь в него вонзилось несколько мелких осколков в последние минуты перед пленом и часть осколков так и осталась во мне. Так же «зарастают», так же стираются самые сильные впечатления, теснимые временем и бурными событиями последующих лет.
В тысяча девятьсот сорок первом – сорок втором годах, находясь в фашистском плену, я вел памятные записи. Тогда, конечно, я не думал, что они послужат мне основным материалом для романа. Просто писательское «нутро» заставляло меня записывать случаи, переживания, слова, собственные мысли и мысли окружавших меня людей. Позже начали рисоваться какие-то сцены, появились замыслы будущей повести или романа... Даже там, в царстве смерти, я не мог забросить перо и бумагу.
Летом сорок второго года я собрался бежать из Минского лагеря военнопленных. Часть записей я решил взять с собой и двойным сапожным швом надежно зашил их в стенку санитарной сумки. Вторую же часть я отдал на хранение друзьям. Накануне дня, назначенного для побега, они спрятали эти записки под стропилами крыши лазарета военнопленных.
Однако моему побегу не суждено было состояться. Предатель – старший врач лазарета Тарасевич – узнал о подготовке к побегу и выдал меня немцам. Я был схвачен и отправлен в глубь Германии, в лагерь номер триста четыре близ станции Якобшталь.
В лагере, во время обыска, сумке была отобрана вместе с записками. Старожилы лагеря с трогательным сочувствием отнеслись к моей литературной утрате и обещали, что так или иначе, а сумку мою разыщут,– рассказывает Злобин.– Предполагалось, что она хранится у гестаповского фельдфебеля-«тряпичника», в его особом закутке при лагерной тюрьме. Но кто же отважится проникнуть в нору гестаповца? За это сложное дело взялся учитель из Мцхеты Клементий Гигинейшвили
Много можно рассказать о твердом и мужественном поведении Гигинейшвили в плену, о том, как он заботился о заключенных товарищах, как освободил от кандалов посаженного в карцер военврача первого ранга Боборыкина, как устраивал свидания разъединенным в одиночках друзьям, чтобы те могли сговориться перед допросом о единстве показаний.
Под предлогом уборки помещения Клементию Гигинейшвили удалось добраться и до заветного помещения гестаповского «тряпичника», до его тюремной комнатушки – конторы, в которой хранились отнятые у пленных запретные вещи... Здесь на стене он увидел советскую санитарную сумку.
Она?.. Гигинейшвили отпорол ремешок, которым по краю была обшита сумка, Между подкладкой и стенкой он обнаружил листки – около сотни мелко исписанных страниц. Надо было успеть до утра зашить сумку двойным сапожным швом, чтобы похищение бумаг осталось незамеченным.
На следующий день, идя за обедом в «каменные бараки», Гигинейшвили засунул себе под белье мою записную книжку. Не говоря мне ни слова, Гигинейшвили увлек меня в уединенный пустой барак и там таинственно извлек из-под платья припрятанные записи.
«Ваши?» – спросил он у меня.
И, не слушая слов благодарности, Клементий пустился с ведром на кухню получать обед для тюрьмы.
Злоключения плена и частые повальные обыски, производимые эсэсовцами, заставили меня передать мои бумаги на хранение товарищам, ведавшим конспирацией в подпольной организации советских военнопленных. Они хранили в разных местах карты и компасы для побегов, антифашистские листовки и даже подпольный радиоприемник. Эти товарищи зарыли в землю в лагере и мои записки.
Судьба моя в плену сложилась необычно. Когда меня, как одного из организаторов антифашистского подполья, стало разыскивать дрезденское гестапо, мои товарищи, чтобы избавить от расстрела или повешения, внесли меня на носилках в санитарный поезд и в числе людей, тяжело больных туберкулезом, отправили в лагерь, расположенный на территории Польши. Разумеется, я не брал с собой свои записи, так как ехал а неизвестность: то ли к свободе, то ли на уничтожение в числе безнадежно больных.
В январе тысяча девятьсот сорок пятого года, при взятии войсками Красной Армии Лодзи, я был освобожден из плена и снова служил в действующей армии, работая в дивизионной газете.
В июле сорок пятого года, демобилизовавшись, я приехал в Москву, Прежде всего я решил закончить начатый до войны исторический роман «Остров Буян». После него я рассчитывал приняться за книгу о Великой Отечественной войне и плене. Ужасы, пережитые мною в фашистском плену, казались мне тогда неистребимыми в памяти. Я был уверен: достаточно, чтобы я оказался за письменным столом и передо мною лежала бы стопа чистой бумаги, чтобы воскресли и стали зримыми картины прошлого.
Однако при первых же попытках придать литературный характер воспоминаниям о войне и плене я столкнулся с тем, что многое стерлось в памяти и поблекло. Мне явно не хватало моих записок, которые исчезли.
Необходимо заметить, что после освобождения Минска Красной Армией друзья, считавшие меня расстрелянным фашистами и не знавшие об отправке меня в Германию, сообщили семье, что в Минске скрыты мои записки. Жена ездила в Минск, но найти их не смогла, хотя ей и был дан план чердака и места хранения... Пришлось примириться с мыслью, что записки погибли безвозвратно.
В сорок шестом году, на собрании в Союзе писателей, ко мне подошел мой товарищ, военный писатель Петр Гаврилов.
«Степан, ты, кажется, был в плену?» – спросил он.
«Был»,– небрежно отозвался я, продолжая слушать речь, помнится, Николая Асеева.
«Ты знаешь, у меня такой яркий материал о плене! – с увлечением сказал Гаврилов.– Интереснейшие записки!.. Может быть, ты сможешь помочь разыскать автора? Генерал Мансуров, под начальством которого я служил на фронте, прислал мне эти записки с Урала, где он живет теперь. Мансуров получил их в Германии при освобождении какого-то лагеря и требует, чтобы я непременно нашел автора...»
Признаюсь, я слушал, нехотя отрываясь от содержания речи очередного оратора, и если бы не настойчивость Гаврилова, я бы попросту прошел мимо вопроса об этих записках, но Гаврилов настойчиво продолжал шептать на ухо о своих неудачах и трудностях:
«Понимаешь, я пошел в адресный стол... Мне дали восемь адресов разных Баграмовых, но среди них – ни одного Емельяна...»
«Что-о?! – чуть ли не закричал я.– Как ты сказал?.. Повтори!..»
«Мне нужно найти Емельяна Баграмова,– ответил Гаврилов.– Это автор записок... Ты его знал?..»
«Петька, милый!.. – обняв его, радостно воскликнул я.– Это мои записки!..»
Надо сказать, что записки свои с прощальным письмом, обращенным к жене и сыну, я зашифровал этим псевдонимом. Он был известен моей жене. Направленные, как было адресовано, в Союз советских писателей, эти записки могли быть признаны только моей женой по псевдониму «Емельян Баграмов». Упоминать же свое настоящее имя я не мог, опасаясь, что записки попадут в руки фашистов.
Вместе с Гавриловым мы тотчас же пошли к секретарю Союза советских писателей Д.А.Поликарпову, у которого я и получил свою записную книжку, когда-то зарытую в землю в Германии.
Прошло еще года два.
Работая над окончанием романа «Степан Разин», я с женой жил в Доме творчества имени Серафимовича под Москвой.
Однажды в Дом творчества приехал белорусский писатель Кулаковский. С ним я познакомился за обеденным столом, где он оказался нашим соседом. Узнав, что он из Минска, моя жена стала расспрашивать его о том, как восстанавливается разрушенный фашистами Минск, и попутно рассказала о своих неудачах с поисками моих записей.
Я кстати присоединил свой рассказ о том, как через Петра Гаврилова ко мне возвратились записки, спрятанные в Германии.
«Баграмов?» – перебил меня Кулаковский.
«Да нет, тут дело не в фамилии... Она вам ничего не скажет»,– досадливо отвел я любопытство соседа и заключил свой рассказ.
«Все?» – спросил Кулаковский.
«Да, теперь все...»
«Так вот, Степан Павлович, на днях к поэту Максиму Танку, как к члену республиканской избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет, пришел школьник Юзик Валиковский. Он принес записную книжку, найденную им в бывшем лагере военнопленных. Танк прочел книжку и показал мне, Мы читали ее вместе в поезде по дороге в Москву. Она глубоко взволновала нас. В Союзе писателей мы спросили, был ли такой член союза – Емельян Баграмов? Такого не оказалось. Ну, мы и оставили эту записную книжку для прочтения в редакции «Нового мира». Ошеломленный сообщением Кулаковского, я на следующий день помчался в Москву.
В редакции «Нового мира» я наконец получил вторую мою тетрадку. Но в ней уже лежала полоска бумаги с надписью: «Степан Злобин». Тетрадка сама разыскала меня: автора записок узнали в редакции по упомянутым в прощальном письме именам моей жены и сына, хотя они и были названы без упоминания фамилии. В роман «Пропавшие без вести» из этих двух записных книжек вошли без всякого изменения не только отдельные факты, зрительные детали, выражения, реплики, но даже некоторые абзацы и страницы.
СВЕРТОК
Война застала писателя Марка Ефетова в Малеевке – подмосковном Доме творчества литераторов.
В то мягкое, омытое ночным дождем июльское утро ему работалось как-то особенно легко, было тихо, в ясном, высоком небе пели птицы, из леса тянуло запахом смолы и хвои.
И вдруг – громкий стук в дверь и крик:
– Война!..
Ефетов, ошеломленный, выбежал из комнаты. Через несколько минут в гостиной, у репродуктора, собрались все обитатели Малеевки – Лазарь Лагин, Зинаида Чалая, Павел Яльцев, переводчица Спендиарова – дочь знаменитого армянского композитора – и еще кто-то.
Передавалось Заявление Советского правительства.
Услышав, что фашисты бомбили Севастополь, Спендиарова лишилась чувств – несколько дней назад она отправила своих детей в Севастополь, на дачу ее отца.
Писатели молча и напряженно слушали радиопередачу. И хотя война уже полыхала, сознание отказывалось воспринимать страшную весть: мирная жизнь кончилась.
Вскоре был подан грузовик, и писатели отправились на станцию Дорохово.
Поезд шел до Москвы мучительно долго – почти четыре часа.
Уже вечерело, когда, направляясь с Белорусского вокзала в Союз писателей, Ефетов неожиданно встретил у Никитских ворот Викентия Викентьевича Вересаева.
Старый писатель был бледен и растерян. Под мышкой он держал какой-то большой сверток, туго перевязанный веревкой.
– Не знаю, что и делать, Марк Семенович,– проговорил Вересаев, поздоровавшись.– Вот полдня ношу, нигде не берут, не могу придумать, куда отдать...
– Что это? – удивленно спросил Ефетов, ощупывая ношу,– сверток был очень тяжел.
– Здесь все наше серебро... фамильное... – сказал Вересаев.– Хочу отдать государству... Подумайте: началась такая война!..
Ефетов посоветовал Вересаеву сдать серебро в Госбанк.
– Это на Неглинной? – спросил Викентий Викентьевич.
– Да.
И Вересаев ушел.
СУДЬБА «ПОРТ-АРТУРА»
Это было в конце 1944 года. В книжные магазины Москвы поступила новая книга – историческое повествование А.Н.Степанова «Порт-Артур».
Никто не знал этого писателя, имя его впервые появилось в литературе и ничего не говорило читателям.
Между тем, как часто бывает с подлинно талантливыми произведениями, книга А.Н.Степанова быстро нашла путь к сердцу читателей, завоевала внимание критики и принесла автору большой литературный успех.
В ненастный декабрьский день 1944 года я постучал в номер гостиницы «Москва». Дверь отворил пожилой человек, на вид лет пятидесяти пяти, высокий, худой, с седыми волосами, бледным морщинистым лицом и низким грудным голосом.
Это был писатель Александр Николаевич Степанов, к которому меня привело «очередное» задание редакции.
«Очередное» задание!.. Сколько раз бывало, что, отправляясь на это так называемое «очередное» задание, я привозил в редакцию лишь сухую информационную заметку или короткое интервью, жизнь которых кончалась с выходом следующего номера газеты. Но бывало и так, что «очередной материал» вдруг засветится весь изнутри и никак «не хочет» укладываться в рамки информационной схемы.
Именно так случилось на этот раз. Спустя полчаса на столе появился отличный по тому времени завтрак – чай, хлеб, консервы. Александр Николаевич, прихлебывая густой остывший чай, рассказывал мне историю своей жизни, историю книги.
...Я перелистываю свой репортерский блокнот и читаю запись, сделанную более двадцати лет назад. Она воскрешает во мне то самое чувство, какое я испытал в памятный декабрьский день,– рассказ Степанова показался мне тогда сюжетом задуманной им фантастической повести, столь удивительной и невероятной представлялась мне и его биография, и история его книги.
Александр Николаевич Степанов родился в семье потомственных артиллеристов – его отец, дед, прадед и прапрадед были артиллеристами русской армии. За последние сто пятьдесят лет не было ни одной войны, в которой не сражался бы кто-нибудь из семьи Степановых. Сам же Александр Николаевич участвовал в первой империалистической, гражданской и Великой Отечественной войнах.
В 1904 году ему, двенадцатилетнему мальчику, привелось быть свидетелем обороны Порт-Артура.
В годы первой мировой войны А.Н.Степанов начал службу младшим командиром гвардейской артиллерии и постепенно дошел до командира батареи. После Октябрьской революции солдаты избрали его командиром артиллерийской бригады. В 1918 году он сражался под Нарвой и всю гражданскую войну провел в рядах артиллерии Красной Армии.