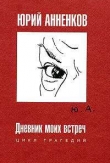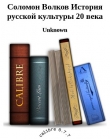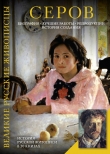Текст книги "Непрочитанные страницы"
Автор книги: Александр Лесс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
В ночь на 17 марта 1921 года, во время штурма Кронштадта, Александр Николаевич был контужен разорвавшимся снарядом, провалился под лед и едва не погиб. Он тяжело заболел и 15 сентября 1921 года был демобилизован.
Инженер по образованию, Степанов начал работать по специальности – служил на различных заводах и стройках, преподавал в высших учебных заведениях, вел научно-исследовательскую работу.
В 1933 году болезнь на долгие месяцы приковала его к постели.
В те томительные дни, казавшиеся ему бесконечными, Александр Николаевич много передумал о событиях, свидетелем и участником которых он был.
Тогда-то он и задумал написать порт-артурскую эпопею.
Разумеется, личных воспоминаний было недостаточно. Пришлось приняться за тщательное документальное изучение эпохи. Александр Николаевич стал выписывать книги из Москвы, Ленинграда, Харькова, Воронежа, Ростове-на-Дону. Он проштудировал официальную историю русско-японской войны и изучил более двухсот русских и иностранных трудов. Писателю удалось разыскать комплект газеты «Новый край», издававшейся в осажденной крепости. Много ценных сведений дали ему и участники обороны Порт-Артура.
– Оправившись от болезни,– рассказывал Степанов,– я вновь начал заниматься инженерным делом, не прекращая, однако, работы над «Порт-Артуром», Утром я был занят чертежами, формулами, расчетами, а вечером на смену чертежам приходили исторические монографии, на смену формулам – диалоги. Не могу не отметить дружеской помощи Алексея Силыча Новикова-Прибоя. Прочитав посланную рукопись, он откликнулся теплым письмом – Алексей Силыч одобрил и поддержал меня, тогда еще совсем неопытного литератора.
Великая Отечественная война застала меня в Краснодаре, где я жил и работал. Только что была закончена вторая часть повествования. Третью часть я написал в июле – сентябре тысяча девятьсот сорок первого года. В это время гитлеровцы уже подходили к Кубани и почти ежедневно бомбили Краснодар. В такой обстановке я и закончил свой труд.
Краснодарское краевое издательство решило выпустить «Порт-Артур» во что бы то ни стало. Оккупанты были уже в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре, нередко под бомбежкой, самоотверженно трудились наборщики, заканчивая набор последних листов «Порт-Артура». Первого января тысяча девятьсот сорок второго года вышел сигнальный экземпляр книги, к июню был напечатан тираж, а в первых числах августа фашистские орды наводнили Кубань. В последнюю минуту я вылетел из Краснодара в Москву. Все рукописи – около четырех тысяч страниц – пришлось, конечно, оставить.
Полгода тянулась над Краснодаром темная ночь фашистской неволи. Гитлеровцы уничтожили весь тираж книги. Я считал погибшими и свои рукописи. Но нашелся человек, который с опасностью для жизни сохранил мой писательский архив до последней бумажки. Это была моя ученица – инженер-технолог Мария Александровна Мишурова. Ей я обязан тем, что смог восстановить рукопись «Порт-Артура», недавно изданную Гослитиздатом.
____
Стук в дверь прервал нашу беседу. Александр Николаевич встал из-за стола и поспешил отворить дверь, Через минуту в комнату вошла молодая женщина. Представляя ее мне, Степанов сказал:
– А вот и Мария Александровна Мишурова, познакомьтесь, пожалуйста...
Я не мог себе представить, что еще тут же встречу и Мишурову, и потому несколько растерялся, услышав ее фамилию. Знакомясь, я пробормотал что-то полагающееся в таких случаях, а спустя некоторое время все-таки попросил Мишурову рассказать, каким образом ей удалось сохранить рукописи.
– В августе тысяча девятьсот сорок второго года,– начала свой рассказ Мария Александровна,– когда гитлеровцы подходили к Краснодару, Александр Николаевич вылетел в Москву. Зная, что я не могу эвакуироваться из-за тяжелой болезни матери, он попросил меня взять на хранение его рукописи. Я согласилась не задумываясь. Через несколько дней фашисты захватили Краснодар. Они сожгли весь тираж «Порт-Артура», считая эту книгу опасной и вредной.
Чемоданы с рукописями я зарыла в сарае. Почва в городе очень влажная, и я асе время тревожилась, как бы рукописи не испортились. Несколько раз я порывалась проникнуть в сарай и выкопать чемоданы, но сделать это было не легко – дом наш был занят гитлеровцами, которые следили за каждым нашим шагом. Попытаться выкопать чемоданы можно было только ночью, да и то с огромным риском – хранение каких бы то ни было рукописей каралось расстрелом. Темной осенней ночью я принялась выкапывать чемоданы. В это время к сараю подошли фашисты. Услышав немецкую речь, я замерла. Стоило им меня заметить, как я немедленно попала бы в гестапо. Прошло несколько томительных минут, показавшихся мне вечностью. Наконец воцарилась тишина. Я быстро выкопала чемоданы и осторожно перенесла их в квартиру.
Вскоре оккупанты выгнали нас из дома, и мы вынуждены были перебраться на другую квартиру. Конечно, вещи пришлось переносить на себе. Я несла один из чемоданов, рядом со мной шла моя маленькая дочь. На одном из перекрестков нас неожиданно остановил полицай:
«Покажи, что несешь в чемодане!» – потребовал он.
Я попала в критическое положение. Но тут из беды, сама того не сознавая, меня выручила дочь. Она держала небольшой сверток с сахаром, который я с огромным трудом достала для нее. Девочка протянула немцу свою драгоценную ношу. Полицай взял сахар и разрешил нам идти.
Оккупанты часто производили повальные обыски в поисках оружия и листовок. Пришли они и к нам. Я уже боялась зарывать чемоданы в землю и рассовала рукописи под подушки и в тюфяк, на котором лежала больная мать. Мы упросили гитлеровцев не тревожить больную, и они ограничились поверхностным осмотром квартиры и кровати, так и не обнаружив рукописей. После ухода фашистов я вновь спрятала рукописи в чемоданы.
Незадолго перед бегством из Краснодара фашисты подожгли соседний дом, подозревая, что в нем живет семья партизана. Тушить огонь они не разрешали. Загорелся и наш дом. Мы стали вытаскивать самые необходимые вещи. Я вновь перетащила чемоданы в подвал, завалив их всякой домашней рухлядью.
В день ухода из Краснодара гитлеровцы рыскали по домам в поисках чемоданов, чтобы увезти в них награбленное имущество.
Кто-то донес, что у нас есть чемоданы. Фашисты извлекли их и выбросили все бумаги на пол. Один из гитлеровцев уже ткнул в них зажженную спичку. Но тут прибежала я и бросилась подбирать листы. В этот момент на улицах послышалась ружейная стрельба – воины Советской Армии ворвались в город. Фашисты в панике выбежали из подвала. Драгоценные для меня рукописи были спасены и через некоторое время вручены Александру Николаевичу Степанову.
СТРОКИ БОРЬБЫ
...Царь испугался – издал манифест:
Мертвым – свободу! Живых – под арест!..
Эти две строки я услышал еще в детстве и запомнил на всю жизнь. Они передавались изустно, они стали народными, вошли в наше сознание, в наше сердце.
Но, как часто бывает, я не знал, кто автор этих строк.
Недавно я познакомился с ним. Павлу Александровичу Арскому – старейшему советскому поэту, одному из первых рабочих поэтов «Правды», участнику трех революций и штурма Зимнего дворца – исполнилось семьдесят пять лет. В приветственной телеграмме, посланной юбиляру, Николай Тихонов почтительно назвал его «запевалой пролетарской поэзии».
Вот он сидит передо мной – старый моряк, поэт, коммунист. У него бледное лицо и светлые задумчивые глаза. Он опирается на массивную палку и неторопливо рассказывает историю двух строк, ставших знаменитыми...
– В тысяча девятьсот пятом году служил я матросом на военном корабле «Сестрица» в Севастополе. Однажды боцман нашел под моей койкой прокламацию. Я знал, что мне грозит арест. Решил бежать, но на следующий день я и два других матроса были арестованы и преданы военно-полевому суду.
Приговорили нас к тюремному заключению на разные сроки. Спустя некоторое время нам удалось бежать. Я направился в Полтаву, где жили мои родители. Жил нелегально по подложному паспорту на имя Сидорова. Вскоре был издан царский манифест. В городе возникла демонстрация. Мы пошли к тюрьме освобождать политических заключенных. Внезапно появилась полиция, налетели казаки, жандармы. Они стали разгонять и избивать демонстрантов. Я пытался скрыться и уже перелез через какой-то забор, как вдруг – удар плетью па спине, и чьи-то сильные, цепкие руки схватили меня.
Тюрьма. Допрос. Провел я в заключении две недели и был отпущен «за отсутствием состава преступления».
Сидел я в камере и все думал: как же это так – манифест и – разгон демонстрантов, тюрьма?.. Сам не знаю почему, но рука потянулась к перу и бумаге. Правда, я и раньше писал стихи, но больше о любви, о луне, о цветах...
Но в тюрьме было не до стихов о луне. Там родилось вчерне стихотворение, которое я назвал «Красное знамя». В нем-то и есть две запомнившиеся вам строчки... Отделал я стихотворение уже дома, возвратясь из тюрьмы... А знакомые студенты опубликовали его в листовке...
Это было мое первое напечатанное произведение.
В то время в Полтаве жил Владимир Галактионович Короленко. Я пришел к нему, показал стихотворение, он похвалил его,
«Вам надо больше, упорнее работать над стихами... Пишите о тяжелой доле трудового народа... Зовите его к борьбе за свободу, за счастье!..» – напутствовал меня Владимир Галактионович.
...Минуло почти шесть десятилетий с той поры, как появилось первое печатное произведение Павла Арского. Но старый поэт – автор многих сборников стихов, рассказов и пьес – не сложил оружия, с которым прошел сквозь бури и грозы трех революций. Я смотрю на Павла Александровича, и мне кажется, что годы словно бы пронеслись мимо и не коснулись его – так много в нем энергии, жажды деятельности, внутреннего запала, который отличает бойцов ленинской гвардии.
ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ»
«МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ ЕГО ГЛАЗА!..»
В поисках героя для повести о битве под Москвой писатель Александр Бек приехал в феврале 1942 года в гвардейскую панфиловскую дивизию.
Дивизия стояла на Калининском фронте, в лесу, близ города Холм.
Из этих мест только что были изгнаны фашистские части, деревни были сплошь сожжены, командиры и бойцы жили в блиндажах и землянках.
Среди заболоченного леса, на белой от снега поляне, сохранился домик. Случилось так, что писатель попал в этот домик в тот час, когда там встретились командиры двух полков – пожилой полковник и молодой капитан-казах. Здесь они обсуждали план наступления, в котором предстояло участвовать обоим полкам.
Александр Бек познакомился с командирами и получил разрешение присутствовать во время обсуждения. Автором плана был полковник. Казах – человек с резкими чертами и резкими движениями (позже Бек узнал его имя: это был Баурджан Момыш-Улы) – в острых, лаконичных выражениях вдребезги разгромил план полковника. Писатель не без удивления следил за доводами молодого офицера, чувствуя их силу. В конце концов с доводами капитана согласился и полковник. План был изменен. Беку понравился резкий, самобытный язык капитана, его смелость и ум.
Через некоторое время капитан и полковник должны были разойтись по своим блиндажам. Писателю предстояло решить: с кем пойти? Полковник командовал частью, в которой еще совсем недавно сражались легендарные 28 панфиловцев, и все корреспонденты центральных газет обычно шли в этот полк. Но Бека привлекал казах. Писатель решил: пойду с ним.
На несколько минут писатель зачем-то вышел из комнаты. Вернувшись, открыв без стука дверь, Бек вдруг услышал, как казах сказал;
– Мне не нравятся его глаза!..
Это ошеломило писателя. «Вот как! Ему не нравятся мои глаза!» – подумал он. И в то же мгновение Беку показалось, что, заметив писателя, молодой командир стал говорить о другом – об артиллерийской батарее, о ее наблюдателях и прочем.
В эту минуту писатель поколебался: стоит ли ему идти с казахом, если тому «не нравятся его глаза»?
Вскоре полковник и капитан простились и разошлись. Бек последовал за капитаном. О нем, об этом храбром и волевом командире, читатели знают по повести «Волоколамское шоссе».
Некоторое время спустя, познакомившись с Момыш-Улы поближе, Бек спросил его:
– Баурджан, почему тогда, в нашу первую встречу, вы сказали: «Мне не нравятся его глаза!»?
Момыш-Улы не сразу вспомнил эти слова, а вспомнив, рассмеялся:
– Я же говорил об артиллеристах... Мы называем «глазами» артиллерийские наблюдательные пункты... Так вот, мне не понравились «глаза» одного артиллерийского дивизиона!..
ПРОПАВШАЯ РУКОПИСЬ
– Представляете ли вы себе, что значит для писателя пропажа готовой рукописи, не имеющей копии? – воскликнул Александр Бек.– Я нисколько не преувеличу, если скажу, что для литератора это страшное несчастье. Это – потеря детища. Между тем я пережил однажды такое горе...
– О какой же рукописи идет речь? – спросил я писателя.
– О моей повести «Волоколамское шоссе».
– Впервые я побывал в панфиловской дивизии в январе-феврале тысяча девятьсот сорок второго года. Когда мне показалось, что я уже владею материалами будущей повести и как будто неплохо изучил жизнь дивизии, я решил ехать в Москву. Комиссар Талгарского полка Петр Васильевич Логвиненко – кубанец со светлым чубом и светлыми серыми глазами – полушутя-полусерьезно напутствовал меня:
«Вы побывали в орлином гнезде... Смотрите же, не окажитесь глупым птенчиком!»
Я не сразу понял смысл этих слов, хотя много думал о них. Впоследствии я догадался, что имел в виду комиссар: повесть, которую я собирался написать, должна быть достойна панфиловцев, их боевых традиций, их героического духа...
Прошел месяц. Я напряженно работал над повестью, но вдруг почувствовал, что еще плохо знаю панфиловцев, что «материала», как мы, литераторы, говорим, явно не хватает.
Съездил в дивизию еще раз.
«Уже написали?» – спросили меня.
«Нет, товарищи, не написал,– ответил я, смущаясь.– Надо еще пожить с вами, посмотреть, поговорить...»
Но и второго раза мне оказалось недостаточно. Пришлось приехать в третий раз, а затем – в четвертый. И по-прежнему – без рукописи. В конце концов был дан приказ «больше не пускать этого корреспондента, который ничего не пишет».
Наконец летом сорок второго года я засел за повесть. Получил для этого отпуск из редакции журнала «Знамя», где состоял военным корреспондентом, снял комнату на станции Быково, почти безвыездно сидел там и писал. Бывали, конечно, минуты сомнений, мне казалось, что я все-таки выгляжу «птенчиком».
Однажды мне потребовалось поехать в Москву. На даче никого не оставалось. Я побоялся пожара или какой-нибудь другой случайности, которая могла бы вдруг уничтожить мои дневники, заметки, черновики и почти законченную рукопись. Аккуратно сложил все материалы, сунул их в вещевой мешок, надел его на плечи: так будет целее!
В Москве заглянул домой. Жена, провожая меня на дачу, дала с собой бидон с супом и строго предупредила:
«Я знаю тебя... Ты задумаешься и обязательно оставишь бидон в вагоне...»
Я дал честное слово, что не оставлю.
И вот в дачном поезде я еду в Быково. Положил рядом с собой вещевой мешок, а в ноги поставил бидон. И действительно, крепко задумался. Все думал и не мог решить, как построить действие в последних главах повести. И вдруг прямо над головой услышал голос проводника:
«Быково!..»
Поезд уже остановился. Я вспомнил, что должен что-то не позабыть... Ах, да, бидон! Схватив его, выскочил на платформу. Поезд тронулся. И только тогда взметнулась мысль: «Мешок!» Он остался в вагоне. Все – записки, материалы, черновики и почти готовую рукопись книги – уносил поезд.
Я бросился к начальнику станции, он позвонил на соседнюю, на конечный пункт. Но мешок исчез. Не обнаружил я его и в бюро находок.
Что делать? Не буду описывать авторских переживаний – все ясно и так. Редакция наседала, требуя повесть. Время от времени напоминали о себе и представители дивизии. А я был банкротом...
Мне ничего не оставалось, как писать повесть заново. Но теперь она потеряла сугубо документальный характер – ведь у меня уже не было моего архива. Пришлось дать волю воображению, фигура центрального героя, сохранившего свою подлинную фамилию, все более приобретала характер художественного образа, правда факта подчас уступала место правде искусства.
Так и родилось мое «Волоколамское шоссе».
Возможно, случайность, унесшая готовую рукопись строго документальной повести, позволила мне написать совсем иное, более художественно обобщенное произведение, но другого выхода у меня попросту не было.
– А какой же вариант был лучше? – спросил я Бека.
– Трудно сказать,– ответил он раздумчиво.– Вероятно, тот, который напечатан...
ЗАМЕЧАНИЕ ТВАРДОВСКОГО
– В тысяча девятьсот сорок втором году мне довольно часто приходилось встречаться с Александром Трифоновичем Твардовским. Он был тогда майором, работником газеты Западного фронта «Красноармейская правда», редакция которой находилась в Москве. Жил он на своей московской квартире и по утрам, перед уходом в редакцию, с увлечением писал «Василия Теркина». Я же в то время был военным корреспондентом журнала «Знамя», тоже жил в Москве и работал над повестью «Волоколамское шоссе».
Однажды вечером Твардовский пришел ко мне в гости.
Он спросил:
«Как дела?.. Что ты написал?..»
У меня в этот момент была готова глава, в которой описывался расстрел солдата, прострелившего себе руку.
Я прочитал Твардовскому эту главу.
Он слушал внимательно, а затем сказал:
«Да... Следовало, конечно, его расстрелять... Но мне солдата все же жалко... Понимаешь, жалко мне того, кого расстреливают...»
Больше он ничего не сказал.
Его слова меня задели и заставили призадуматься.
И в продолжение нескольких дней я нет-нет да и возвращался мыслью к замечанию Твардовского.
Как же сделать так, чтобы читателю не было жалко предателя и труса?
Однажды у меня мелькнула мысль: а что, если ввести читателя в некоторое заблуждение – сделать так, будто мой герой Баурджан Момыш-Улы прощает предателя? Этим будет дан выход чувству жалости, и тогда читатель, которого я снова верну к реальности, уже спокойно и без чувства жалости воспримет суровый суд командира.
Я так и поступил. Вписал страницу «прощения» – картину, которая лишь промелькнула в уме Момыш-Улы. Глава зазвучала по-иному и стала, кажется, сильнее.
Как-то к случаю, много времени спустя, я спросил Твардовского:
«А теперь его не жалко?»
Он ответил:
«Да, пожалуй, теперь не жалко!..»
ЭКСПРОМТ
Осень 1942 года, студия Радиокомитета, поздний вечер.
Только что окончились радиопередачи, и Василий Иванович Качалов, выступавший в последней программе с чтением стихов, вышел на улицу. Было темно, холодно, падал мокрый снег.
Качалов шел по Малой Никитской улице, направляясь к Никитским воротам. Он был в шубе, глубоких галошах и высокой каракулевой шапке. Василий Иванович шел медленно, слегка опираясь на массивную палку. Рядом шагал диктор Радиокомитета Всеволод Шевцов. Тайно влюбленный в Качалова, он провожал его домой, в Брюсовский переулок.
На улице пустынно и тихо. Изредка в непроглядной тьме молчаливой тенью промелькнет прохожий или медленно проедет автомашина с синими маскировочными фарами. И только густое черное небо временами вздрагивало короткими отблесками далеких оранжевых зарев.
У Никитских ворот Качалова и Шевцова остановил комендантский патруль:
– Ваши пропуска!..
Шевцов предъявил пропуск.
– А у вас?..
Качалов неловко замялся.
– Это – знаменитый артист, Василий Иванович Качалов,– поспешил на выручку Шевцов.– У него нет пропуска... Пропустите его, пожалуйста... Он живет совсем рядом, вот здесь, в Брюсовском переулке...
Пауза.
Тонкий луч карманного фонаря скользнул по лицам и на мгновение остановился на лице Качалова.
– Я не знаю товарища Качалова в лицо,– смущенно признался офицер.– Откуда мне знать, что это он?..
Качалов усмехнулся и заговорил – заговорил неожиданно стихами:
...Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын,
Как русский,– сильно, пламенно и нежно.
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный...
Качалов читал бессмертные лермонтовские строки, читал своим неповторимым голосом – глубоким, покоряющим. Он читал в тревожной тишине военной ночи, и потому впечатление было необыкновенно и ошеломляюще.
Василий Иванович окончил чтение так же неожиданно, как начал.
– Проходите, товарищ Качалов! – дрогнувшим голосом сказал офицер и взял под козырек...
МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕН, НО...
Была вьюжная зимняя ночь сорок второго года, когда в редакции «Моряка» – газеты Северного флота – раздался телефонный звонок.
– Капитан, вас вызывает член Военного Совета,– сказал редактор, обращаясь к одному из литературных сотрудников.
Спустя несколько минут капитан уже был в кабинете вице-адмирала Николаева.
– Слушайте, капитан,– начал вице-адмирал,– не находите ли вы, что наши матросы имеют право на увлекательное чтение?.. Так вот, напишите какую-нибудь интересную вещь с острым сюжетом, печатайте ее с продолжением, чтобы читатели с нетерпением ждали следующего номера газеты... Но имейте в виду: это произведение должно носить правдоподобный характер... Вы же понимаете, что мы, к сожалению, не можем описывать подлинные действия наших разведчиков в немецком тылу в Норвегии... Эти подвиги нужно выдумать...
Таким образом, член Военного Совета дал не только задание, но и как бы конкретизировал тему.
Капитан стал работать над военно-приключенческими повестями. Вскоре на страницах «Моряка» одна за другой появились повести «Черное кольцо», «Таинственный сундук», «В понедельник тринадцатого». В них описывались боевые подвиги в фашистском тылу старшины 2-й статьи Крылова – умного, волевого, безудержно смелого разведчика. Воображением автора Крылов попадал в самые невероятные переделки и, преодолевая чудовищные препятствия, ежеминутно рискуя жизнью, с честью выполнял задания командования.
Все три повести подписывались одним и тем же именем: «Старшина 2-й статьи Крылов».
Повести имели большой успех – каждый номер газеты зачитывался буквально «до дыр».
Капитана знали на флоте как работника редакции, и поэтому всякий раз, когда он приезжал в части и подразделения, моряки засыпали его вопросами; какой из себя Крылов? Есть ли у него семья? Откуда он родом? На самом ли деле он старшина 2-й статьи?..
– Товарищи, – отшучивался капитан,– вы же знаете, что я не имею права разглашать военную тайну. Крылов – человек очень скромный; после войны – я уверен – он объявится, и тогда мы будем иметь удовольствие его видеть и с ним беседовать...
...В 1943 году, будучи в командировке в Москве, капитан пришел к редактору газеты «Красный флот» генералу Мусьякову.
С места в карьер генерал стал расхваливать повести старшины 2-й статьи Крылова:
– И откуда вы только выцарапали этого старшину? Самородок ваш старшина!.. И знаете, капитан,– продолжал генерал, придав голосу выражение значительности,– я это говорю не только от своего имени, а и от имени армейского комиссара первого ранга товарища Рогова. Кстати сказать, товарищ Рогов наградил старшину медалью...
– Ах так,– воскликнул капитан,– тогда давайте мне мою медаль!.. Старшина Крылов – это я.
– Ну, это ты брось! – погрозив пальцем капитану, сказал генерал.– Не трави!..
Тогда обескураженный капитан стал привлекать свидетелей, которые подтвердили, что он и есть старшина 2-й статьи Крылов.
Но и «показания» свидетелей не помогли.
Капитану мягко дали понять, что старшина награжден не за повести, а за подвиги в немецком тылу.
– Так я и не получил свою медаль,– с улыбкой сказал мне писатель Юрий Герман.
«АЛЛЕЯ ПЕТРОВИЧА»
«...когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом буду виноват и я...»
А.П.Чехов, «Дядя Ваня»
Последние годы жизни Петр Петрович Вершигора провел в родной Молдавии. Он жил в Голерканах – маленьком селе на берегу Дубоссарского моря, в шестидесяти километрах от Кишинева. Его крохотный домик-шалашик стоял в глубине густого леса. Здесь Вершигора работал над новым романом.
...В середине лета 1962 года в Голерканы приехал фронтовой товарищ Вершигоры – Владимир Зеболов, тот самый неистовый партизанский разведчик, который, не имея кистей обеих рук, добровольно пошел на Великую Отечественную войну и с первого до последнего дня сражался в рядах партизанских соединений Ковпака и Вершигоры. Вершигора много вдохновенных страниц посвятил Владимиру Зеболову в знаменитой своей книге «Люди с чистой совестью».
В тиши молдавской деревни Вершигора и Зеболов, ставший преподавателем истории партии Новозыбковского педагогического института, писали книгу «Партизанские рейды»,– незадолго до смерти Петра Петровича она вышла в издательстве Академии наук Молдавии «Штиинца».
Однажды Вершигора и Зеболов гуляли по берегу Дубоссарского моря. Перед ними в сиреневой дымке лежала земля Молдавии, искромсанная оврагами. Они как бы вспарывали землю, обнажая пласты чернозема. Его размывали дожди и выветривали знойные степные ветры. Вершигора остановился и, глядя вдаль, с горечью проговорил:
– Знаешь ли ты, какое это богатство – молдавский чернозем?! Ведь ему цены нет!.. А вот во время ливней этот самый чернозем вместе с водой уносится по оврагам в реки и моря... Спасать землю надо!..
Зеболов не сразу понял своего друга.
– Спасать?.. Как?..– удивился он.
– Сажать леса! – ответил Вершигора.– Леса, леса и только леса!..
Уловив немой вопрос Зеболова, Вершигора продолжал:
– Понимаешь, Володя, нет такого памятника, который можно было бы сохранить на века... Бронза и та разрушается... Бессмертным памятником являются только книги, выдержавшие испытание временем, да леса, посаженные рукой человека...
И тогда, может быть, Зеболову и пришла на ум мысль посадить у себя на Брянщине, в Новозыбкове, молдавские пирамидальные тополи, которые никогда не росли в этой полосе России.
– Помогите достать саженцы пирамидальных тополей! – попросил Зеболов, загоревшись неожиданно возникшей идеей.
Петр Петрович ничего не ответил, только согласно кивнул головой. Зеболов хорошо знал этот молчаливый жест Вершигоры,– он был скуп на обещания, но всегда стремился сделать больше того, о чем его просили.
И Вершигора исполнил просьбу товарища, исполнил раньше, чем Зеболов мог даже предположить.
В один теплый осенний день в Новозыбков прибыла грузовая автомашина. В кузове деревцо к деревцу лежали двести саженцев пирамидальных тополей – по ходатайству Вершигоры их прислал Молдавский ботанический сад.
Прошло немного времени, и был устроен воскресник – живой, горячий, дружный, какого еще не видел Новозыбков. Студенты всех факультетов, вооружившись лопатами, копали ямки, любовно высаживали тоненькие и хрупкие деревца. Так возле нового здания института, в самом центре города, появилась аллея, не предусмотренная никакими архитектурными планами.
Назвали ее «Аллеей Петровича» – в честь писателя, Героя Советского Союза, генерал-майора Петра Петровича Вершигоры.
С тех пор в институте установлено твердое правило: каждый выпускник биологического факультета, уезжающий на работу в школы области, получает вместе с дипломом и саженец пирамидального тополя; он обязан посадить его там, где будет работать.
Так на Брянской земле растут, шумят, тянутся к небу пирамидальные тополи Молдавии. И каждое деревцо, вырастая, как бы утверждает вечную славу писателю и воину.
КНИГА, РОЖДЕННАЯ В ЗАСТЕНКЕ
Писатели обычно не склонны раскрывать двери своей творческой лаборатории. Между тем у каждой книги, как и у каждого человека, бывает своя биография, свой жизненный путь, своя судьба.
...Я вспомнил II съезд писателей, полное шумного оживления фойе Колонного зала Дома союзов и свою беседу с литовским писателем Александром Аугустиновичем Гудайтисом-Гузявичюсом.
– Я никогда не думал стать писателем и не мечтал о литературной деятельности. И если все же я стал литератором, то этим я целиком обязан своей революционной работе.
Так ответил Александр Гудайтис-Гузявичюс на мой вопрос о том, как он работал над своим романом «Правда кузнеца Игнотаса».
...Александру Гузявичюсу было девятнадцать лет, когда в конце 1927 года литовская фашистская полиция арестовала его за революционную деятельность. Тогда же он был исключен из 7-го класса гимназии в г.Укмерге. 7-й класс ему удалось окончить в Каунасе, позже он вернулся в Укмерге, провел антиимпериалистическую массовку молодежи. Вскоре Гузявичюс снова приехал в Каунас, чтобы продолжать учение. Еще не окончилась первая четверть учебного года, как полиция стала преследовать юношу,– впоследствии выяснилось, что на массовке был провокатор, который выдал его полиции.
Гузявичюсу пришлось оставить гимназию и целиком перейти на подпольную работу. В 1931 году полиция арестовала молодого революционера. Суд приговорил его к тюремному заключению на пять лет.
– В тюрьме, – вспоминает писатель,– находилось много коммунистов. Люди томились здесь долгие годы. В тюремной камере я познакомился с кузнецом Антанасом Курклетисом. Тогда, конечно, я не мог подумать, что через двадцать лет этот человек будет прототипом главного героя романа – Игнотаса Варкалиса и что эта встреча в тюрьме изменит привычное течение моей жизни.
Курклетис был старым фронтовиком. В долгие часы вынужденного бездействия он рассказывал мне о своей жизни, об участии в штурме Зимнего дворца, о том, как создавалась Красная гвардия в Восточной Литве. Рассказы Курклетиса завладели моим воображением. Я стал записывать все, что слышал от этого мужественного, много испытавшего человека. Чтобы скрыть записи от тюремщиков, я вынужден был, писать на маленьких клочках курительной бумаги. Я зашивал их в козырек картуза, в валенки—между двумя подошвами, в складки и швы тюремной одежды. Так день за днем, месяц за месяцем вел я этот своеобразный дневник жизни Курклетиса.
В тысяча девятьсот тридцать третьем году меня неожиданно перевели из Каунасской тюрьмы в Шауляйскую. Во время обыска много записок погибло. Уцелела лишь небольшая часть – та, что была зашита в одежде. Шауляйская тюрьма оказалась гораздо суровее Каунасской: полы и стены камер здесь были сплошь бетонированные, и спрятать что-либо от зорких глаз тюремщиков почти не представлялось возможным. Тем не менее я стал работать над романом. Каждый день страницы общей тетради покрывались набросками сцен, эпизодов, диалогов. Разумеется, приходилось тщательно скрывать эту тетрадь. Внезапно обрушился новый повальный обыск, и тетрадь безвозвратно погибла.
К этой теме я не возвращался несколько лет. Только в тысяча девятьсот сорок втором году я почувствовал потребность вернуться к начатому когда-то роману. Развитие партизанской борьбы на территории оккупированной гитлеровцами Литвы воскресило в памяти исторические события героического прошлого моей родины. Я стал усиленно работать над романом. Но мне не хватало главного – записей, погибших в тюрьме. Наконец, в сорок четвертом году мне удалось разыскать Курклетиса. С его помощью я возобновил записи, когда-то сделанные в тюрьме...