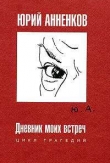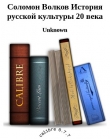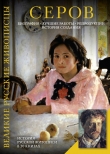Текст книги "Непрочитанные страницы"
Автор книги: Александр Лесс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
...Так иногда, казалось бы, случайная встреча решает писательскую судьбу и дает направление труду всей жизни.
ТОВАРИЩ ДЕТСТВА
Мне – четырнадцать лет. Я работаю курьером в редакции харьковской газеты «Вicти» и попутно пробую свои силы в отделе информации, поставляя спортивные сообщения и заметки о происшествиях. У меня нет приятелей; есть только один человек, которому я доверяю свои мысли и свои мечты, дружбой с которым дорожу и горжусь,– поэт Павел Павлович Оленич-Гнененко. Он старше меня почти на сорок лет, но это не мешает нам проводить вместе долгие часы. Вот мы гуляем по главной улице моего родного Харькова. Павел Павлович – громадного роста, богатырского сложения, с бритой головой, с длинными, как у запорожцев, усами, в развевающейся на ветру бекеше, небрежно накинутой на могучие плечи. Его почтительно приветствуют прохожие, он отвечает им легким наклоном головы и чуть качающейся походкой продолжает свой путь, возвышаясь как монумент над многоликой и пестрой уличной толпой.
В тридцатых годах Павел Павлович печатал свои произведения в харьковских газетах и журналах. Это были проникновенные лирические стихи, воспевавшие Украину, ее людей, ее природу. Он писал их крупным, четким почерком на узких длинных полосах бумаги – типографских гранках – и бережно хранил в кожаной, военного образца, сумке. Часто, сидя на бульваре, в тени платанов и карагачей, Павел Павлович читал мне свои стихи. И хотя прошло много лет, я до сих пор явственно слышу его несколько глуховатый голос, вижу его крупные, загорелые, узловатые руки.
Он вошел в мою жизнь вскоре после смерти моего отца и был моим добрым гением, другом, наставником. Он открыл моей душе силу и красоту творчества, внушил мне любовь к литературе.
8 1924 году я навсегда оставил Харьков и около двадцати лет почти ничего не знал о Павле Павловиче.
Августовским вечером 1943 года я приехал в родной город. Легко представить чувство, которое я испытал, оказавшись в городе своего детства.
Харьков только что был вторично освобожден от фашистов и лежал в руинах. Кругом громоздились горы щебня, кирпича, металла, сраженные бомбами деревья, зловеще чернели обугленные остовы домов, а в воздухе висело тяжелое, неподвижное облако удушливой пыли, смешанной с дымом пожарищ.
Уже давно здесь не было никого из моих родственников и близких. А Павел Павлович!.. Жив ли он?.. Весь вечер я блуждал по темным, пустым, лишенным жизни улицам и переулкам, разыскивая дом, в котором когда-то жил старый писатель. Уже около полуночи я отыскал наконец этот маленький домик с палисадником перед входом.
Но Павла Павловича я не увидел.
Вместо него в дверях появился незнакомый старик в украинской свитке, с желтым лицом и выцветшими, подслеповатыми глазами. Вначале он не хотел отпереть дверь, но, узнав, что я интересуюсь Павлом Павловичем, впустил в комнату. После долгих расспросов, кто я такой, куда и откуда еду, старик сел на табуретку и, помолчав, сказал, глядя куда-то в пространство:
– Нема Павла Павловича... Вмер вин...
При свете каганца старик рассказал мне историю последнего года жизни Павла Павловича. Голос собеседника часто срывался, он говорил медленно, с передышками.
...Когда началась война, Павлу Павловичу было восемьдесят лет. Он не смог эвакуироваться и остался в городе.
– Ненадолго это,– убежденно говорил он своему соседу Миронычу, с которым теперь я беседовал.– Не может быть, чтобы надолго!..
Гитлеровцы и их прихвостни из украинских националистов, едва был установлен в Харькове «новый порядок», тотчас же попытались привлечь Павла Павловича на свою сторону. Они знали, сколь велика была в городе популярность старого поэта, и, конечно, он был им очень нужен. Они предлагали ему печататься в газетах, уговаривали прочесть по радио стихи, соблазняли подарками, продуктами, деньгами. Но Павел Павлович решительно отвергал все предложения. Продукты? Их у него достаточно. Читать стихи? У него нет новых стихов. Печататься в газетах? Он давно уже ничего не пишет... Но за этими отговорками легко угадывалась подлинная причина: он не может изменить и никогда не изменит земле, на которой родился и которую любит преданной сыновней любовью.
Много месяцев тянулась ночь вражеской оккупации. Павел Павлович редко выходил из дому; он покидал свою маленькую квартирку только для того, чтобы раздобыть хоть что-нибудь поесть. Больной, впервые оказавшийся без родных, без близких людей, он особенно остро переживал свое одиночество.
Только с Миронычем он делился своими думами.
И тогда, видно, пришло неожиданно решение и сразу овладело всем существом старого поэта: то, что происходит сейчас в его стране, в его городе, он не может изменить – он стар, слаб и болен. Но жизнь его принадлежит тем, кто по ту сторону фронта. А от тех продажных и назойливых людишек, которые не оставляют его в покое, лезут непрошеные, незваные в дом, тщатся соблазнить сытой жизнью,– от этих надо отделаться раз и навсегда. Пусть знают, что нет им доступа к старому, честному литератору.
В этот день Павел Павлович впервые не впустил к себе Мироныча, сославшись на нездоровье. Медленно, не торопясь, по-хозяйски он заколотил ставни, запер входную дверь и заставил ее старинным громоздким шкафом.
Вечером Мироныч заметил тонкий луч света сквозь закрытую ставню. Встревоженный, Мироныч прильнул глазом к щелке. При тусклом свете коптилки Павел Павлович шагал по комнате из угла в угол. Через ставню были слышны его мерные, тяжелые шаги, а по стенам ползала огромная длинная тень его фигуры.
В течение ночи Мироныч несколько раз подходил к ставне – Павел Павлович все ходил и ходил... Иногда он садился за письменный стол, перебирал старые бумаги, газетные вырезки, черновики когда-то написанных стихов... Павел Павлович замкнулся в себе. Он как бы выключил себя из жизни, он стал глух и нем...
С каждым днем убывали скудные запасы пищи, которые ему удалось сохранить. Должно быть, он разделил хлеб и крупу на крохотные дольки и свято следил за тем, чтобы не съесть больше того, что было определено на каждый день.
Через несколько дней коптилка уже не горела по вечерам за щелкою ставни, но Мироныч по-прежнему улавливал слухом те же тяжелые, мерные шаги. Он пробовал постучаться к другу, но тот не ответил...
Прошло еще несколько дней, и над Харьковом загрохотали разрывы снарядов. Вскоре загремели выстрелы на улицах – войска Советской Армии ворвались в город.
Мироныч изо всех сил колотил в дверь:
– Павел Павлович!.. Наши пришли!.. Откройте же, наши!..
Но Павел Павлович не откликался.
С помощью бойцов Мироныч взломал дверь и открыл ставни. В распахнутые настежь окна вместе со свежим весенним ветром ворвались жаркие лучи солнца. Осветив комнату, они ударили в лицо Павла Павловича. Торжественный, в накрахмаленной сорочке, в парадном костюме, Павел Павлович лежал на письменном столе, за которым много лет писал, работал, творил... Он не подпустил врагов к своему столу. Он был мертв. Лицо его было светлым и спокойным – смерть еще не успела придать его чертам окаменелость.
На могиле Павла Павловича нет памятника. Но старожилы Харькова легко находят ее на старом заброшенном кладбище и убирают цветами.
ВИКОНТ ЖАН ВЯЗЕМСКИ
Писатель Александр Смирнов, разделивший в фашистском плену тяжкую, горькую участь тысяч советских воинов, рассказал однажды случай, глубоко меня взволновавший. Вот что я услышал:
– В тысяча девятьсот сорок четвертом году, после трех лет скитаний по гитлеровским лагерям смерти, я попал в госпиталь военнопленных Шморкау, расположенный под городом Кенигсбрюкк, неподалеку от Дрездена. Я заболел плевритом, осложненным желтухой. Болезнь причиняла невыносимые страдания и так измотала, что я стал, как говорили в лагере, «фитилем» или «доходягой» – без посторонней помощи не мог взобраться даже на второй этаж нар.
Госпиталь помещался в старинной помещичьей усадьбе. В нем находились англичане и французы, итальянцы и бельгийцы, югославы и советские военнопленные. Но нас, советских, держали отдельно от «Европы» – в конюшнях, отгороженных колючей проволокой.
Дня через два после прибытия в госпиталь мой сосед Устинов – бывший бухгалтер Ивановского треста столовых, с которым я подружился,– протянул мне крашеное пасхальное яйцо – это было в канун пасхи – и книжку русского писателя Ивана Шмелева «Праздники Господни».
«Возьми, друг!» – сказал он.
«Откуда это у тебя?»
«Да ведь я числюсь в команде выздоравливающих... «Генезен Командо», как говорят немцы... Послали меня сегодня в «Европу» двор подметать... Вот там я и «подкалымил» кое-что – окурков набрал, а потом подошел ко мне один французский офицер... По-русски говорит свободно, как мы с тобой... Дал он мне пару яиц и эту вот книжку... Почитай-ка!..»
Неожиданный подарок Устинова растрогал меня. Повеяло вдруг чем-то родным, очень русским, вспомнилось детство, отчий дом на Волге... И хотя в тот момент было не до чтения, я жадно начал листать страницу за страницей. В конце книги внимание привлек экслибрис, показавшийся непонятным: «Из книг виконта Жана Вяземски».
А на следующий день Устинов свел меня с владельцем книжки. У колючей проволоки я увидел высокого, стройного, даже изящного человека в поношенном мундире офицера французской армии. Тоненькая ниточка усов оттеняла его худощавое, бледное лицо с запавшими щеками.
К моему удивлению, собеседник действительно отлично владел русским языком.
Помнится, я спросил:
«Не в родстве ли вы с поэтом Вяземским?.. У вас какая-то странная для француза фамилия... Она и не русская и не французская...»
«Да, я правнук князя Петра Андреевича Вяземского... Мне было три года, когда гувернантка-француженка увезла меня из Петербурга в Париж... Она воспитала меня и заменила мать... Потом началась война, я был призван в армию, получил ранение и попал сюда...»
Жан Вяземски помолчал, затем сказал:
«В нашей семье имя Пушкина всегда было святым...»
Смирнов прервал рассказ, глубоко вздохнул и продолжал:
– Понимаешь, он сказал: «Пушкин!»... Впервые за три года войны и плена я услышал имя Пушкина... В этой гигантской фабрике смерти, где ежедневно от голода и болезней умирали десятки людей, среди унизительного бесправия и безнаказанного произвола, слово «Пушкин» обрело для меня совсем иной смысл, оно было синонимом жизни...
С того дня Жан Вяземски регулярно приходил к колючей проволоке и незаметно вручал мне свертки. Это были остатки продовольственных посылок, которые через Красный Крест поступали иностранным военнопленным. Передавая драгоценную ношу, Вяземски всякий раз произносил одну и ту же фразу; «Возьмите. Это вместо венка на могилу погибших русских товарищей». В посылках были крупа, галеты, консервы, папиросы, попадался даже шоколад, и все это мы делили на равное количество частей. Передачи, организованные Жаном Вяземски, поддерживали обессиленных, измученных голодом и болезнями товарищей, а некоторых просто вернули к жизни.
Настал наконец день, которого мы ждали долгих три года: войска Советской Армии вступили в Саксонию. Фашистский гарнизон госпиталя, чувствуя близость конца, решил нас уничтожить. Узнав об этом, Жан Вяземски и военнопленный полковник Ермашов организовали группу самообороны; они завязали бой и разгромили эсэсовцев. В бою Вяземски был тяжело ранен, и я потерял его из виду...
Вот с каким человеком свела меня судьба!..
Жив ли ты, мой дорогой друг, виконт Жан Вяземски?
ДВЕ ВСТРЕЧИ
Накануне столетия со дня рождения Ивана Франко я приехал во Львов, чтобы сфотографировать памятные места, связанные с жизнью и деятельностью великого украинского писателя. Я очутился в городе – памятнике эпох и стилей, в лабиринте средневековых улиц, в городе семисотлетней давности, где все было для меня ново, незнакомо и увлекающе интересно.
Сколько я ни пытался составить хотя бы приблизительный план работы – ничего не получалось. В растерянности и отчаянии я позвонил доброму своему знакомому – директору Львовского лесотехнического института Юрию Дмитриевичу Третяку, которому рассказал о своих затруднениях.
– Попробуйте обратиться к профессору Рудницкому – посоветовал Третяк.– Он отлично знает Львов, к тому же Рудницкий был знаком с Франко...
...Михаил Иванович Рудницкий – старейший профессор Львовского университета – принял меня в своем рабочем кабинете – просторной, увешанной картинами, солнечной комнате, с видом на тихую, в зелени деревьев, улицу Устияновича. Он сидел в халате за большим письменным столом, заваленным рукописями, книгами, газетами, журналами. Профессор внимательно выслушал меня и, несмотря на перегруженность разными обязанностями, охотно согласился мне помочь.
Мы побывали во многих местах, где жил и работал Франко, и после трехдневной напряженной работы посетили Лычаковское кладбище – последний приют писателя. Мы долго бродили по старым аллеям древнего кладбища с его мрачными памятниками и надгробиями,– тихим аллеям, сырым и темным.
А теперь,– сказал Михаил Иванович,– я покажу вам могилу, которая особенно дорога моему сердцу.
На открытой площадке я увидел могилу, облицованную черным полированным мрамором. Вокруг могилы цвели высокие красные канны. Это была могила Ярослава Галана – замечательного украинского писателя, зверски убитого наемниками Ватикана.
– Ярослава Галана я знал четверть века,– продолжал Рудницкий.– Всякий раз, когда я бываю здесь, мне почему-то вспоминаются две встречи с Галаном – самая первая и самая последняя.
В тысяча девятьсот двадцать седьмом году во Львове был объявлен конкурс на лучшую пьесу для драматического театра Я состоял членом жюри. Среди многих пьес, поступивших на конкурс, мое внимание привлекла анонимная рукопись. Она поразила меня необыкновенной свежестью поэтических образов. Пьеса была написана карандашом, крайне небрежно, на нескольких ученических тетрадях.
«Вот эту единственную, пожалуй, можно премировать,– подумал я,– но автор должен доказать, что он не переписал ее из какого-нибудь иностранного источника». Эту мысль я выразил в обзорной статье, предложив анониму явиться в жюри и доказать свое авторство.
Через несколько дней во Львов из Кракова приехал молодой человек, бедно одетый, очень застенчивый, с большой пачкой материалов. Это был студент исторического факультета Краковского университета Ярослав Галан. Его отличное знание эпохи, из которой был взят сюжет пьесы, не оставляло ни малейшего сомнения в том, что он является автором.
Мне пришлось выдержать бой с украинскими буржуазными националистами, возражавшими против того, чтобы премировать начинающего писателя, который к тому же совсем не скрывал своих симпатий к коммунистам. Я добился того, что Галан получил премию и пьеса была поставлена.
Последняя моя встреча с Галаном произошла во Львовском университете, на литературном вечере, на котором он должен был выступать вместе с другими писателями Львова.
Галан пришел одним из первых. Он стоял в глубине актового зала и с интересом наблюдал, как постепенно заполнялся студентами университетский зал. Обращаясь ко мне, Галан задумчиво проговорил:
«Как странно, не правда ли?.. Прожил я при советской власти только десять лет, и в том же самом университете, в котором я не имел права даже учиться, передо мной сидят люди нового поколения и совершенно особого склада – советские студенты!.. Когда это было, чтобы в буржуазный университет приглашали писателей, да еще для беседы об их творческих планах?!..– По лицу Галана скользнула горькая улыбка.– Вы спрашиваете, о чем я буду сегодня говорить?.. Право, не знаю... Может быть, лучше всего было бы сказать этим молодым людям о тех неограниченных возможностях, которые открыты перед ними и о которых никто из нас не мог и мечтать?.. Рассказывать о своих творческих планах – трудно, да я и не люблю. В большинстве случаев это или обещания, или хвастовство, меньше всего обязывающее автора. Я прежде всего хотел бы закончить пьесу. Она направлена против украинских националистов. Не знаю, как она получится с точки зрения художественной, но я глубоко убежден, что на отделку своей вещи у писателя всегда найдется время. Я пришел к выводу, что идея произведения – актуальная, острая, исполненная любви к друзьям и ненависти к врагам – непременно обретет достойную ее форму».
«Когда же вы думаете закончить пьесу?»
«Она как будто закончена,– ответил Галан.– Но понимаете, у меня такой нрав – не кончу еще одну вещь, а рука уже чешется начать другую...»
«Боитесь, что не успеете? Не хватит времени?..»
«Я ничего не боюсь,– сказал Галан, задумавшись.– Но времени все-таки нужно бояться: оно не щадит никого!..»
А через два дня Галан – депутат Львовского горсовета – был убит. Убит топором. Убит в своем кабинете, за своим письменным столом, в тот момент, когда он читал заявление «просителей», пробравшихся к нему под видом студентов.
ЭТО БЫЛО В ВИНОГРАДОВЕ...
В маленьком закарпатском городке Виноградове, который лежит на пути из Ужгорода в Рахов, много лет живет Елизавета Ревес. Последние годы она зарабатывала на жизнь тем, что была приходящей домашней работницей. Она стирала, ухаживала за больными. Лишь очень немногие старожилы города знали, что эта молчаливая, старая, седая женщина – единственная дочь знаменитого венгерского художника-демократа, ученика и друга великого Михая Мункачи – Имре Ревеса, родившегося и долгое время жившего в Виноградове, объездившего весь мир и вернувшегося на родину, чтобы умереть на родной земле.
...Есть люди, которые переживают все невзгоды жизни наедине с собой. Они никому не жалуются, как бы тяжело им ни было, и никого не просят о помощи. Они обычно бывают замкнутыми и в тайниках души хранят воспоминания о «светлом далеком», боясь доверить свою тайну другим, опасаясь, что люди могут осквернить ее неосторожным словом или недоверчивой улыбкой. Такой оказалась и Елизавета Ревес. Она никогда не говорила о своей жизни и ни с кем не делилась воспоминаниями об отце, с которым долгие годы провела в Париже, Вене, Риме, Будапеште. Скромная, она боялась, что ей не поверят, что ее рассказ может быть воспринят как попытка приобщиться к славе отца.
Ужгородский писатель Матвей Тевелёв, автор известного романа «Свет ты наш, Верховина...», случайно узнал от одного из своих друзей, что в Виноградове живет дочь Ревеса. И хотя Тевелёв отнесся к этому сообщению с некоторым сомнением,– никто из официальных лиц в Ужгороде не знал о существовании наследницы знаменитого художника,– он тем не менее немедленно отправился в Виноградов. Писатель вошел в маленькую комнатку, которую Елизавете Ревес уступили чужие люди, построившие свой дом на участке, на котором когда-то стоял дом самого художника. Комнатка была бедно обставлена, и только стену украшали две потемневшие от времени картины.
Дочь художника встретила Тевелёва холодно и недружелюбно.
– Никаких работ моего отца у меня нет, – решительно заявила она. – Вот только эти две...
И добавила:
– Вообще, я не понимаю, кого могут интересовать его произведения?!..
Признаться, Тевелёв не ожидал такой встречи. Он вновь объяснил Елизавете Ревес цель своего приезда. Он сообщил ей о том, как высоко чтут советские люди творчество ее отца. Он показал ей Большую Советскую Энциклопедию, в которой напечатаны репродукции с картин Ревеса «Хлеба!», «Дезертир» и статья о его жизни и творчестве.
– Я ничего этого не знала,– сказала она с дрожью в голосе.– Мне говорили... меня убеждали совсем в другом...
– Что вам говорили? – спросил ее писатель.
– Мне говорили... Ах, мой бог, вы сами знаете, что говорят люди, которым ненавистно все, что делается сейчас...
Наступило молчание. После долгой паузы Елизавета Ревес доверительно сказала:
– У меня в сарае стоит сундук. В нем – работы моего отца... Верьте, это – самое дорогое, что осталось как память об отце... Я не в силах расстаться с ними...
С этими словами она ввела Тевелёва в маленькую пристройку. Здесь, под всяким домашним хламом, стоял сундук, в котором лежали тщательно хранимые свитки живописных холстов и папки с рисунками. Когда рисунки были разложены возле того же сарая на бревнах, перед глазами писателя возник ушедший в невозвратное прошлое мир тяжелого подневольного труда, талантливо запечатленный художником. Всю свою жизнь Имре Ревес воспевал трудовой люд – рабочих, крестьян, чабанов. Им, этим простым, незаметным труженикам, отдал Ревес свое вдохновение и свой талант художника-демократа. Среди этих работ писатель увидел и великолепные, ставшие уже классическими, иллюстрации Ревеса к стихам Шандора Петефи, над которыми художник работал со студенческой скамьи до последних дней своей жизни.
– Не согласились бы вы дать эти вещи на выставку? – поинтересовался писатель.
Она промолчала, точно не слышала этого вопроса.
– Где похоронен ваш отец? – спросил Тевелёв.
– Здесь... на городском кладбище...
Они отправились на кладбище. Но могилы Ревеса писатель не увидел. Там, где некогда высился могильный холм, было провалившееся, густо заросшее бурьяном место.
– Вот здесь он лежит...– тихо сказала она.
...Возвратившись в Ужгород, Тевелёв рассказал руководителям областных организаций о своей поездке. Его сообщение произвело большое впечатление: жива дочь Ревеса, обнаружено место, где похоронен знаменитый художник, найдены неизвестные его произведения – какое это значительное событие в культурной жизни нашей страны, в культурной жизни братской Венгрии!
Вскоре городские власти Виноградова привели в порядок могилу Ревеса и воздвигли на могиле памятник. А некоторое время спустя писатель получил от дочери художника письмо: она соглашалась представить на выставку все имеющиеся у нее произведения Имре Ревеса.
Выставка была развернута в Ужгороде, в древнем замке, и пользовалась громадным успехом. Многие работы Ревеса приобрели Государственный Эрмитаж и Закарпатская картинная галерея.
...На выставке, в углу, стараясь быть незамеченной, ежедневно долгие часы простаивала дочь художника. Она смотрела не на картины своего отца, которые хорошо знала, а на людей, приходивших насладиться вдохновенными творениями Ревеса. Она была счастлива, эта молчаливая, старая, седая женщина.
РУКОПИСЬ НАХОДИТ АВТОРА
Роман Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом», пролежав в издательстве несколько лет, вдруг, против всяких ожиданий, вышел неожиданно быстро и был мгновенно раскуплен. Я случайно успел «схватить» экземпляр, но когда на следующий день попытался приобрести еще один, книги уже нигде не было.
Такова судьба всех подлинно талантливых произведений: книги сами, без рекламной шумихи, находят дорогу к читателю.
И вот я перечитываю этот роман, а мысли уходят в прошлое, вспоминается Малеевка, морозный вечер, тихий, заснеженный парк. Я прогуливаюсь с Юрием Домбровским и слушаю историю его книги.
Но раньше, чем приступить к рассказу, услышанному из уст Домбровского, я должен сказать, как я познакомился с ним.
Моим соседом по коттеджу в Малеевке – подмосковном писательском Доме творчества – был высокий, худой, сутулый человек лет сорока пяти, с густыми черными волосами, тронутыми сединой. Держался он особняком, был неразговорчив и угрюм. Он появлялся в обществе своих коллег лишь в часы завтрака, обеда и ужина, а все остальное время почти безвыходно проводил в своей комнате.
– Кто это? – спросил я за обедом соседа, заметив, что тот поздоровался с незнакомцем.
– Писатель Юрий Домбровский – человек трудной судьбы и автор интереснейшего романа,– ответил сосед.– На вашем месте я бы ни за что не упустил возможности с ним познакомиться...
– Так познакомьте меня! – сказал я.
После обеда и состоялось наше знакомство, а вечером я услыхал от Домбровского историю его романа.
– В тысяча девятьсот тридцать девятом году я был арестован, как тысячи других «повторников», по ложному доносу. Пробыв в заключении несколько лет, я был выпущен и поселился в Алма-Ате. Вскоре я тяжело заболел и был помещен в больницу.
Я начал писать роман осенью сорок третьего года, лежа на койке, имея одну-единственную ученическую тетрадку, которую подарил мне врач, да ручку – не ручку даже, а лучинку с прикрученным к ней пером. Чернила делал из марганца – они получались бурыми и напоминали мне те, какими писали монахи и подьячие в каком-нибудь XVI веке. Экономя бумагу, я писал таким мелким почерком, так лепил строчку к строчке и букву к букве, что сейчас свои рукописи того времени могу читать только с помощью сильной лупы.
У меня были парализованы ноги, и писать приходилось сначала лежа, потом – сидя. И тут мне на помощь приходил картонный щит со знаками разной величины, которым в больнице врачи пользовались для проверки остроты зрения. Он и до сих пор сохранился в том отделении, где я лежал, и врачи по сию пору ругают того неряху, который со всех сторон заляпал его чернилами. Вероятно, они никак не могут понять, кто и зачем это сделал.
Я работал над романом в те дни, когда на Западе шла война с фашистами, когда была уже освобождена половина Украины и смертельно раненный фашистский зверь, огрызаясь, заползал в свою берлогу. И все-таки я понимал, что борьба с фашизмом не кончена, а только вступает в новую и, может быть, несравненно более трудную и острую фазу. К этому чувству примешивались и личные переживания: во время войны у меня пропала без вести сестра, я не имел сведений о матери. Я только знал, что война и движение немецких полчищ к Москве застали мать где-то в районе Дмитрова. Спасаясь от собственного бессилия и тоски,– я и по койке не мог передвигаться, а только ёрзать,– я и писал свой роман.
Потом мы роман перепечатывали. Мы – это я и та женщина, жена умершего товарища, которой я посвятил свою книгу. Она служила в библиотеке и, роясь в бумажной макулатуре, однажды сделала бесценную находку: она нашла кипу печатных патентов с чертежами. Чертежи – огромные складные листы – печатались только на одной стороне, другая же оставалась чистой. Вот на этой-то оборотной стороне мы и перепечатывали рукопись.
Когда рукопись была перепечатана и я уже собирался послать ее в Москву, вдруг кто-то снова донес на меня, и я был опять арестован. В числе «вещественных доказательств» – едва ли не самых главных – фигурировал мой роман. Меня обвинили, в частности, в том, что якобы я зашифровал иностранными именами тех работников органов государственной безопасности, с которыми я сталкивался во время своего первого ареста.
Я снова отсидел срок, затем был выпущен, реабилитирован и приехал в Москву. С каким-то странным чувством вошел я в свою комнату, которую мне сохранили близкие. В ящиках моего письменного стола было пусто. Валялись только какие-то обрывки, какие-то давние записи, о существовании которых я и не подозревал. Так всегда бывает: валяются в столе какие-то бумаги, записки, которые почему-то жаль выкинуть, но для которых никогда не находится места в рукописи...
Так вот, пока я восстанавливался по всем ступенькам своего, так сказать, общественного бытия, я ничего не делал и делать не мог.
Все чаще мысли концентрировались вокруг погибшего романа, потерю которого я ощущал тем больнее, чем больше проходило времени.
Однажды в нашу квартиру позвонили. Я открыл дверь. На пороге стоял маленький кругленький человек с бритой головой.
«Могу ли я видеть Домбровского?» – спросил он.
«Я – Домбровский...»
«Может быть, вы пригласите меня в комнату?..»
«Пожалуйста, пожалуйста...» – спохватился я.
Войдя в комнату, незнакомец огляделся, помолчал, потом спросил:
«А как мне убедиться, что вы действительно Домбровский?..»
Я на секунду задумался, подошел к столу, порылся в бумагах:
«У меня, кроме этого рецепта, ничего нет... Посмотрите: здесь указана моя фамилия...»
Незнакомец скользнул глазами по рецепту.
«Вот в этой авоське,– сказал он,– ваш роман... «Обезьяна приходит за своим черепом»... так, кажется, он называется... Вы писали такой роман?.. Мне было приказано сжечь рукопись, но я сохранил ее...»
Перед глазами поплыла комната, вещи, книги... Я пытался что-то сказать, что-то спросить, но у меня не было сил, чтобы открыть рот.
«Ну вот, а теперь мне надо идти»,– тем же спокойным тоном сказал незнакомец и направился к двери.
Я продолжал стоять точно окаменевший. Вдруг я услышал, как лязгнул дверной замок.
«Послушайте... погодите!» – закричал я и выбежал на площадку.
Незнакомец обернулся. Слабый свет, падавший из маленького оконца лестничной клетки, освещал только фигуру человека, оставляя в тени его лицо.
«Не спрашивайте меня ни о чем,– скороговоркой прошептал он,– и не пытайтесь меня найти... Прощайте!.. Желаю вам всего хорошего...»
И в ту же секунду я ощутил в своей руке влажную шероховатую ладонь незнакомца и его крепкое рукопожатие.
Потом до моего слуха донеслись шаркающие шаги незнакомца, спускавшегося по каменной лестнице.
И все стихло.
Я вошел в свою комнату, все еще не понимая и не осознавая, что случилось. Я только чувствовал, что произошло что-то большое и важное, что-то такое, что сразу изменило мою жизнь.
В авоське, кое-где заштопанной, лежавшей на полу, завернутая в газету, была рукопись моего романа, которую я считал безвозвратно погибшей.
– Вот так я и получил возможность издать свой роман,– закончил свой рассказ Юрий Домбровский.– А здесь, в Малеевке, я почти все время сижу над корректурой... Осталось уже немного... Думаю, что скоро я смогу отвезти корректуру в издательство...
ПЯТЬ ЧАСОВ С ФЕЙХТВАНГЕРОМ
Несколько лет назад «Литературная газета» опубликовала отрывки из мемуаров Марты Фейхтвангер. Вдова немецкого писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера вспоминает, в частности, о том, как однажды в гости к Фейхтвангеру приехал выдающийся советский виолончелист Мстислав Ростропович и играл ему. По словам Марты Фейхтвангер, игра Ростроповича произвела неизгладимое впечатление.
Эти несколько строк Марты Фейхтвангер заставили меня разыскать запись беседы с Ростроповичем, состоявшейся вскоре после его возвращения из триумфальной гастрольной поездки по городам Соединенных Штатов Америки. Перечитав свои записки, я подумал о том, что читателям было бы интересно узнать никогда не публиковавшиеся подробности встречи Ростроповича с Фейхтвангером. Об этой встрече артист впоследствии говорил как о большом событии в его жизни.
В начале 1956 года Мстислав Ростропович гастролировал в США. Остались позади Нью-Йорк, Кливленд, Вашингтон, снова Нью-Йорк, затем—громадный, через всю страну, бросок на запад – в Лос-Анжелос.
Концерт Ростроповича в Лос-Анжелосе состоялся 23 апреля и прошел с громадным успехом,– газеты писали о советском музыканте как об одном из величайших виолончелистов современности.