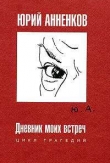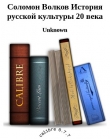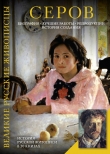Текст книги "Непрочитанные страницы"
Автор книги: Александр Лесс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
И Коляджин рассказал мне о некоторых встречах, и в их числе – о встречах с Маяковским.
1923 год. Краснодар. Приехал Маяковский и выступил в городском театре. Вначале он говорил о состоянии современной поэзии, а завершил выступление чтением стихов. Затем он предложил желающим высказаться. Выступило несколько человек. Одни хвалили, другие выражали недоумение, третьи – недовольство.
К категории «недовольных» принадлежал и я.
С места я сказал, что в стихах написаны глупости – какой это дурак станет грудь заливать крахмалом?..
Маяковский посмотрел на меня, улыбнулся и бросил какую-то остроумную реплику. Присутствующие подхватили остроту, раздался смех, я растерялся и замолчал.
– Продолжайте! – крикнул Маяковский.
Я молчал.
– Вот, товарищи,– сказал Маяковский,– был единственный критик, который выступил конкретно, да и тот онемел.
А еще через минуту:
– Охотников поговорить, как видно, больше нет... Теперь я буду продавать свои книги с автографами... Кто хочет купить книгу с надписью Маяковского?!..
Потянулись желающие. Я нащупал в своем кармане не то трешку, не то пятерку. Долго колебался, расстаться с ней или нет. В конце концов решил купить книгу с автографом Маяковского.
– Как нас зовут? – спросил поэт. Я назвал свое имя.
– А отец у вас был?
– Был.
– Как его звали?
– Юрий.
– А фамилия?
– Коляджин.
– Вы что, грек, что ли?
– Нет, украинец.
Маяковский написал:
«Моему критику Стефану Юрьевичу Коляджину – В. Маяковский. Краснодар».
Прошло пять лет.
Я окончил Ленинградский государственный университет, и по запросу Дмитрия Андреевича Фурманова биржа труда направила меня на работу в Госиздат.
Большая комната в Госиздате. Четырнадцать столов. За каждым столом – редактор. В углу – стол редактора классической литературы Д.К. Однажды Маяковский зашел в нашу комнату. Завязался литературный спор – сейчас я уже не помню, по какому поводу. Во время этого спора К. пренебрежительно отозвался о творчестве Маяковского.
Маяковский вспыхнул:
– Да вы кто такой?
– Редактор классической литературы.
– Никакой вы не редактор! Вы – директор гимназии. Меня всю жизнь преследовали директора гимназий и библиотекари... Коленкой вас под ж... надо гнать!..
Резко повернулся и ушел.
Через несколько дней мне предстояло говорить с Маяковским по поводу одного из томов его первого собрания сочинений, редактирование которого было поручено мне.
Признаться, я очень трусил – разговор с К. не выходил у меня из головы.
В конце концов набрался смелости и позвонил.
– Что там у вас? – спросил Маяковский.
Я сказал, что в рукописи меня смущает одно слово.
– Какое? Я назвал.
– Почему?
Я стал доказывать.
– Хорошо. Я завтра зайду посмотрю... На следующий день Маяковский пришел в Госиздат. Его направили ко мне.
Маяковский долго смотрел на меня.
– Где я вас видел? – спросил он.
– Не знаю, Владимир Владимирович...
Был на ваших выступлениях в Ленинграде, в Москве...
– А еще?.. Напомните мне...
– Первый раз я видел вас в Краснодаре...
Маяковский улыбнулся и замахал руками:
– А, злейший мой критик!.. Теперь я пропал!..– И сразу: – Ну, что там у вас?
Я открыл рукопись и говорю:
– Владимир Владимирович, очевидно, ошиблась машинистка, тут какое-то не ваше слово...
– Нет, это слово мое...
– А мне кажется, что вы бы сказали как-то по-другому... – и тут же перечислил с десяток слов, которые мне казались характерными для Маяковского и для данного случая.
Маяковский слушал как-то равнодушно, а я все больше смущался. Вдруг Маяковский встрепенулся:
– Как?.. Как вы сказали?..
Я повторил те же слова, но, может быть, не в том порядке.
– Ну вот и поставьте это слово...
– В вашей рукописи я не решаюсь править своей рукой.
Маяковский улыбнулся, вынул авторучку и написал подсказанное мной слово.
– Ну, теперь все?..
– Нет, Владимир Владимирович, слова, стоящие рядом, совсем не подходят...
Маяковский прочел несколько строк, задумался, снял пиджак, повесил его на спинку стула и быстро заменил восемь коротеньких строк.
– Ну, как?
– Сейчас я не могу вам ничего сказать. Ведь вы только что написали. Нужно посмотреть свежим глазом. Завтра утром приду, прочту и позвоню вам...
– Звоните! – сказал он.– С половины восьмого я уже работаю.
На следующий день я пришел раньше обычного, но медлил со звонком, боясь разбудить Маяковского,– мне не верилось, что он встает так рано.
Наконец позвонил и сказал, что перечитал.
– Ну, как?
– По-моему, ничего.
– А по-моему, блестяще,– сказал Маяковский.– Всего хорошего! – и повесил трубку.
ЧАШКА
В Москву, после долгих лет жизни в Париже, приехала художница Евгения Александровна Ланг.
Она пришла в гости к Людмиле Владимировне Маяковской – сестре поэта. С ним художница дружила в молодости.
Среди многих картин она привезла портрет Маяковского, писанный ею в Париже по памяти.
И вот сейчас обе женщины смотрят этот портрет, никому не известный портрет молодого Маяковского.
– Я расскажу вам один случай,– говорит Евгения Ланг.– Он особенно памятен мне... Зимой 1918 года Володя и я гуляли по Москве. В то время Москва была наводнена аукционами: распродавалось имущество буржуазии – антикварные вещи, дорогая мебель, меха, ковры. Заходим на какой-то аукцион,– Маяковский ведь был очень азартным и его часто можно было встретить на аукционах.
Помню, разыгрывалась кофейная чашка, не редкая и не очень дорогая. Маяковский взглянул на нее и замер от восторга: чашка понравилась ему. Он стал торговаться. Назначил цену. Но какой-то человек тут же перебил ее. Маяковский набавил, но снова тот же бесстрастный голос, и снова – повышение.
Играть дальше он не мог, у него не было денег, и, возбужденный, он обратился ко мне:
«У тебя есть деньги?.. Одолжи...»
Я порылась в сумочке, выгребла все, что было, но денег, чтобы продолжать игру, не хватило, и чашка «уплыла».
Маяковский молча вышел из аукциона и быстро зашагал своими огромными шагами. Я шла сзади, еле за ним поспевая. Я знала его нрав и поэтому не решалась ни сочувствовать ему, ни уговаривать,– в этом случае я могла получить только злую отповедь.
И вдруг за спиной Маяковского – голос незнакомого человека:
«Господин Маяковский, остановитесь, выслушайте!..»
Маяковский замедлил шаг, обернулся.
«Чего вам?» – раздраженно спросил он.
«Господин Маяковский, я ваш поклонник, позвольте подарить вам эту чашку, я видел, что она вам понравилась...»
С этими словами незнакомец отдал чашку и ушел.
Маяковский несказанно обрадовался и сразу повеселел.
«Ну, пойдем пить кофе!» – буркнул он.
У себя в номере – Володя жил тогда в каких-то меблирашках у Столешникова переулка – он сварил кофе, и мы по очереди выпили кофе из этой чашки.
Некоторое время спустя я уехала в Париж и прожила там почти сорок четыре года...
Евгения Ланг умолкла, погруженная в какие-то свои мысли.
– Погодите минутку,– сказала Людмила Владимировна и вышла в другую комнату.
Вскоре она возвратилась.
– Вы о ней говорили? – спросила Людмила Владимировна, показывая чашку.
Губы Евгении Ланг дернулись, на глазах появились слезы.
– Да,– тихо проговорила она.
– Я ничего этого не знала,– заметно волнуясь, сказала Людмила Владимировна.– Я хранила эту чашку как память о Володе и никогда ею не пользовалась – боялась разбить. А теперь... Теперь давайте сварим кофе и выпьем из этой чашки... выпьем по очереди – так, как вы пили тогда в меблирашках...
ПЕРВАЯ ОТЛИВКА СТАЛИ
У меня в руках – один из первых авторских экземпляров романа Николая Островского «Как закалялась сталь». На титульном листе – надпись: «Марку Колосову – моему соратнику и редактору этой книги, «братишке» и другу. Н.Островский. Сочи. 1932 год».
Я долго смотрю на книгу и думаю о великой жизненной силе этого произведения, о его удивительной судьбе...
...В морозный февральский день 1932 года в редакцию журнала «Молодая гвардия», которая помещалась в Большом Черкесском переулке, вошел, слегка прихрамывая, опираясь на палку, старик.
– Моя фамилия – Феденёв,– сказал он, обращаясь к редактору журнала Марку Колосову, и с этими словами протянул ему объемистую рукопись. На заглавной странице было написано: «Как закалялась сталь» и стояла фамилия автора – Н.Островский.
К рукописи была приложена рецензия литературного консультанта издательства «Молодая гвардия».
Иннокентий Павлович Феденёв, обратив внимание Колосова на эту рецензию, с горечью сказал:
– Я никак не могу согласиться с такой рецензией. Может быть, я не очень хорошо разбираюсь в художественной литературе, но по опыту партийной работы могу сказать, что эта книга сыграет большую роль в деле коммунистического воспитания молодежи. Возможно, она требует шлифовки, отделки... Но ведь и сам автор считает свою работу только первой отливкой стали...
Иннокентий Павлович кратко рассказал Колосову биографию автора – биографию комсомольца, участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за советскую власть здоровье.
– Для Островского,– заключил Феденёв,– эта книга не только литературное произведение... Это – путь, чтобы снова вернуться в строй действующих борцов за коммунизм.
Впоследствии выяснилось, что Иннокентий Павлович Феденёв был прототипом одного из героев романа – Леденёва.
Образ старого большевика Леденёва тепло выписан Островским. Это с ним в санатории «Красная Москва» Павел Корчагин играл в шахматы, это он советовал Корчагину написать книгу о своей жизни.
Колосов прочитал рецензию. Консультант упрекал автора не только в художественной беспомощности, но и в незнании... комсомольской жизни. Так, например, консультант считал нетипичным, нехарактерным, что рабочий паренек Павка Корчагин влюбляется в гимназистку Тоню Туманову. Конечно, отмечал рецензент, такие случаи бывали в жизни, но они нетипичны. Надо, чтобы рабочий парень полюбил бы рабочую девушку. По мысли автора, писал далее консультант, книга должна показать героизм комсомольцев в гражданской войне. Но какие же героические подвиги совершает на войне Павел Корчагин? Он не пробирается в тыл врага, не взрывает склады с боеприпасами, не приводит е плен офицера. В одном из боев он оказывается тяжело раненным, а потом становится инвалидом. Это тоже нетипично, потому что не все комсомольцы, побывавшие на гражданской войне, возвратились с войны инвалидами. Нетипичной показалась рецензенту и сцена в парке, где Павел Корчагин побеждает в себе пришедшую к нему мысль о самоубийстве. В романе слишком много внимания уделяется индивидуальной судьбе комсомольца. В книге мало обобщений. Роман надо переделать в соответствии с этими замечаниями, заключал свою рецензию консультант.
Прощаясь, Феденёв настоятельно просил Колосова прочесть роман и сказать ему свое мнение.
В тот же вечер Колосов стал читать рукопись. С каждой новой страницей, с каждой новой главой роман все более захватывал его. Он так увлекся, что не заметил, как прошла ночь. Роман Островского необычайно взволновал Колосова. Для него было совершенно ясно, что «Как закалялась сталь» является именно тем произведением, которого так страстно ждала тогда литература. Правда, в романе были стилистические неровности, но его композиция, характеры героев, их язык, их портреты были выписаны так правдиво, так жизненно, так волнующе, что невозможно было оторваться от книги. В превратностях индивидуальной судьбы автору удалось запечатлеть типические черты советского молодого человека, создать яркий характер, показать подлинного носителя коммунистической морали.
Через несколько дней состоялась встреча Колосова с автором.
Николай Островский жил тогда в Мертвом переулке, в доме №12. Теперь этот переулок носит имя Островского. В узкой длинной комнате, по соседству с кухней, Колосов увидел высокого молодого человека в защитной гимнастерке. Он лежал на походной кровати. Лицо Островского, в отличие от его неподвижного тела, было очень живым, выразительным, подвижным и совсем не походило на портреты, которые мы знаем.
Когда Колосов вошел, Островский предложил ему сесть возле себя. Он взял его руку и крепко сжал ее.
– Говори всю правду,– сказал он,– что ты думаешь о моей рукописи? Победа или поражение? Если победа – больше говори о недостатках; о достоинствах скажет читатель. Ты – редактор, и ты должен говорить о недостатках...
Пока Колосов высказывал Островскому свое мнение, тот не выпускал его руки из своей.
Потом отпустил и с лукавой улыбкой спросил:
– Знаешь, почему я не выпускал твою руку?
– Почему?..
– Потому, что я тебя не вижу... Когда я хорошо видел, я проверял искренность и правдивость собеседника по его глазам. Ведь глаза выдают неправду... Но теперь, когда я не вижу лица, я проверяю искренность и правдивость собеседника рукопожатием. Я хотел тебя проверить: где, в каком месте критического разбора моей рукописи твоя рука дрогнет? Для меня это означало бы, что ты, видя мою разрушенную физическую оболочку, усомнился в силе заложенного в ней комсомольского духа и не решился сказать мне о недостатках моего труда. Но ты говорил со мной честно, как комсомолец с комсомольцем, и теперь я считаю тебя своим другом.
Когда автор и редактор подробно обсудили, какие места в романе следует доработать, Колосов сказал Островскому.
– Николай, два года ты работал в очень трудных условиях. На девяносто процентов роман сделан. Теперь требуется только шлифовка, отделка... Ты имеешь право на отпуск. Мы подпишем с тобой договор, поезжай в Сочи, отдохни, наберись сил для новой работы... Мы сами отредактируем рукопись и сдадим в набор...
Островский нахмурился. Колосов не сразу понял, что преобладало в этом выражении его лица – обида или возмущение.
– Ты предлагаешь, чтобы кто-то за меня и без меня довел до конца мой труд? – сказал он.– Ну, а если бы ты предложил хорошему советскому рабочему, чтобы кто-то за него отшлифовал его деталь? Он наверняка бы обиделся! Ведь в шлифовке, в отделке вещь приобретает свою окончательную ценность. В этом – гордость мастера, и ты хочешь меня лишить ее? А кроме того, для меня труд – верное оружие в борьбе с моим заклятым врагом – моей болезнью. Я не уеду в Сочи, пока роман не будет подготовлен к печати. Я сам, своей рукой должен исправить все его недостатки...
И Островский не уехал в Сочи, пока не была закончена вся редакционная работа над рукописью.
С апреля по июль 1932 года – в четырех номерах журнала «Молодая гвардия» – печатался роман Островского «Как закалялась сталь».
Вскоре был получен первый читательский отклик.
Николай Островский жил в Сочи. Письмо это он не мог прочесть. Он лежал недвижимо, тяжело больной. Невидящие глаза он обратил туда, где покачивались вершины кипарисов, к знойному голубому небу. Тревожно-нетерпеливо он ждал, чтобы ему прочли: принят ли, отвергнут ли людьми его труд?
Вот оно, это первое читательское письмо. Я привожу его без изменений: «Николай, братишка! Пишет тебе незнакомый слесарь Краснодарского депо. Уже пять часов утра, а я только что кончил читать про твоего Павку. Я так его полюбил, что всех его врагов прокалывал пером, и до того проколол весь журнал, что теперь сижу и думаю, как его отнести в библиотеку? Но не думай, что если я не спал ночь, а мне в 6 утра на работу, то я там буду клевать носом; нет, я буду работать вдвое, втрое лучше. Этому меня научил твой Павка!»
Островский взял в руки письмо и долго держал его, как бы ощупывая невидимые строки.
СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Минуло три месяца с того дня, как Николай Островский сдал издательству художественной литературы свой роман «Рожденные бурей».
Для каждого писателя «пауза» между окончанием романа и выходом в свет книги всегда бывает волнующей и тревожной. Островский переживал эту «паузу» особенно мучительно и нетерпеливо: с каждым днем он чувствовал себя все хуже, силы уходили, физические страдания становились невыносимыми. И хотя Островского ежедневно навещали друзья, хотя у его постели часто играли музыканты и пели певцы, чтобы немного развлечь писателя, мысль Островского – жадная и неугомонная – все время обращалась к будущему роману.
...Был пасмурный декабрьский день 1936 года. В кабинет директора издательства Николая Никандровича Накорякова вошли заведующий редакцией художественной литературы писатель Виктор Кин и начальник производственного отдела.
– Сейчас звонили из Союза писателей,– в волнении проговорил Накоряков.– Островскому совсем плохо... В каком положении «Рожденные бурей»?..
– Уже есть чистые листы,– ответил начальник производственного отдела.– Дней через десять получим сигнал...
Накоряков задумался. С минуту он молчал, потом сказал:
– Друзья, есть небольшое предложение... Дорог буквально каждый день... Доставим Островскому радость... Может быть, последнюю... Давайте быстро подберем листы, переплетем их и сделаем нечто вроде сигнального экземпляра... Боюсь, когда придет типографский сигнал, будет уже поздно...
– Замечательная мысль, Николай Никандрович,– с жаром воскликнул Виктор Кнн, редактировавший роман «Рожденные бурей».– Непременно сделаем!..
Спустя два дня «сигнал» был готов, и Накоряков решил лично доставить его Островскому.
День выдался холодный, дождливый; зима еще не установилась, и порывистый ветер швырял в лицо заряды мокрого снега. Накоряков шел по обледенелым тротуарам и, казалось, не замечал непогоды. Он думал об Островском и в мельчайших деталях вспоминал свою первую встречу с ним в Сочи... Как он обрадовался, когда узнал, что Государственное издательство художественной литературы собирается выпустить роман «Как закалялась сталь» массовым тиражом!
– Это будет здорово,– сказал тогда Островский.– Я получаю много писем, товарищи жалуются: нигде нет книги...
И чем больше думал Накоряков, тем быстрее память подсказывала ему все новые подробности, факты, эпизоды... Переписка с Островским. Два больших письма о его работе над «Рожденными бурей»... «...Все эти месяцы в Сочи,– писал Островский,– я работал с большим напряжением всех своих духовных и физических сил. Здоровье мое разрушается с обидной быстротой, и работать становится все труднее. И все же первый том написан. Хорошо ли, плохо ли – судите сами. Будьте суровы и беспристрастны. Судите без скидки на объективные причины и прочее...» Затем – приезд Островского из Сочи в Москву, совещание у его постели о новом романе... С какой заинтересованностью выслушивал он замечания товарищей по перу о своем романе!..
...Вот и Тверская, квартира Островского – две небольшие комнаты над бывшим магазином Елисеева. Накоряков быстро поднялся по каменным ступеням на второй этаж и узким полутемным коридором прошел в маленькую комнату. Островский, худой и бледный, недвижно лежал на железной кровати головой к окну.
Узнав о приходе Накорякова, Островский оживился:
– Я рад, очень рад... – произнес он слабым голосом.
– Вот, Николай Алексеевич, сигнал «Рожденных бурей»,– сказал Накоряков, присаживаясь у постели Островского и передавая ему книгу.– Через несколько дней будет тираж...
Островский бережно взял книгу и с какой-то особой нежностью прижал ее к груди.
– Как хорошо! – прошептал он.
«Сигнал» романа «Рожденные бурей» был последней радостью Островского.
ПОДСНЕЖНИКИ
Николай Дмитриевич Телешов долго и тяжело болел. Он лежал в своем кабинете, среди дорогих его сердцу вещей, картин и книг бледный, похудевший, осунувшийся. У изголовья, на маленьком ломберном столике, где стояли склянки с лекарствами, лежала папка с рукописями. Одни были опубликованы много лет назад, другие не печатались вовсе, и взыскательный к своим произведениям Телешов нет-нет да и вносил в них поправки; то вычеркнет слово, то изменит диалог, то заново напишет целую фразу.
Силы Николая Дмитриевича угасали. С каждым днем ему становилось все хуже, но временами болезнь отпускала его, и тогда, чувствуя некоторое облегчение, девяностолетний писатель вновь принимался за работу.
Однажды вечером он позвал сына.
– Была ли сегодня почта, Андрюша?
– Три письма,– сказал сын.
– Прочти.
Одно письмо было от артиста Штрауха, другое – от полковника Веденякина из Ленинграда – письма читателей, выражавших автору «Записок писателя» трогательную признательность за его книгу.
Автором третьего письма был некто Калинин – житель Старого Крыма.
«...У нас теперь весна,– сообщал Телешову его крымский знакомый.– Ярко светит солнце. Тепло. На днях появились подснежники. Я посылаю вам три подснежника. Ведь вы любите эти цветы... Пусть же они напомнят вам Крым, ласковое Черное море и вашего друга Чехова, с которым вы не раз встречались в Крыму...»
Лицо Телешова дрогнуло. Длинными старческими пальцами он осторожно взял подснежники, долго смотрел на них, потом улыбнулся и, обернувшись к Андрею, сказал слабеющим голосом:
Верно. Я очень... очень люблю подснежники...
Это были последние его слова...
СОКРОВИЩЕ
У Шаляпина был объемистый кожаный портфель, оклеенный множеством пестрых ярлыков – памятных ярлыков туристских фирм, отелей, пароходных компаний, стран и городов, в которых гастролировал артист. Все годы, прожитые за границей, Шаляпин возил портфель с собой, никому его не доверял и почти никогда не выпускал из рук.
В портфеле, вместе с самыми необходимыми вещами, лежал небольшой ящичек. Не только люди, работавшие с Шаляпиным – администраторы, концертмейстеры, секретари,– даже родные не имели ни малейшего представления о его содержимом. Они лишь недоумевали, наблюдая, как Шаляпин, приезжая в новый город и входя в приготовленный ему номер, прежде всего бережно вынимал из портфеля ящик и ставил его под кровать.
Зная крутой нрав Шаляпина, никто не осмеливался расспрашивать его о ящике. Когда однажды в каком-то южноамериканском городке не в меру услужливый администратор попытался перенести ящик в угол комнаты, Шаляпин рассвирепел и, не говоря ни слова, тут же водворил его на прежнее место.
Это было таинственно и непостижимо.
После смерти артиста его вдова – Мария Валентиновна Шаляпина – вскрыла ящик,– он был наглухо, почти герметически, заколочен.
И тайное стало явным.
В нем оказалась горсть земли, взятой Шаляпиным перед отъездом за границу с могилы своей матери,– горсть русской земли.
РАССКАЗ О НЕПОЛУЧЕННОМ ИНТЕРВЬЮ
Незадолго до 125-летнего юбилея Малого театра я послал письмо Александру Алексеевичу Остужеву с просьбой принять меня. Мне хотелось побеседовать с замечательным артистом, сфотографировать его и написать о нем очерк. Этим материалом я предполагал откликнуться на юбилей театра, которому Остужев отдал пятьдесят лет жизни. Уже довольно продолжительное время Александр Алексеевич не играл, оставив сцену из-за поразившей его глухоты. Имя Остужева редко появлялось в печати, жил он уединенно в своей квартире в Большом Южинском переулке и с увлечением слесарничал, находя в этом молчаливом труде отдых от тяжкого сознания своей инвалидности,
Прошла неделя-другая после моего письма,– Остужев молчал. Я подумал уже, что письмо либо затерялось, либо, не встретив сочувствия, осталось лежать без ответа.
И вдруг – телефонный звонок Ираклия Андроникова:
– Я звоню по поручению Александра Алексеевича Остужева. Мы с ним находимся в одной палате в Боткинской больнице, Письмо ваше Александр Алексеевич получил. Он благодарит вас за внимание и просит навестить его.
После разговора с Андрониковым я весь день находился в приподнятом настроении. Перспектива увидеть Остужева, говорить с ним, фотографировать его волновала меня. Я вспоминал до мельчайших подробностей две мимолетные встречи с Остужевым за кулисами Малого театра, когда мне удалось сфотографировать Александра Алексеевича на репетиции «Короля Лира». Я вспоминал Остужева в различных спектаклях, которые мне посчастливилось видеть, и явственно слышал неповторимый остужевский голос – голос необъятной трагедийной силы, захватывавший и потрясавший зрителей.
Утром я был в Боткинской больнице.
Я увидел Остужева на скамье в тенистой аллее возле белого больничного корпуса. Он был все такой же, как несколько лет назад, полный мужества и величия, но поседевший, бледный и задумчивый,– только что он перенес тяжелую болезнь сердца, едва не стоившую ему жизни.
Мягко улыбнувшись, Остужев предложил мне сесть рядом.
– Простите, что я не ответил вам сразу, но сами видите, в каком я положении... – он красноречиво развел руками.
Я напомнил о своем письме. Остужев сказал:
– Не надо ничего обо мне писать...
– Вы возражаете?
– Категорически.
После этих слов, сказанных Александром Алексеевичем так решительно, я понял, что мой замысел написать об Остужеве может остаться неосуществленным. Тогда я сказал Остужеву, что он – один из самых любимых советским народом артистов, что юбилей Малого театра – это и его, Остужева, праздник, наконец, говорил я, читатели будут рады узнать, как Остужев живет...
Александр Алексеевич терпеливо и внимательно выслушал и ответил:
– Эх, если бы вы видели меня на сцене лет эдак тридцать тому назад!.. – Голос его вдруг осекся... И в этих словах Остужева, в той взволнованной интонации, с которой он их произнес, я почувствовал и тоску об ушедшем времени и гордость за то огромное наслаждение, какое он доставлял людям.
Чуть помолчав, Остужев потер виски и заговорил:
– Театр всегда ассоциировался у меня с необычайно высокой горой, уходящей в поднебесье, покрытой ледниками от подошвы до вершины. Истинное искусство, казалось мне, лежит далеко, на самой вершине. Всю свою жизнь, более полувека, я стремился взобраться на эту вершину. Я карабкался, падал, но поднимался и вновь медленно, шаг за шагом, отвоевывал у горы метр за метром. Не мне судить, достиг ли я заветной вершины. Скажу лишь, что я стремился ее достичь. И вот я почувствовал, что дальше идти у меня нет сил. И я ушел из театра. Ушел сам. Ушел сознательно. Это большая трагедия – будучи живым, стать мертвым, ибо для актера не играть – значит умереть. Поэтому всякое воспоминание о театре вызывает во мне боль...
Мы сидели молча. Через несколько минут я вновь обратился к Остужеву. Я попросил его разрешения опубликовать эти мысли.
– Остужев умер... – коротко заключил он.
Так я и не получил интервью.
Великий трагик в своей великой скромности считал, что если он и был интересен людям, то это было давно, там, в театре, а сейчас... сейчас, если он не движется к своей «заветной вершине», то он и не стоит того, чтобы о нем говорили, а тем более писали...
– Разрешите хотя бы сфотографировать вас,– попросил я.
Остужев не выразил согласия, но и не возражал, и я сфотографировал Александра Алексеевича в той позе, в какой он сидел.
Мы простились. Издали я наблюдал за ним. Остужев поднялся и направился на прогулку. Он медленно прохаживался по аллее, глядя на посыпанную желтым песком дорожку.
С тех пор я несколько раз встречал на улицах Остужева. Мы здоровались, иногда вспоминали наш разговор в тенистой аллее Боткинской больницы, при этом Александр Алексеевич застенчиво улыбался, как бы прося извинения за то, что не смог удовлетворить моей просьбы.
ПОДВИГ
«Много за выпавшую мне долгую жизнь наслушался я сетований и сожалений о том, что вот, мол, постепенно никого из близких свидетелей и очевидцев мучительной жизни Лескова уже и не сохранилось, что при установленном уже отсутствии личных дневниковых его записей отпадает всякая надежда на возможность появления сколько-нибудь цельной его биографии.
Волею судеб в моем лице сохранился последний близкий свидетель трудного жития Лескова.
В меру моих сил старался я дать проверенную биографию его».
Такими словами заканчивает Андрей Николаевич Лесков свою книгу «Жизнь Николая Лескова» – книгу о своем отце, замечательном русском писателе Николае Семеновиче Лескове, названном А.М.Горьким «волшебником слова».
Книга А.Н.Лескова, давно уже ставшая библиографической редкостью, принадлежит к числу таких произведений, к которым часто возвращаешься, в которых всякий раз находишь новые краски и открываешь новые мысли. Она написана великолепным русским языком – ярким, образным, точным, во многом напоминающим язык самого Лескова. Книга изобилует важными документами, письмами Лескова и письмами к нему его корреспондентов, редчайшими, частью забытыми и совсем неизвестными материалами, «семейными и несемейными записями и памятями». И, глядя на указанную в «выходных данных» цифру – 10 000 экземпляров,– горько сожалеешь, что только очень узкий круг читателей имеет возможность насладиться подвижническим, вдохновенным трудом Андрея Лескова.
Я пошел «по следам» этой книги.
В Ленинграде, в высоком сером доме на площади Революции, в небольшой, скромно обставленной квартире на шестом этаже, я познакомился с вдовой А.Н.Лескова – Анной Ивановной, «незаменимым по знанию темы и материала, неустанным сотрудником» писателя. Она рассказала мне о жизни Андрея Николаевича, о том, как он работал над книгой.
Трагична история книги, необычна биография ее автора.
Андрей Лесков в прошлом – офицер старой русской армии. Крупный военный специалист, он к концу первой империалистической войны был уже в чине полковника. В дни Великой Октябрьской социалистической революции Лесков в числе других русских офицеров перешел на сторону Красной гвардии. Все свои силы, обширные знания и большой опыт он в течение многих лет отдавал делу строительства и укрепления советских Вооруженных Сил, Он был автором первого Устава советских пограничных войск.
Еще находясь на военной службе, Андрей Николаевич начал собирать материалы об отце, разыскивая их у частных лиц, в архивах и хранилищах. Десятки лет он отдал на сбор «Лесковианы»: документов, писем, фотографий, рукописей и «растерянных» – бесподписных работ писателя. Неиссякаемой была энергия этого человека, сумевшего собрать сотни писем Лескова, в свое время адресованных писателем разным лицам.
В тридцатых годах, выйдя в отставку, Андрей Лесков всецело посвятил себя публикации материалов о своем отце. В 1932 году он начал писать большую книгу, посвященную жизни Николая Лескова. В 1936 году книга была окончена. А.М.Горький сердечно отнесся к этой работе и рекомендовал ее к изданию. В сентябре 1941 года в осажденном Ленинграде подписанная к печати рукопись погибла. Погиб и второй ее экземпляр. Уцелели лишь незначительные отрывки, публиковавшиеся в разное время в периодических изданиях.
В 1942 году Андрей Лесков с женой, пережив мучительную блокадную зиму, был в тяжелом состоянии вывезен из Ленинграда в Москву. В числе самых необходимых вещей, которые они смогли взять с собой, были пишущая машинка, кое-что из носильного платья и некоторые автографы Лескова. Но главным, наиболее ценным «грузом» являлась довольно тяжелая по весу картотека, помещавшаяся в двух ящичках. Эту картотеку Андрей Лесков составлял с первого дня своей работы над книгой об отце. Потеря карточек сделала бы невозможной его работу над возобновлением рукописи. Поэтому Андрей Николаевич пуще всего берег картотеку и весь долгий и трудный путь эвакуации носил ящички сам, никогда ни на минуту не оставляя их без присмотра.