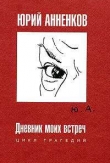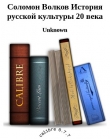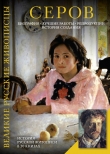Текст книги "Непрочитанные страницы"
Автор книги: Александр Лесс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
На следующий день Ростропович встретился со своими американскими друзьями – сотрудниками американо-русского Института дружбы, музыкантами, работниками артистического агентства. Возникла оживленная беседа. Кто-то заговорил о знаменитых жителях Лос-Анжелоса.
– Вам известно,– спросил Ростроповича один из собеседников,– что в Лос-Анжелосе живут многие знаменитости?.. Здесь и Хейфец, и Стравинский, и Фейхтвангер...
Ростропович воскликнул:
– Как бы мне хотелось познакомиться с Фейхтвангером!..
Это желание было вызвано любовью Ростроповича к творчеству Фейхтвангера, давней искренней любовью читателя.
Дня через два сотрудница артистического агентства сказала Ростроповичу:
– Я звонила господину Фейхтвангеру... Он очень сожалеет, что не мог из-за болезни быть на концерте... Он много слышал о вашем успехе... Господин Фейхтвангер интересуется, не собираетесь ли вы дать еще один концерт, на котором он хотел бы присутствовать?..
Но следующий концерт должен был состояться уже в Сан-Франциско, и Ростропович сказал:
– Передайте дорогому Фейхтвангеру самый горячий привет от меня и от его многочисленных советских читателей... Передайте мою глубокую благодарность за ту теплоту, искренность и человечность, которые излучают его книги... Если он захочет, я с большой радостью ему поиграю...
Фейхтвангер тотчас же откликнулся и назначил час встречи.
В полдень Ростропович, его аккомпаниатор Александр Дедюхин и представитель Министерства культуры Эдуард Иванян выехали из Лос-Анжелоса. Через три часа машина остановилась у небольшого, построенного в испанском стиле, двухэтажного дома с очень маленьким двориком.
– Я увидел Фейхтвангера,– рассказывал Ростропович,– на пороге большой комнаты. Передо мной стоял человек невысокого роста. Волосы он носил ежиком и сам чем-то напоминал ежа – напоминал своим вытянутым носом, быстротой движений, очень зоркими и очень пронизывающими глазами и какой-то «колючестью». Но стоило ему улыбнуться, как сразу же глаза загорались, лицо преображалось, и весь он становился необыкновенно мягким, человечным.
К величайшему своему огорчению, я изучал немецкий язык только в средней школе и знаю его крайне плохо. Правда, я почти все могу выразить с помощью немецкого языка, но делаю это, минуя грамматику. Поэтому мой собеседник хотя и понимает, о чем идет речь, но не понимает одного: это было, есть или будет.
С первой же минуты встречи с Фейхтвангером я почувствовал себя настолько подавленным своим «знанием» немецкого языка, что боялся открыть рот и старался говорить глазами, жестами, мимикой. Но на десятой или, может быть, на пятнадцатой минуте Фейхтвангер уже подбирал такие простые немецкие слова, был настолько обаятелен и прост, сумел вселить в меня уверенность, что я владею немецким не хуже великих литераторов Германии, что вскоре я поймал себя на дерзкой мысли: я очень хорошо говорю по-немецки, а Фейхтвангер, напротив, что-то очень часто задумывается...
Если верна мысль, что можно подобрать ключи к сердцу человека, то за эти первые пятнадцать минут Фейхтвангер ключами и отмычками открыл всего меня совершенно. Мы смеялись, непринужденно болтали о всяких пустяках. Марта Фейхтвангер подвезла маленькую «тележку» с винами и закусками. Маленькая «тележка» быстро помогла забыть дорожную усталость, и мне сразу захотелось играть для этого человека,– пожалуй, никогда я не испытывал такого физического желания играть.
Я спросил Фейхтвангера, что бы он хотел послушать?
Он ответил:
«Я очень люблю Баха... Это, знаете ли,– музыка без трюков...»
Я начал играть сюиты Баха для виолончели соло. Я играл в большой комнате с огромными окнами, выходящими на океанский залив.
Между частями я случайно взглянул на Фейхтвангера. Он сидел задумчивый, сосредоточенный, словно ушедший в себя. Это его состояние мгновенно сообщилось мне, и я подумал, что он слушает совсем не исполнителя, что он как бы «перешагивает» через исполнительские приемы и нюансы, наслаждаясь одной только музыкой. И когда я хотел остановиться, Фейхтвангер произнес едва слышно:
«Еще... Еще, если можно...»
Я играл много и долго. Как только я кончил, Фейхтвангер, взволнованный и возбужденный, быстро подошел ко мне, сунул в руки грифель, стремительно перевернул стул, на котором я сидел, и попросил расписаться на днище стула. Я был ошеломлен.
Несколько позже, за общим столом Фейхтвангер, растягивая слова, задумчиво проговорил:
«Знаете, я не понимаю, когда наши критики и музыковеды стремятся привязать – да, да, именно привязать! – к музыке какую-то конкретную идею... Мне кажется, что музыка создает такое настроение, такое состояние души человека, создает в его сознании почву, поднимает все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет его настолько, что у него появляются собственные, внушенные или вдохновленные этой музыкой идеи...»
Марта Фейхтвангер шутливо сказала:
«Если бы вы только знали, как Лион любит музыку!.. Он даже собирался стать скрипачом, но,– добавила она с улыбкой,– в этой области из него так ничего и не вышло...»
Фейхтвангер смутился, покраснел, и нам показалось, что жена выдала его сокровенную тайну.
В тот прекрасный, тихий весенний вечер Фейхтвангер много рассказывал о своих мучительных переездах из Германии во Францию и из Франции в Америку.
«До сих пор я с дрожью вспоминаю трагическое гитлеровское время – «Гитлерцейт»,– сказал Фейхтвангер, и его глаза блеснули гневом.– Какая это была ужасная машина, производившая страдания и разрушения!.. У меня погибли две библиотеки, которые я собирал почти всю жизнь... Правда, здесь я создал новую библиотеку, и у меня уже есть много редких и ценных книг... Я очень люблю книги, люблю свою библиотеку...»
Я говорил Фейхтвангеру о его огромной популярности в Советском Союзе, о любви к нему наших читателей, говорил о том, что, каков бы ни был тираж его романов, их все-таки не хватает и они переходят из рук в руки.
Фейхтвангер внимательно слушал и, подумав, ответил:
«Здесь, в Америке, многие тоже покупают мои книги... Но у меня есть опасения, что часть людей все же покупает их из-за красивых переплетов – приятно ведь поставить на полку книгу в красивом переплете!..»
Последние слова он произнес с грустью.
«Я люблю вашу могучую страну,– сказал Фейхтвангер, прощаясь,– Она действительно могуча. Могуча не только своими гигантскими расстояниями, полями, реками, горами, но – главное – духом народа».
Вскоре мы уехали. Был поздний вечер, и наша машина медленно спускалась по вьющейся неширокой горной дороге. Вдали в огнях сверкал Лос-Анжелос. Я думал о Фейхтвангере и о том, каким громадным событием была для меня встреча с этим большим писателем и человеком.
ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ...
Двадцать пять лет жил среди нас очень скромный человек.
Его звали Сесар Муньос Арконада.
Он был писателем, коммунистом, борцом за свободную Испанию.
Когда власть захватил Франко, потопив в крови республиканскую Испанию, Арконада приехал в Москву, и с той поры Советский Союз стал его второй родиной.
Арконада редактировал испанские издания журналов «Интернациональная литература» и «Советская литература», писал рассказы, пьесы, стихи, переводил советских поэтов. Нередко его стихотворения появлялись на страницах наших центральных газет и журналов,– это были произведения большого мастера, со своей языковой палитрой – горячей и яркой, как природа его родины.
...В конце февраля Арконада заболел. Его поместили в Кремлевскую больницу. Предстояла тяжелая операция, исход которой невозможно было предвидеть. Это знали близкие поэта, знал и он сам. Но он продолжал думать, творить. За восемь дней до операции Арконада получил от своего друга и заместителя по журналу «Советская литература» Хосе Сантакреу несколько валенсийских апельсинов. Они были завернуты в тончайшую папиросную бумагу с красочными рекламными марками фирмы. Арконада откликнулся на этот подарок взволнованным сонетом «Апельсины из Гандии», который посвятил Сантакреу. Бумаги под рукой не оказалось, и писать пришлось на бумажных салфетках, случайно оставленных санитаркой на тумбочке. А накануне операции Арконада написал стихотворение, посвященное Тарасу Шевченко, Он торопился отправить его в Киев, в редакцию газеты «Литературная Украина», и говорил Сантакреу:
– Там ждут это стихотворение... Не забудь послать сегодня же... Не беда, что нет подстрочника... В Киеве найдется испанец, знающий русский язык, он сможет перевести...
Через несколько дней после операции Сантакреу снова навестил Арконаду. Худой и бледный, он лежал с полузакрытыми глазами. Щедрое мартовское солнце, пробиваясь сквозь занавески, слепяще светило в большое больничное окно.
Сантакреу знал, что состояние Арконады очень тяжелое, и, войдя в палату, неслышно сел у постели, бережно взял своими большими сильными пальцами исхудавшую руку друга и тихо сказал:
– Сесар, помнишь стихотворение, которое ты дал мне несколько месяцев назад?.. Оно называлось «Свободу испанскому народу!»...
Арконада открыл глаза и, немного подумав, кивнул головой – говорить ему было уже трудно.
– Я послал его Карлосу Паласио в Париж... А сегодня получил от него письмо... Вот оно... Я прочту тебе это письмо...
Знаменитый испанский композитор, революционер, борец за республиканскую Испанию, живущий в Париже, сообщал, что он написал музыку на стихи Арконады и по подпольной радиостанции «Пиренайка» новая революционная песня уже несколько раз передавалась в Испанию...
– Это правда? – с трудом приподнявшись на постели, спросил Арконада, как бы не веря своим ушам,– Паласио?.. Замечательно!..
Он бессильно закрыл глаза и опять откинулся на подушку, и Сантакреу уже подумал, что Арконада заснул, но он вдруг открыл глаза, улыбнулся счастливой улыбкой и проговорил:
– Знаешь, это великое счастье, когда сознаешь, что до последнего вздоха ты нужен своему народу и можешь разговаривать с ним через материки, через океаны, даже через смерть... Через всё... Через всё!..
КОММЕНТАРИЙ К ПОРТРЕТУ
Несмотря на предельно «плотную» программу пребывания в Советском Союзе, Ирвинг Стоун, едва ступив на московскую землю, сказал, что он хотел бы побывать в музеях, где хранятся картины Ван-Гога.
Это желание отнюдь не было случайно: работая над биографическими романами, писатель обычно так «сживается» со своими героями, что уже не расстается с ними всю жизнь.
Роман Стоуна «Жажда жизни» увидел свет почти тридцать лет назад. С тех пор он завоевал прочную любовь читателей во всем мире, а автор, создавший книгу о Ван-Гоге, по-прежнему мысленно с ним, по-прежнему любит его, интересуется всем, что связано с его трагической жизнью и неистовым творчеством.
...Высокий, седой, с чуть смугловатым лицом, подтянутый и быстрый в движениях, Ирвинг Стоун вошел в зал музея. Писатель не знал в точности, что именно он увидит, да это и не имело для него особого значения: ведь каждое полотно, каждый рисунок Ван-Гога – зека в жизни художника, пусть маленький, но все же штрих его биографии.
В этот час в музее было мало людей, и в зале, где висели картины Ван-Гога, стояла торжественная тишина, нарушаемая лишь шорохом шагов да сдержанным шепотом посетителей.
Вдруг взгляд писателя остановился на портрете, заключенном в массивную раму. Возможно ли?.. Стоун подошел ближе, затем отступил, снова приблизился и долго молча рассматривал портрет.
После длительного молчания Стоун сказал, обращаясь к переводчику:
– С этим портретом связана интереснейшая история... О ней я никогда не писал, и она известна лишь двум-трем моим друзьям... Хотите, я расскажу вам эту историю?..
Стоун и переводчик отошли от портрета, сели на банкетку, и Стоун начал:
– Когда я задумал роман о Ван-Гоге, я объехал все страны и города, в которых бывал Ван-Гог. Я ночевал в тех гостиницах и домах, в которых жил Ван-Гог. Я даже спал на той кровати, на которой Ван-Гог умер.
Я беседовал буквально со всеми людьми, знавшими Ван-Гога,– их справки и сведения оказали мне неоценимую помощь в работе над романом. Среди людей, с которыми свела меня судьба, был арльский врач Феликс Рей. Он лечил Ван-Гога после того, как художник, в припадке безумия, отрезал себе ухо.
Конечно, у Ван-Гога не было ни гроша, чтобы расплатиться с доктором. Да, собственно, тот и не ждал от него гонорара. Но когда Ван-Гог заявил, что хочет в благодарность написать его портрет, доктор не возражал. Рей верил, что кропотливая работа кистью и красками отвлечет больного от гнетущих дум и будет способствовать выздоровлению.
Через некоторое время портрет был готов, и Ван-Гог торжественно преподнес его доктору.
Надо сказать, что доктор Рей считал Ван-Гога совершенно бездарным художником. И если он все же согласился взять портрет, то только потому, что не хотел обидеть пациента.
Доктор унес портрет домой и решил прикрыть им какую-то дыру в обоях.
Портрет висел долго, никто не обращал на него никакого внимания, как вдруг, в один прекрасный день, к врачу явился какой-то любитель живописи и, увидев портрет, предложил за него хозяину двадцать пять франков.
Сделка состоялась, и вскоре доктор совершенно забыл о портрете.
Прошли годы.
Однажды доктор Рей получил письмо из Москвы. В письме был запрос: действительно ли он, доктор Рей, изображен на портрете Ван-Гога, репродукция с которого прилагается?..
Рассказывая мне эту историю, Феликс Рей вдруг замолчал, потом печально вздохнул и недоуменно развел руками:
«Ну, скажите, мистер Стоун,– говорил Рей,– скажите, мог ли я знать, что мое имя останется в истории только потому, что мой больной написал с меня портрет, которым я прикрывал дыру в обоях?!»
...Портрет доктора Рея кисти Ван-Гога можно увидеть на первом этаже Музея изобразительных искусств имени Пушкина.
ЧЕРНОЛИКИЙ ДРУГ
Один из наших театральных деятелей, недавно побывавший в Америке в составе группы советских туристов, сказал мне: – Вот вы собираете всякие любопытные истории из жизни писателей... Я расскажу вам занятный эпизод, свидетелем которого мне пришлось быть... Возможно, вы используете его при случае...
История, услышанная мною, и впрямь оказалась удивительной.
В Чикаго, в доме председателя местного Общества американо-советской дружбы Манделя Тэйн, на встречу с гостями из СССР собралось много народа – артистов, писателей, рабочих, художников, представителей делового мира. Сквозь тесную толпу приглашенных неожиданно пробился высокий молодой негр.
– Где тут Лев Кассиль? Правда, что он приехал? – еще издали спрашивал он, расталкивая гостей и откидывая длинные вьющиеся волосы.
Негр говорил по-русски совершенно свободно, удивительно чисто, без малейшего акцента.
– Кто из вас Лев Кассиль? – продолжал он.– Как же это мне раньше не сказали, что он входит в вашу группу? Я чуть было уже не уехал... Я ведь с линии прибыл сюда...
И он помахал рукой, на пальце которой вертелась цепочка с ключом от автомобиля.
Кассиль назвал себя.
– Вы? – обрадованно и вместе с тем недоверчиво воскликнул негр. Он с полудетским радостным изумлением оглядывал писателя с ног до головы.– Нет, честное слово? Вот это здорово... Вот где я вас повидал – в Чикаго! Я ведь на ваших книгах, можно сказать, воспитывался...
– Как?.. Каким образом?..– спросил удивленный писатель.
– Да я семнадцать лет жил в СССР. Отец у меня там работал. И я, как научился читать по-русски, так и взялся за ваши книги, А теперь я – шофер такси. И, честное слово, часто вас вспоминаю. Но никогда не думал, что увижу,– говорил он, продолжая все еще с любопытством рассматривать Кассиля.– Вы для меня – мое советское детство и, между нами говоря, немножко еще и мечта о моем американском будущем. То есть не только о моем, но и о нашем... Понятно?..
Собеседник писателя замолчал, но вдруг, взглянув на часы, виновато улыбнулся:
– Ну, ай бэг ё пардон, извините... Мне надо в машину... Я сегодня еще почти ничего не заработал...
И через минуту под окном заурчал мотор.
...Все это произошло так внезапно и стремительно – и появление негра, и беседа с ним, и его поспешный уход,– что Кассиль смог осознать случившееся уже поздно вечером, когда приехал в отель. И тут-то он спохватился, что в волнении и спешке не записал ни имени, ни адреса своего заокеанского питомца-читателя. Но, может быть, он прочтет эти строки и откликнется, этот чикагский шофер, черноликий друг советского писателя?!..
ОШИБКА БРЮСОВА
Сергей Петрович Бородин, подарив мне с дружеской надписью свой роман «Звезды над Самаркандом», сказал, как всегда, с оттенком легкой иронии:
– Если в вашей «копилке литературных курьезов» есть еще место – могу сообщить любопытный случай. О нем я почему-то вспомнил сейчас, когда надписывал вам роман.
Разумеется, я тотчас же извлек блокнот и услышал следующую историю, и комичную и поучительную одновременно.
– Почти невозможно предвидеть, как сложится творческая судьба того или иного художника, трудно угадать, как, когда и на каком пути раскроется его дарование. В этом вопросе порой ошибаются даже признанные литературные авторитеты.
Я, например, начал сочинять в девятилетнем возрасте – писал маленькие очерки и печатал их в разных приложениях к детским журналам. В то время я считал себя писателем в большей степени, чем теперь. Затем увлекся живописью, твердо решил стать пейзажистом и долгие часы проводил в студиях Пролеткульта. Потом подумал, что прежде, чем стать живописцем, надо получить широкое гуманитарное образование, и с этой целью в тысяча девятьсот двадцать втором году поступил в Литературный институт, которым руководил Валерий Яковлевич Брюсов.
Вскоре для меня стало очевидным, что я буду заниматься литературным трудом. А литературный труд виделся мне лишь в поэзии – тогда я писал и печатал только стихи,
В двадцать четвертом году, вернувшись в Москву из Бухары, я написал несколько рассказов, которые позже вошли в книгу «Последняя Бухара». Я дал их прочитать Брюсову. Он прочитал и сказал:
«Нет, прозаик из тебя не получится; проза требует большей твердости, а ты прирожденный поэт».
Но в данном случае Брюсов ошибся,– поэт из меня так и не получился...
ПОИСКИ «КОНЯ»...
– Тридцать лет назад я работал репортером в ульяновской газете «Пролетарский путь».
Однажды я узнал, что в Ульяновск приехала Мариэтта Сергеевна Шагинян.
Она поселилась в гостинице – большом каменном трехэтажном здании, в котором, по преданию, был заключен Пугачев.
В то время я писал небольшие рассказы, но печатать их стеснялся. Опубликовал только один рассказ – подражательный рассказ «Пахом»,– его я послал на конкурс, объявленный ульяновской городской газетой.
С трепетом вошел я в гостиницу. Я чувствовал неодолимую потребность показать свои рассказы такой крупной писательнице, посоветоваться с ней, узнать ее мнение.
Мне сказали, что номер, в котором остановилась Мариэтта Сергеевна, находится на втором этаже.
По решетчатым чугунным ступеням я поднялся на второй этаж, подошел к двери и робко постучал.
Молчание.
Я постучал более решительно.
Никакого ответа.
«Она плохо слышит,– сказал проходивший мимо истопник, неся охапку дров.– Возьми полено да и стукни в дверь как следует!..»
Я постоял несколько минут в раздумье, затем выбрал кругляш и энергично стукнул в дверь.
Послышались шаги, дверь распахнулась, и в неясном свете зимнего дня я увидел фигуру женщины в халате. Она чем-то напоминала слетевшую с насеста птицу.
«Вы почтальон?» – спросила она.
«Нет, я не почтальон»,– ответил я.
«А кто же вы?..»
От волнения я не мог произнести ни слова.
«Мариэтта Сергеевна, я пишу... рассказы...» – наконец выдавил я.
Услышав эту фразу, писательница поморщилась и сказала:
«Ну, входите...»
Она предложила мне сесть и спросила, что я пишу и о чем. Она внимательно слушала, одобрительно кивала головой, иногда улыбалась и вдруг совершенно неожиданно спросила:
«Скажите, кто сейчас командует республиканскими войсками в Испании?..»
Я почувствовал, что холодею. Как на грех, я запамятовал фамилию нового командующего.
«Не знаю»,– честно признался я.
Тут произошло невероятное.
Гневно вращая глазами, писательница замахала руками и стала кричать:
«Как же вы хотите стать писателем и не знаете, кто сейчас командует республиканскими войсками в Испании?.. Как вы можете не знать таких крупных событий международной жизни?..»
Она долго еще бушевала и отчитывала меня, и я готов был провалиться со стыда сквозь все этажи этой чертовой гостиницы.
Постепенно Мариэтта Сергеевна успокоилась, гнев ее прошел, и она сказала:
«Ладно... Оставьте ваши рассказы и заходите в это же время через неделю...»
Я ушел в тягостном настроении, убитый и удрученный.
Всю неделю я терзался сомнениями, думая только о предстоящем свидании.
В назначенный час я подошел к заветным дверям.
Теперь меня уже не нужно было учить, как их открывать. Я выбрал аккуратное поленце, стукнул в дверь и через минуту увидел Мариэтту Сергеевну. Она улыбалась.
«Будем пить чай с вареньем!» – сказала она.
«Боже! – пронеслось в голове.– Если меня встречают чаем с вареньем, значит, я написал великолепные рассказы!..»
Мариэтта Сергеевна усадила меня рядом с собой и стала расспрашивать, сколько мне лет, кто мои родители, кого я люблю из писателей.
Я все ждал, что она заговорит о моих рассказах, но Мариэтта Сергеевна молчала.
После чаепития писательница сказала:
«А теперь поговорим о ваших рассказах...»
Из ее слов я понял, что я человек не без способностей, что один рассказ она могла бы рекомендовать какому-нибудь московскому журналу, но не советует печататься...
«У вас еще нет своей темы,– сказала она.– Нет своего коня. Ищите своего коня!.. И когда вы найдете его, можете смело въезжать в литературный ряд... Пусть грива вашего коня будет не очень хорошо подстрижена – не беда! Зато все увидят, что вы сидите на коне!..»
...Что значит «искать своего коня», я понял много позже, когда вплотную столкнулся с жизнью. Постепенно деревня, дорогая мне с детских лет, стала предметом моей писательской любви, и когда в тысяча девятьсот сорок втором году я разъезжал в качестве корреспондента по Алтаю, я почувствовал, как во мне накапливается огромный жизненный материал, как постепенно из этого материала складывается замысел моего первого романа «Горячие ключи».
В «промежутке» между беседой в ульяновской гостинице и первым романом я написал пятьдесят рассказов. Все они были для меня как ступеньки, как подступы к роману...
...Елизар Мальцев улыбнулся и заключил:
– Я вспомнил об этой встрече сегодня, когда мы с тобой проходили по Плотникову переулку, мимо высокого серого дома, на самом верху которого живет Мариэтта Сергеевна.
ДИАЛОГ ДРАМАТУРГОВ
В 1940 году Комитет по делам искусств заказал Алексею Толстому, Илье Сельвинскому и Владимиру Соловьеву пьесы об Иване Грозном.
Соловьев и Толстой были в дружеских отношениях. Встретив однажды Соловьева в Доме актера ВТО, Толстой спросил его с добродушной усмешкой:
– Слушай, ты действительно будешь писать об Иване Грозном?
– Да,– ответил Соловьев.
– А разве ты не знаешь, что и я буду писать?
– Знаю.
– И все-таки будешь?
– Буду,– сказал Соловьев и рассмеялся.
– Ну и нахал же ты, братец! – воскликнул Толстой.– Неужели ты не понимаешь, что это и материал мой, и эпоху я знаю лучше?.. Как друг тебе говорю: не советую писать, не советую...
– Я знаю, что ты советуешь мне как друг,– сказал Соловьев,– только ты не учитываешь, что я буду писать в стихах, а ты – в прозе. А это решающее обстоятельство.
– В чью это пользу решающее? – спросил Толстой.
– В мою, конечно,– ответил Соловьев.– Ты вспомни хоть одну историческую пьесу, написанную в прозе, чтобы она пережила свое время... На историческую тему подолгу живут только пьесы, написанные в стихах.
Толстой задумался.
– Это почему же? – спросил он,
– Пойми: я сразу начну действие. Мне не надо ни бытовых подробностей, ни соответствующих обрядов, ни мотивировок. Белый стих – язык торжественный, а прошлое в глазах поздних поколений всегда выглядит торжественно. В прозе же надо быть обязательно бытописателем. И язык у тебя будет более неуклюжим, каким он в действительности был в то время, и на бытовые мотивировки у тебя уйдет половина времени, и романтического начала того не будет, которое в исторической пьесе совершенно необходимо. И проиграть тебе это соревнование досадно потому, что, по мнению всех, ты начинаешь его с гораздо большими данными, тогда как на самом деле гораздо больше данных у меня. Просто по точности фокуса, который дает стихотворная форма.
Присутствовавший при этом разговоре народный артист Анатолий Горюнов заметил с улыбкой:
– А ведь в том, что говорит Соловьев, ей-богу, есть какая-то сермяжная правда, Алексей Николаевич... Ни одной исторической пьесы, написанной в прозе, не помню: и «Мария Стюарт», и «Ричард III», и все исторические хроники Шекспира, и «Орленок» – все в стихах...
Толстой нахмурился.
– Ну ладно, пиши,– сухо сказал он.
И Толстой написал вместо одной пьесы – две. Но прошли они только в четырех театрах Советского Союза.
Когда в 1944 году Соловьев случайно встретился с Толстым, Алексей Николаевич был уже тяжело болен. Усмехнувшись, он сказал:
– Знаешь, досаднее всего не то, что ты оказался прав насчет стихотворной формы, а то, что кое-кто думает, что ты действительно лучше меня написал...
– Ну, это не важно, Алексей Николаевич,– сказал Соловьев,– мы-то с тобой знаем, в чем тут дело...
К ИСТОРИИ «ПУШКИНА»
В 1923 году журнал «Россия» опубликовал повесть «Записки на манжетах», принадлежавшую перу никому не известного автора – Михаила Булгакова.
Автор повести, обратившей на себя внимание читателей, работал в то время репортером в газете «Гудок». Жил он бедно, постоянно нуждался, ходил в дырявых башмаках и в старом, потрепанном пальто.
Незадолго до этого он приехал в Москву из глухой провинции и в тайниках души мечтал познакомиться с Викентием Викентьевичем Вересаевым.
Он хотел пожать руку автору «Записок врача» – книги, которая взволновала его еще в те дни, когда он и не мечтал о литературной деятельности и работал земским врачом.
Дождливым осенним вечером Булгаков позвонил в квартиру Вересаева.
Дверь открыл сам писатель.
– Булгаков,– смущенно представился вошедший.
И от волнения почему-то снял галоши.
– Чем могу служить? – спросил Вересаев.
– Да, собственно, ничем, Викентий Викентьевич,– виновато пробормотал Булгаков, как бы оправдываясь за внезапное вторжение,– просто хотел пожать вам руку... Ваша книга «Записки врача» очень мне понравилась...
Вересаев промолчал.
– Ну, до свидания,– после минутного неловкого молчания сказал Булгаков и стал надевать галоши.
– Погодите, а фамилия-то как ваша? – спросил Вересаев, приставляя к уху сложенную рупором ладонь.
– Булгаков.
– Как?
Булгаков повторил фамилию несколько громче, догадавшись, что Вересаев плохо слышит.
– Булгаков?.. Михаил?..
– Да.
– Так это вы – автор «Записок на манжетах»?
– Я самый.
– Голубчик вы мой,– воскликнул Вересаев,– что же вы мне раньше не сказали?.. Раздевайтесь, пожалуйста, заходите, гостем будете!..
Так Булгаков познакомился с Вересаевым.
Прошло несколько лет. Булгаков стал известным драматургом. На сценах московских театров – Художественного, Камерного и Театра имени Вахтангова – с большим успехом шли его пьесы: «Дни Турбиных», «Багровый остров», «Зойкина квартира».
И вдруг одна за другой были сняты с репертуара все пьесы, прекратились репетиции новых. Чуть ли не ежедневно некоторые ретивые критики травили Булгакова, обвиняя его во всех смертных грехах.
Для драматурга наступили черные дни: его не печатали, он нигде не мог найти работу, о постановке пьес не могло быть и речи.
Булгаков стойко, с фанатической верой в свою правоту и в свои силы переносил это тяжелое время. Все, что можно было продать, он продал, жить дальше было не на что.
Как-то открывается дверь – входит Вересаев.
– Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно,– сказал Вересаев своим глухим голосом, вынимая из портфеля завернутый в газету сверток.– Вот возьмите... Здесь пять тысяч... Отдадите, когда разбогатеете...
И ушел, даже не выслушав слов благодарности.
Однажды Булгаков пришел домой радостно-возбужденный.
– Новая пьеса... – еще на пороге загадочно шепнул он жене.– Есть новая пьеса...
В тот момент он больше ничего не сказал.
А вечером раскрыл секрет:
– Понимаешь, – говорил Михаил Афанасьевич,– это будет пьеса о Пушкине. Но без Пушкина. Его зрители не увидят. И знаешь,– заключил он, – я надумал пригласить в соавторы Вересаева.
– Зачем?.. Зачем тебе соавтор?..
– Надо,– твердо ответил Булгаков.– Ведь в самое трудное время он помог нам.
И через минуту:
– Собирайся, поедем...
– Куда?
– К Вересаеву.
Спустя полчаса Булгаков с женой были уже у Вересаева.
– Вот дело какое, Викентий Викентьевич,– смущенно заговорил Булгаков.– Задумал я пьесу о Пушкине.
– О Пушкине? – переспросил Вересаев.– Очень хорошо... Очень...
– Да, Викентий Викентьевич, но Пушкина в пьесе не будет.
– Как не будет?.. Это очень плохо...
И Булгаков, увлекаясь, начал говорить о своей будущей работе. По тому, как оживленно и красочно рассказывал Булгаков, по тому, как он передавал содержание одной картины за другой, можно было понять: пьеса окончательно, в мельчайших деталях сложилась в его мозгу, он видел пьесу на сцене, чувствовал и слышал ее героев.
Закончив рассказ, Булгаков сказал:
– Вот и все, Викентий Викентьевич... А теперь еще одно дело: хочу пригласить вас в соавторы... У вас богатейший материал... Вы написали книгу о Пушкине... Пусть будет так: ваш материал – моя драматургия...
Вересаев, внимательно слушавший своего собеседника и ни разу не прервавший его, при этих последних словах вскочил, заволновался, забегал по комнате:
– Нет, нет и нет!.. Ни в коем случае!..– восклицал он.– Вы такой талантливый драматург!.. Не нужен вам соавтор... К тому же я вижу, что пьесу вы задумали не так, тему разрешаете неправильно... Где же, позвольте вас спросить, дуэль?
Булгаков внешне спокойно слушал тираду Вересаева. Когда Викентий Викентьевич несколько успокоился и страсти, казалось, улеглись, Булгаков вновь принялся убеждать Вересаева согласиться.
– Поймите,– говорил Булгаков,– будут две фамилии... По алфавиту... Моя и ваша... Все пополам...
Вересаев был взволнован и озадачен. Несколько минут он сидел неподвижно, погруженный в раздумье. Неожиданно он быстро встал, подошел к Булгакову, порывисто обнял его и поцеловал.
Два месяца с утра и до вечера Булгаков работал над пьесой. Он писал со страстной увлеченностью, забыв обо всем на свете. Каждую законченную картину он читал Вересаеву. Но всякий раз работа Булгакова вызывала у Вересаева сомнения, возражения. Разгорались ожесточенные споры, которые иногда длились несколько часов.