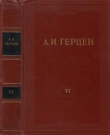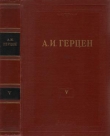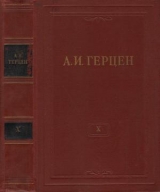
Текст книги "Том 10. Былое и думы. Часть 5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
В заключение этого сравнения я расскажу один случай, в котором я наглазно и лицом к лицу видел всю пропасть, делящую итальянцев от тедесков[139]139
немцев (итал. tedeschi). – Ред.
[Закрыть] и в которую сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь.
Отправляясь с Тесье-дю-Моте в 1852 году из Генуи в Лугано, мы приехали ночью в Арону, спросили, когда идет пароход, узнали, что на другой день утром в восемь часов, и легли спать. В половине восьмого портье пришел взять наши чемоданы, и когда мы вышли на берег, они уже были на палубе. Но, несмотря на то, вместо того, чтоб идти на пароход, мы глядели с некоторым недоумением друг другу в глаза.
Над шипевшим и покачивавшимся пароходом развевался огромный белый флаг с двуглавым орлом, а на корме красовалась надпись: «Fürst Radetzky»[140]140
«Князь Радецкий» (нем.). – Ред.
[Закрыть]. Мы забыли с вечера спросить, какой пароход отходит, австрийский или сардинский. Тесье, по версальскому суду, был осужден in contumaciam[141]141
заочно (лат.). – Ред.
[Закрыть] на депортацию[142]142
ссылку (франц. déportation). – Ред.
[Закрыть]. Хотя Австрии до этого и не было дела, но как не воспользоваться случаем, ну хоть за справками, месяцев шесть продержать в тюрьме? Пример Бакунина показывал, что они могут сделать со мной. По договору с Пиэмонтом австрийцы не имели права требовать паспортов у тех, которые, не высаживаясь на ломбардский берег, ехали в Магадино, принадлежащий Швейцарии, – но я думаю, что они не побрезгали бы, если б можно было, таким простым средством, чтоб схватить Маццини или Кошута.
– Что же, – сказал Тесье, – ведь идти назад смешно!
– Ну, так вперед! – и мы взошли на палубу.
Когда канат был взят, пассажиров окружили взводом солдат с ружьями. Зачем? – не знаю. На пароходе стояли две небольшие пушки, особым образом прикрепленные. Когда пароход пошел, солдат распустили. В каюте, на стене, висели правила: в них было подтверждено, что едущие не в Ломбардию не обязаны предъявлять паспортов, но было добавлено, что если что-нибудь из этих лиц сделает какой-либо проступок против К.-К. (kaiserlich-königlichen)[143]143
императорско-королевских (нем.). – Ред.
[Закрыть] полицейских уставов, тот имеет быть судим по австрийским законам. Or donc[144]144
Ну, а (франц.). – Ред.
[Закрыть] носить калабрийскую шляпу или трехцветную кокарду было уже австрийское преступление. Только тогда я вполне оценил, в каких мы когтях. Однако я далек от того, чтоб раскаиваться в моей поездке: все время нашего пути ничего не произошло особого, но я сделал богатый штудиум[145]145
Здесь: опыт (нем. Stulium). – Ред.
[Закрыть].
На палубе сидело несколько итальянцев; мрачно, молча курили они сигары, с затаенной ненавистию посматривая на суетившихся во все стороны и без всякой нужды белобрысых и одетых в белые сертуки офицеров. Надобно заметить, что в их числе были мальчишки лет двадцати и, вообще, они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвратительный австрийский акцент в немецком языке. Повторяю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту манеру стоять повернувшись спиной возле самого носа, ломаться и показывать «мы, де, победители – наша взяла» следовало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, что был бы рад, если б это случилось, и охотно помог бы.
Кто дал бы себе труд счетом пять минут посмотреть на тех и других, тот непременно понял бы, что тут и речи быть не может о примирении, что в крови у этих людей лежит ненависть друг к другу, которую распустить, смягчить, привесть к безобидному племенному различию надобно века времени.
После полудня часть пассажиров сошла в каюту, другие спросили себе завтрак на палубу. Тут физическая разница еще резче выразилась. Я смотрел с удивлением – ни одного общего приема. Итальянцы ели мало, с той врожденной, натуральной грацией, с которой они все делают. Офицеры рвали куски, жевали вслух, бросали кости, толкали тарелки; одни, наклонясь к самому столику, с особенной ловкостью и необыкновенной скоростью плескали с ложки суп в рот, другие ели с ножа, без хлеба и без соли, масло. Я посмотрел на этих артистов и, глядя на итальянца, улыбнулся – он тотчас понял меня и, симпатически отвечая мне улыбкой, показал полнейший вид отвращения. Еще замечание: в то время как итальянцы с улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый раз благодаря головой или взглядом человека, австрийцы обращались возмутительно с прислугой, так, как русские отставные корнеты и прапорщики обращаются с крепостными при чужих.
Для закуски молодой, долговязый, с светложелтыми волосами офицерик позвал солдата лет пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и начал его ругать за какую-то оплошность. Старик стоял как следует, навытяжке, и, когда офицер кончил, хотел было что-то ему сказать; но лишь только он произнес:
– Ваше благородие…
– Молчать! – закричал раздавленным голосом светложелтый и – «марш!»
Потом, обращаясь к товарищам как ни в чем не бывало, он принялся снова за пиво. Зачем же все это было делать при нас? Да уже не было ли это нарочно сделано для нас?
Когда мы вышли на землю у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали: «Viva la Repubblica!»[146]146
«Да здравствует республика!» (итал.). – Ред.
[Закрыть], a один итальянец, качая головой, повторял: «О, brutissimi, brutissimi!»[147]147
«О, скоты, скоты!» (итал.). – Ред.
[Закрыть]
Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности пародов, о братстве, и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе; но ведь для того, чтоб это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон и Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно и хочется сказать: много веков.
Швейцария. – Джемс Фази и рефюжье. – Monte-Rosa.
Волнение Европы еще так сильно качало в 1849 году, что трудно было установить, живши в Женеве, внимание на одной Швейцарии. К тому же политические партии довольно похожи на русское правительство в искусстве отводить глаза путешественнику. Попадая под их влияние, он все видит, но видит не просто, а под известным углом; он не может выйти из заколдованного круга. Его первое впечатление – подтасовано, закуплено, не ему принадлежит. Пристрастный взгляд партии застает его врасплох, неприготовленного, равнодушного, обезоруженного, так сказать, и, прежде чем он спохватится, делается его взглядом.
В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию, ту, которая сделала демократический переворот, ту, которая в 1847 году подавила Зондербунд. Потом, окруженный больше и больше выходцами, я делил их негодование на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями.
Больше и лучше узнал я Швейцарию в следующие поездки, и всего больше в Лондоне. В томном досуге 53 и 54 годов я многому научился и на многое, из прошедшего и виденного прежде, иначе взглянул.
Швейцария прошла трудным искусом. Между развалинами целого мира свободных учреждений, между обломками цивилизаций, шедших ко дну, перетирая друг друга, середь гибели всех человеческих условий жизни, всех государственных форм в пользу грубого деспотизма две страны остались как были. Одна за своим морем, другая за своими горами, обе – средневековые республики, обе – прочно вросшие в землю вековыми нравами.
Но какая разница в силе и положении между Англией и Швейцарией! Если Швейцария и представляет сама остров за своими горами, то ее промежуточное положение и дух народный обязывают ее, с одной стороны, к трудному лавированию, с яругой – к сложному поведению. В Англии собственно народ покоен, он века на три отстал. Деятельная часть Англии принадлежит известной среде; большинство народа вне движения; ее едва колеблет чартизм, и то исключительно между городскими работниками. Англия стоит в стороне, выбрасывает за океан горючие вещества, по мере их накопления, и там они торжественно взрастают. Идеи не теснятся в нее с материка, а входят тихо, переложенные на ее нравы и переведенные на ее язык.
Совсем другое дело в Швейцарии: в ней нет каст, даже нет ярких пределов между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриции кантонов оказались несостоятельными при первом напоре демократических идей. Через Швейцарию идут взад и вперед все учения, все идеи, и все оставляют следы; она говорит на трех языках. В ней проповедовал Кальвин, в ней проповедовал портной Вейтлинг, в ней смеялся Вольтер, в ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, от пахаря и работника, к самоуправлению, задавленная большими соседями, без постоянной армии, без бюрократии и диктатуры, является, после бурь революции и сатурналий реакций, той же вольной, республиканской конфедерацией, как и прежде.
Желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что единственные покойные земли в Европе – те, в которых личная свобода и свобода речи всего меньше стеснены. В то время как австрийская империя, например, поддерживается рядом coups d'Etat[148]148
государственных переворотов (франц.). – Ред.
[Закрыть] с мошусом гальванических потрясений и административных революций, а французский трон держится одним террором и уничтожением всякой законности – в Швейцарии и Англии сохраняются даже нелепые и устарелые формы, сросшиеся с их свободой и твердые под ее могучей сенью.
Поведение федерального совета в отношении к политическим выходцам, которых они выбрасывали по первому требованию Австрии или Франции, было позорно. Но ответственность за него падает исключительно на правительство: вопросы внешней политики совсем не так близки к сердцу народа, как вопросы внутренние. В сущности, все народы занимаются только своими делами, остальное составляет или дальнее желание, или просто риторическое упражнение, иногда откровенное, но и тогда редко дельное. Народ, составивший себе репутацию своим общечеловеческим участием ко всем и всему, наименее знает географию и всего больше заражен нестерпимо раздражительным патриотизмом. К тому же швейцарец самою природой не увлекается вдаль: он сведен горами на свою родную долину, как житель приморский на свой берег, и, пока его не трогают на ней, он молчит.
Право, присвоенное себе федеральным правительством, распоряжаться выходцами, вовсе не швейцарское, по нем вопрос об эмигрантах – вопрос кантональный. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. По счастию, попытки централизации, кроме тех случаев, где практическая польза их очевидна, как в устройстве почт, дорог, единства монет, вовсе не народны в Швейцарии. Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она несовместна с свободой, – ею легко народы доходят до положения хорошо береженого стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим.
Оттого-то американцы и англичане столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы.
Слабая числом, нецентрализованная Швейцария – гидра, Бриарей, ее не пришибешь одним ударом. Где ее голова? где ее сердце? Сверх того, без столицы нельзя себе представить короля. Король в Швейцарии – такая же нелепость, как табель о рангах в Нью-Йорке. Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей так же резко разграниченный, как их почва, горами же соединенный ими, как она.
Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов, с своими знаменами, в своих костюмах и с карабином за плечами. Гордые своей особенностью своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга и федеральный стяг (остающийся в том городе, где был последний тир), нисколько не смешиваясь.
В этих празднествах вольного народа, в его военной забаве, без оскорбительного étalage'a[149]149
показной стороны (франц.). – Ред.
[Закрыть] монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии, есть что-то торжественное и могучее. Везде произносятся речи, льется домашнее вино, раздаются крики, песни, музыка, и все чувствуют, что на их плечах нет свинцовой плиты, гнетущей власти…
В Женеве, вскоре после моего приезда, давали обед ученикам всех школ перед наступающими вакациями. Джемс Фази (президент кантона) пригласил меня на этот пир. На поле, в Каруже, был разбит большой шатер. Совет и все кантональные знаменитости были налицо и обедали вместе с детьми. Часть граждан, состоявших на очереди, была созвана в мундирах и с ружьями, для почетной стражи. Фази произнес речь, совершенно радикальную, поздравил получивших награды и предложил тост «За будущих граждан!» при громе музыки и пушечных выстрелах. После этого дети, по два в ряд, отправились за ним в поле, где были приготовлены разные забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, т. е. отцы, дяди, старшие братья учеников, составили шпалеры, и, по мере того как глава колонны проходила, они делали «на караул»… да! «на караул» перед сыновьями-мальчиками, перед сиротами, воспитывающимися на счет кантона… Дети были почетные гости города – его «будущие граждане». Странно все это нашему брату, бывавшему на институтских и иных торжественных актах.
Странно и то, что каждый работник, каждый взрослый креьянин, половые в трактирах и их хозяева, жители гор и жители болот знают хорошо дела кантона, принимают в них участие, принадлежат к партиям. Язык их, степень образования очень меняются, и если женевский работник напоминает иногда лионского клубиста, в то время как простой житель гор похож еще до сих пор на лица, окружающие шиллеровского Телля, то это нисколько не мешает тому и другому горячо заниматься общественными делами. Во Франции идут по городам отпрыски и разветвления политических и социальных обществ, члены их занимаются революционным вопросом и но дороге знают кое-что из настоящего управления. Но зато стоящие вне ассоциации, а в особенности крестьяне, ничего не знают и вовсе не интересуются ни делами Франции, ни делами департамента.
Наконец, и нам и французам бросается в глаза отсутствие всяких риз и облачений, всей оперной обстановки правительства. Президент кантона, президент федерального собрания, статс-секретари (т. е. министры), федеральные полковники ходят, как все простые смертные, в кафе, обедают за общим столом, рассуждают о делах, спорят с работниками, спорят при них между собой, и все это запивают вместе с другими иворнским вином да киршем.
С начала нашего знакомства с Джемсом Фази эта демократическая простота поражала меня, и я только впоследствии, вглядываясь ближе, увидел, что во всех законных случаях правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствие гардеробной важности, лампасов, плюмажей, швейцаров с булавой, вахмистров с усами и прочих шалостей и ненужностей монархической mise en scène[150]150
постановки (франц.). – Ред.
[Закрыть].
Осенью 1849 началось гонение выходцев, искавших убежища в Швейцарии; правительство было в слабых руках доктринеров, федеральные министры потеряли голову. Застращенная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона, высылала теперь, по приказу последнего, людей, искавших убежища, и делала ту же любезность для Австрии и Пруссии. Конечно, федеральное правительство имело дело не с старым, толстым королем, не любившим крайних мер, а с людьми, у которых на руках еще не обсохла кровь и которые были в самом разгаре дикого преследования Но чего же боялось федеральное собрание? Если б оно умело смотреть дальше своих гор, тогда оно поняло бы, какую долю внутреннего страха покрывали нахальствами и угрозами соседние правительства. Ни одно из них в 1849 году не имело достаточной оседлости и нравственного сознания своей силы, чтоб начать войну. Стоило конфедерации показать зубы – и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагородное гонение людей, которым некуда было деться.
Долго некоторые кантоны, и в том числе Женевский, противодействовали федеральному собранию, но наконец и Фази был увлечен, volens-nolens[151]151
волей-неволей (лат.). – Ред.
[Закрыть], в преследование выходцев.
Положение его было очень неприятно. Переход человека из заговорщиков в правительство, как бы он естествен ни был, имеет свои комические и досадные стороны. В сущности; надобно сказать, что не Фази перешел в правительство, а правительство перешло к Фази, тем не менее прежний конспиратор не всегда ладил с президентом кантона. Ему приходилось бить по своим или иногда явно не слушаться федеральных приказов, принимать такие меры, против которых он лет десять кряду ораторствовал. Он делал то и другое по капризу и этим возбуждал против себя обе стороны.
Фази – человек большой энергии и больших государственных талантов, но слишком француз, чтобы не любить крутые меры, централизацию, власть. Он всю жизнь провел в политической борьбе. Молодым человеком мы его встречаем на парижских баррикадах 1830 года, а потом в Отель-де-Виль, в числе той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирам, требовала провозглашения республики. Перье и Лаффит нашли, что «лучшая республика» – герцог Орлеанский; он сделался, королем, а Фази бросился в крайнюю республиканскую оппозицию. Тут он действует с Годфруа Каваньяком и Маррастом, обществом des droits de l'homme[152]152
прав человека (франц.). – Ред.
[Закрыть] и с карбонарами, замешивается в савойскую экспедицию Маццини, издает журнал, который на французский манер задавили пенями… Убедившись наконец, что во Франции нечего делать, он вспоминает свою родину и переносит всю свою энергию, всю приобретенную ловкость политического деятеля, публициста и конспиратора на развитие своих идей в Женевском кантоне.
Он задумал радикальный переворот в нем и исполнил его. Женева восстала на свое старое правительство; прения, нападки и отпоры перешли из камер и журналов на площадь, и Фази явился главою возмутившейся части города. Пока он распоряжался и устанавливал своих вооруженных друзей, седой старик смотрел из окна и, военный по профессии, не мог вытерпеть, чтоб не дать совета, как следует поставить пушку или отряд. Фази послушался. Совет был дельный, – но кто же этот доенный? Граф Остерман-Толстой, главнокомандующий союзными армиями под Кульмом, уехавший из России при воцарении Николая и живший потом почти всегда в Женеве.
Во время этого переворота Фази показал, что он вполне обладает не только тактом и верностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сен-Жюст считал необходимой для революционера. Разбивши почти без кровопролития консерваторов, он явился в Большой совет и объявил ему, что он распущен. Члены хотели арестовать его и с негодованием спрашивали: «Во имя кого он осмеливается так говорить?»
– Во имя женевского народа, которому надоело дурное управление ваше и который со мной, – при этом Фази отдернул сукно в дверях Совета. Толпа вооруженных людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрелить. Старые «патриции» и мирные кальвинисты смутились.
– Ступайте вон, пока есть время, – заметил Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сел за стол и написал декрет или плебисцит, объявлявший, что народ женевский, уничтожив прежнее правительство, собирается для новых выборов и для принятия нового демократического уложения, в ожидании чего народ вверяет исполнительную власть Джемсу Фази. Это 18 брюмера – в пользу демократии и народа. Хотя он и выбрал сам себя диктатором, но выбор бесспорно был очень удачен.
С тех пор, т. е. с 1846 года, он управляет Женевой. Так как по конституции президент избирается на два года и не может быть избран два раза кряду, то через два года женевцы назначают кого-нибудь из бледных поклонников Фази, и таким обозом de facto[153]153
фактически (лат.). – Ред.
[Закрыть] он остается президентом, к великой горести консерваторов и пиетистов, постоянно остающихся в меньшинстве.
Фази показал новые способности во время своего диктаторства. Администрация, финансы – все двинулось быстро вперед; твердое проведение радикальных начал привязало к нему народ: Фази явился таким же энергическим организатором, каким был разрушителем. Женева расцвела при нем. Это мне говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонние, между прочими и знаменитый победитель под Кульмом Остерман-Толстой.
Крутой и раздражительный, быстрый и без терпимости в характере, Фази всегда имел в себе деспотически-республиканские замашки; привыкнув к власти – деспотическое pli стало иной раз брать верх; к тому же события и идеи после 1848 застали Фази врасплох, он был смущен с одной стороны, обойден – с другой. Ну, вот она, эта республика, о которой он мечтал с Годфруа Каваньяком и Арман Каррелем… а что-то неладно. Бывший его товарищ Марраст, президент Национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме «за завтраком, в присутствии секретаря», и говорит, что религию надобно беречь, чтобы не рассердить попов; когда экс-редактор «Насионаля» в президентском доме проходил из комнаты в комнату, двое часовых отдавали ему честь. Другой приятель и протеже Фази пошел еще дальше: сделался сам президентом республики, но он уже не хочет знаться с старым товарищем и идет в Наполеоны. «Республика в опасности!» – а работники и передовые люди не занимаются ею, они всё толкуют о социализме. Так вот виноватый – и Фази с упрямством и озлоблением опрокинулся на социализм. Это значило, что он достиг своего предела, своего Kulminationspuukt'a[154]154
кульминационного пункта (нем.). – Ред.
[Закрыть], как говорят немцы, и пошел вниз. Он и Маццини, бывши социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить из общих стремлений в новую революционную силу. Много поломал я копий с обоими и с удивлением увидел, как мало можно взять логикой, когда человек не хочет убедиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости то зачем же было горячиться, зачем так хорошо играть свою роль, даже в частной беседе? Нет, тут был какой-то зуб на новое учение, сложившееся вне их круга; тут была даже злоба к имени. Я раз предлагал Фази называть социализм в наших разговорах «Клеопатрой», чтоб это слово не сердило его и не мешало своим звуком пониманию. Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий, – но об этом не здесь.
Раз пришедши домой, я нашел записку Струве, – он меня извещал, что Фази изгоняет его, и очень, круто. Федеральное правительство давным-давно предписало выслать Струве и Гейнцена; Фази ограничился тем, что сообщил им это. Что же случилось нового?
Фази не хотел, чтоб Струве издавал в Женеве свой «интернациональный» журнал; он боялся и, может, был прав, что они вдвоем с Гейнценом напечатают такой опасный вздор, что снова навлекут угрозы Франции, вопль Пруссии и скрежет зубов Австрии. Как практический человек мог думать, что этот журнал состоится, я не знаю; довольно того, что он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы. Отказаться в ту минуту, когда Струве фанатически мечтал, что он своим журналом окончательно побьет «семь бичей рода человеческого», было выше сил баденского революционера. Тогда Фази послал к нему квартального с приказом, чтоб он сейчас оставил кантон. Струве сухо принял полицейского и объявил, что он еще не готов к отъезду. Фази обиделся за квартального и велел полиции сбыть Струве с рук. Войти в дом без судебного приговора было невозможно; мера, принятая в Берне, была полицейская, а не судебная (то, что французы называют mesure de salut public[155]155
мерой по охране общественного порядка (франц.). – Ред.
[Закрыть]). Полицейский знал это, но, желая услужить Фази и, вероятно, расплатиться за дурной прием, приготовил карету и сел с товарищем где-то под липой, неподалеку от дома Струве.
Струве, втайне довольный вновь начинающейся эрой гонений и мученичества и вперед уверенный, что важного ничего с ним не сделают, разослал всем своим знакомым записки о случившемся. В ожидании их пламенного участия и горячего негодования он не вытерпел, чтоб не сходить к другу Гейнцену, который, с своей стороны, получил такую же любезную цидулку от Фази. Так как Гейнцен жил недалеко, то Струве ganz gemütlich[156]156
совершенно благодушно (нем.). – Ред.
[Закрыть] отправился к нему, одетый по-домашнему и в туфлях. Лишь только он поравнялся с липой, за которой прятался лукавый сын Кальвина, как тот перерезал ему дорогу и, показав приказ федерального совета, требовал, чтоб он следовал за ним. Убедительность его приглашения поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его к числу «семи бичей», сел в карету и покатился с полицейскими в Ваадский кантон.
Со времени диктаторства Фази еще ничего подобного не было в Женеве. Во всем этом было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался я домой часу в двенадцатом вечера; у Pont des Bergues я встретил Фази, он весело шел с несколькими итальянскими выходцами.
– А, здравствуйте, что нового? – сказал он, увидав меня.
– Много, – отвечал я с изысканной сухостью.
– Что же такое?
– Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят, il n'y a plus de sécurité dans les rues[157]157
стало небезопасно ходить по улицам (франц.). – Ред.
[Закрыть], – я боюсь ходить…
– A, это вы говорите насчет Струве… – отвечал Фази, успевший рассердиться до того, что голос его стал перерываться. – Что же прикажете делать с этими взбалмошными людьми? Я наконец, устал, я покажу этим господам, что значит пренебрегать законами, явно не слушаться распоряжений федерального совета…
– Право, – сказал я, улыбаясь, – которое вы предоставляете одному себе.
– Что же мне из-за всякого вырвавшегося из Бедлама подвергать опасности кантон, самого себя, и это при теперешних обстоятельствах? Да мало еще, вместо спасибо они грубят. Представьте себе, господа, я посылаю к нему комиссара полиции, а он только что не вытолкал его – это из рук вон! Не понимают, что чиновник (magistrat), приходящий во имя закона, должен быть уважаем. Не правда ли?
Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.
– Я не согласен, – сказал я ему, – и совсем не вижу причины уважать человека за то, что он полицейский, и за то, что он пришел объявлять какой-нибудь вздор, написанный Фурером или Друэ в Берне. Можно быть не грубым, но для чего расточаться в учтивостях перед человеком, который является ко мне как враг, да еще как враг, поддерживаемый силой?
– Я отроду не слыхивал таких вещей, – заметил Фази, подымая плечи и бросая на меня молнии своих взоров.
– Вам это ново, потому что вы никогда не думали об этом. Представлять себе чиновников какими-то священнодействующими лицами – вещь совершенно монархическая…
– Вы оттого не хотите понять разницы между уважением к закону и раболепием, что у вас царь и закон – одно и то же, c'est parfaitement russe![158]158
это совершенно по-русски (франц.). – Ред.
[Закрыть]
– Да где же это понять, когда у вас уважение к закону значит уважение к квартальному или к городовому сержанту?
– А знаете ли вы, милостивый государь, что комиссар полиции, которого я посылал, не только честнейший человек, но и один из преданнейших патриотов? Я его видел на деле…
– И прекрасный отец семейства, – продолжал я, – Да только ни мне, ни Струве дела нет до этого; мы с ним не знакомы, и явился он к Струве вовсе не как образцовый гражданин, а как исполнитель притеснительной власти…
– Да помилуйте, – заметил все больше и больше сердившийся Фази, – что вам дался этот Струве? Да не вчера ли вы сами над ним хохотали…
– Не смеяться же мне сегодня, если вы будете его вешать.
– Знаете, что я думаю? – он приостановился. – Я полагаю, что он просто русский агент.
– Господи, какой вздор! – сказал я, расхохотавшись.
– Как вздор? – закричал Фази еще громче. – Я вам говорю это серьезно!
Зная необузданно вспыльчивый нрав моего женевского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, он, в сущности, был во сто раз лучше своих слов и человек не злой, я может, пропустил бы ему это поднятие голоса; но тут были свидетели, к тому же он был президент кантона, а я такой же беспаспортный бродяга, как и Струве, и потому я стенторовским голосом отвечал ему:
– Вы воображаете, что вы президент, так вам и достаточно что-нибудь сказать, чтоб все поверили?
Крик мой подействовал, Фази сбавил голос, но зато, беспощадно разбивая свой кулак о перилы моста, он заметил:
– Да его дядя, Густав Струве, – русский поверенный в делах в Гамбурге.
– Это уж из «Волка и овцы». Я лучше пойду домой. Прощайте!
– В самом деле, лучше идти спать, чем спорить, а то еще мы поссоримся, – заметил Фази, принужденно улыбаясь.
Я пошел в hôtel des Bergues, Фази с итальянцами – через мост. Мы так усердно кричали, что несколько окон в отеле растворились и публика, состоявшая из гарсонов и туристов, слушала наше прение.
Между тем квартальный и честнейший гражданин, который повез Струве, возвратился, и не один, а с тем же Струве. В первом городке Ваадского кантона, близ Коппета, где жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префект полиции, горячий республиканец, услышав, как Струве был схвачен, объявил, что женевская полиция поступила беззаконно, и не только отказался послать его далее, но воротил назад.
Можно себе представить бешенство Фази, когда он, на закуску нашего разговора, узнал о благополучном возвращении Струве. Побранившись с «тираном» письменно и словесно, Струве уехал с Гейнценом в Англию; там-то Гейнцен потребовал два миллиона голов и мирно уплыл с своим Пиладом в Америку сначала с целью завести училище для молодых девиц, потом чтоб издавать в С.-Луисе «Пионера», журнал, который и пожилым мужчинам не всегда можно читать.
Дней пять после разговора у моста я встретился с Фази в café de la Poste.
– Что это вас не видать давно? – спросил он. – Неужели все сердитесь? Ну, уже эти мне дела о выходцах, признаюсь, такая обуза, что с ума можно сойти! Федеральный совет бомбардирует одной нотой за другой, а тут проклятый жекский супрефект нарочно живет, чтоб смотреть, интернированы ли французы. Я стараюсь все уладить, и за все за это свои же сердятся. Вот теперь новое дело, и прескверное; я уже знаю, что меня будут бранить, а что мне делать?
Он сел за мой столик и, понижая голос, продолжал:
– Это уже не фразы, не социализм, а просто воровство.
Он подал мне письмо. Какой-то немецкий владетельный герцог жаловался, что во время занятия фрейшерлерами его городишка были ими похищены драгоценные вещи и между прочим редкой работы старинный потир, что он находится у бывшего начальника легиона Бленкера, а так как до сведения его светлости дошло, что Бленкер живет в Женеве, то он и просит содействия Фази в отыскании вещей.
– Что скажете? – спросил торжествующим голосом Фази.
– Ничего. Мало ли что бывает в военное время.
– Что же, по-вашему, делать?
– Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе не сыщик его в Женеве. Что вам за дело до его посуды? Он должен радоваться, что Бленкер не повесил его, а тут он еще ищет пожитки.