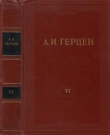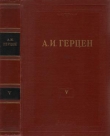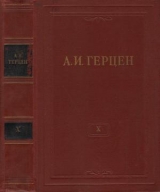
Текст книги "Том 10. Былое и думы. Часть 5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд современного пролетария, – труд, от которого по крайней мере была свободна аристократическая семья древнего Рима, основанная на рабстве; нет больше ни поэзии церкви, ни бреда веры, ни упованья рая, даже и стихов к тем порам «не будут больше писать», по уверению Прудона, зато работа будет «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность действия, за независимость можно пожертвовать религиозным убаюкиванием, но пожертвовать всем для воплощения идеи справедливости – что это за вздор! Человек осужден на работу, он должен работать до тех пор, пока опустится рука; сын вынет из холодных пальцев отца струг или молот и будет продолжать вечную работу. Ну, а как в ряду сыновей найдется один поумнее, который положит долото и спросит:
– Да из чего же мы это выбиваемся из сил?
– Для торжества справедливости, – скажет ему Прудон.
А новый Каин ответит ему:
– Да кто же мне поручил торжество справедливости?
– Как кто? Разве все призвание твое, вся твоя жизнь не есть воплощение справедливости?
– Кто же поставил эту цель? – скажет на это Каин. – Это слишком старо, бога нет, а заповеди остались. Справедливость не есть мое призвание, работать – не долг, а необходимость, для меня семья совсем не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развития. Вы хотите держать меня в рабстве, а я бунтую против вас, против вашего безмена, так, как вы всю вашу жизнь бунтовали против капитала, штыков, церкви, так, как все французские революционеры бунтовали против феодальной и католической традиции. Или вы думаете, что после взятия Бастилии, после террора, после войны и голода, после короля-мещанина и мещанской республики, я поверю вам, что Ромео не имел прав любить Джульетту за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вековую ссору, и что я ни в тридцать, ни в сорок лет не могу выбрать себе подруги без позволения отца, что изменившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете с вашей юстицией?
А мы, с своей диалектической стороны, на подмогу Каину прибавили бы, что все понятие о цели у Прудона совершенно последовательно. Телеология – это тоже теология, это Февральская республика, т. е. та же Июльская монархия, но без Людовика-Филиппа. Какая же разница между предопределенной целесообразностию и промыслом?[260]260
Сам Прудон сказал: «Rien ne ressemble plus à la préméditation, que la logique des faits». <«Ничто такие похоже на преднамеренность, как логика фактов» (франц.)>.
[Закрыть]
Прудон, через край освободивши личность, испугался, взглянув на своих современников, и, чтоб эти каторжные ticket of leave[261]261
Здесь: досрочно освобожденные (англ.). – Ред.
[Закрыть], не наделали бед, он ловит их в капкан римской семьи.
В растворенные двери реставрированного атриума, без лар и пенат, видится уже не анархия, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за наказание; все старые римские грехи выглядывают с ними из щелей своими мертвыми глазами статуи.
Античная семья ведет естественно за собой античное отечество с своим ревнивым патриотизмом, этой свирепой добродетелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чем все пороки вместе.
Человек, прикрепленный к семье, делается снова крепок земле. Его движения очерчены, он пустил корни в свое поле, он только на нем то, что он есть; «француз, живущий в России, – говорит Прудон, – русский, а не француз». Нет больше ни колоний, ни заграничных факторий, живи каждый у себя…
«Голландия не погибнет, – сказал Вильгельм Оранский в страшную годину, – она сядет на корабли и уедет куда-нибудь в Азию, а здесь мы спустим плотины». Вот какие народы бывают свободны.
Так и англичане: как только их начинают теснить, они плывут за океан и там заводят юную и более свободную Англию. А уже, конечно, нельзя сказать об англичанах, чтоб они или не любили своего отечества, или чтоб они были не национальны. Расплывающаяся во все стороны Англия заселила полмира, в то время как скудная соками Франция одни колонии потеряла, а с другими не знает, что делать. Они ей и не нужны: Франция довольна собой и лепится все больше и больше к своему средоточию, а средоточие – к своему господину. Какая же независимость может быть в такой стране?
А с другой стороны, как же бросить Францию, la belle France?[262]262
прекрасную Францию (франц.). – Ред.
[Закрыть] «Разве она и теперь не самая свободная страна в мире, разве ее язык – не лучший язык, ее литература – не лучшая литература, разве ее силлабический стих не звучнее греческого гексаметра?» К тому же ее всемирный гений усвоивает себе и мысль и творение всех времен и стран: «Шекспир и Кант, Гёте и Гегель разве не сделались своими во Франции?» И еще больше: Прудон забыл, что она их исправила и одела, как помещики одевают мужиков, когда их берут во двор.
Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм; ему стоило только расстричь несколько церковных фраз и прикрыть их, вместо клобука, фригийской шапкой, чтоб молитва «бизантинских»[263]263
византийских (франц. byzantin). – Ред.
[Закрыть] архиереев как раз пришлась архиерею социализма!
Что за хаос! Прудон, освобождаясь от всего, кроме разума, хотел остаться не только мужем вроде Синей Бороды, но и французским националистом с литературным шовинизмом и безграничной родительской властью, а потому вслед за крепкой, полной сил мыслию свободного человека слышится голос свирепого старика, диктующего свое завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь.
Не любит романский мир свободы, он любит только домогаться ее; силы на освобождение он иногда находит, на свободу – никогда. Не печально ли видеть таких людей, как Огюст Конт, как Прудон, которые последним словом ставят: один – какую-то мандаринскую иерархию, другой – свою каторжную семью и апотеозу бесчеловечного «Pereat mundus – fiat justitia!»[264]264
«Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие!» (лат.). – Ред.
[Закрыть]
I
…С одной стороны, безответно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный брак, нераздельность отцовской власти, – семья, в которой для общественной цели лица гибнут, кроме одного, свирепый брак, в котором признана неизменяемость чувств, кабала обету, с другой – возникающие ученья, в которых брак и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былого и независимость лиц.
С одной стороны, женщина, чуть не побиваемая каменьями за измену, с другой – самая ревность, поставленная hors la loi[265]265
вне закона (франц.). – Ред.
[Закрыть], как болезненное, искаженное чувство эгоизма, проприетаризма и романтического ниспровержения здоровых и естественных понятий.
Где истина… где диагональ? Двадцать три года тому назад я уже искал выхода из этого леса противоречий[266]266
«Былое и думы», т. III. «По поводу одной драмы».
[Закрыть].
Мы смелы в отрицании и всегда готовы толкнуть всякого перуна в воду, но перуны домашней и семейной жизни как-то water-proof[267]267
непромокаемы (англ.). – Ред.
[Закрыть], они все «выдыбаются». Может, в них и не осталось смысла – но жизнь осталась; видно, орудия, употребляемые против них, только скользнули по их змеиной чешуе, уронили их, оглушили… по не убили. Ревность… Верность… Измена… Чистота… Темные силы, грозные слова, по милости которых текли реки слез, реки крови, – слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме… и притом слова, под которыми, как под Дамокловым мечом, жила и живет семья.
Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются за углом и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальное, губить нас самих…
Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти – факты, а не догматы.
Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама но себе сильная и совершенно естественная страсть, она до сих пор, вместо обуздания, укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность получила jus gladii[268]268
право меча (лат.). – Ред.
[Закрыть], право суда и мести. Она сделалась долгом чести, чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики, по затем все же на дне души остается очень реальное и несокрушимое чувство боли, несчастия, называемое ревностью, – чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию, – чувство «ирредуктибельное»[269]269
«несократимое» (франц. irréductible). – Ред.
[Закрыть].
…Тут опять те вечные грани, те кавдинские фуркулы, под которые нас гонит история. С обеих сторон правда, с обеих – ложь. Бойким entweder – oder[270]270
или – или (нем.). – Peд.
[Закрыть] и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания одного из терминов он возвращается, так, как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая. Гегель снимал эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в безусловный дух; в нем они не исчезали, а преображались, исполнялись, как выражалась немецкая теологическая наука, – это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются искуплениями, т. е священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположнее личной воли и необходимости, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.
Сам Прудон поступил, в другом порядке вопросов, гораздо человечественнее немецкой науки. Он выходит из экономических противоречий тем, что признает обе стороны под обузданием высшего начала. Собственность-право и собственность-кража становятся рядом, в вечном колебании, в вечном восполнении, под постоянно растущим миродержавием справедливости. Ясно, что противоречия и спор переносятся в другую сферу и что к отчету требовать приходится понятие справедливости больше, чем право собственности.
Чем высшее начало проще, менее мистично и менее одно-сторонно, чем оно реальнее и прилагаемее, тем полнее оно сводит термины противоречащие на их наименьшее выражение.
Безусловный, «перехватывающий» дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.
Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична – страсть только индивидуальна.
Тут выход не в суде, а в человеческом развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, в развитии общих интересов.
Радикально уничтожить ревность значит уничтожить любовь к лицу, заменяя ее любовью к женщине или к мужчине, вообще – любовью к полу. Но именно только личное, индивидуальное и нравится, оно-то и дает колорит, tonus, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм – личный, наше счастье и несчастье – личное счастье и несчастье. Доктринаризм со всей своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции[271]271
утешительные речи (лат. consolatio). – Ред.
[Закрыть] с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб они лились человечески…и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника[272]272
Читая корректурный лист, мне попалась французская газета, в которой рассказан чрезвычайно характеристический случай. Возле Парижа какой-то студент завел связь с девушкой, связь эта открылась. Отец ее отправился к студенту и умолял его со слезами, на коленях, восстановить честь дочери и жениться на ней; студент с дерзостью отказался. Коленопреклоненный отец дал ему пощечину, студент его вызвал, они стрелялись; во время дуэли старика хватил паралич, изуродовавший его. Студент сконфузился и «решился жениться», а невеста огорчилась и решилась выйти замуж. Газета прибавляет, что такая счастливая развязка, верно, будет много способствовать к выздоровлению старика. Неужели все это не сумасшедший дом? Неужели Китай, Индия, над юродствами и уродствами которых мы столько издеваемся, представляют что-нибудь безобразнее, глупее этой истории? Я уже не говорю – безнравственнее. Парижский роман в сто раз преступнее всех поджариваемых вдов и зарываемых весталок. Там вера, снимающая всякую ответственность, а здесь одни условные, призрачные понятия о внешней чести, о внешней репутации… Не явно ли из дела, что за человек студент? За что же судьбу девушки сковали с ним à perpétuité <навеки (франц.)>? 3а что же ее сгубили для спасения имени? О, Бедлам! (1866).
[Закрыть].
II
Свести отношения мужчины и женщины на случайную половую встречу так же невозможно, как поднять и свинтить их до гробовой доски в неразрывном браке. И то и другое может встретиться на закраинах половых и брачных отношений как частный случай, как исключение, но не как общее правило. Половое отношение перервется или будет постоянно стремиться к более тесному и прочному соединению, так, как нерасторгаемый брак – к освобождению от внешней цепи.
Люди постоянно протестовали против обеих крайностей. Нерасторгаемый брак был принимаем ими лицемерно или сгоряча. Случайная близость никогда не имела полной инвеституры, ее всегда скрывали, так, как хвастались браком. Все попытки официальной регламентации публичных домов несмотря на то, что они имеют в виду их стеснение, оскорбляют общественный, нравственный смысл. Он в устройстве видит признание. Проект, сделанный одним господином в Париже, во время Директории, о заведении привилегированных публичных домов с своей иерархией и пр., был даже в те времена принят свистом и пал под громом смеха и пренебрежения.
Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от бесполья инока, поставленного церковью выше брака, и от бездетного удовлетворения страстей…
Брак для христианства – уступка, непоследовательность, слабость. Христианство смотрит на брак так, как общество на конкубинат.
Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачью в награду за глупую победу свою над человеческой природой.
Вообще, христианский брак мрачен и несправедлив, он восстановляет неравенство, против которого проповедует евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована; выходя из церкви, она становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого, радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь протестовала.
Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением совести, а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар католичества и рыцарства.
Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики… и где-нибудь в башне или подвале рыдающая женщина, юноша паж в цепях, за которых никто не вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская молитва в нос. Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика… стоящих на страже брака с грозным мужем, отцом, братом, слагается в тиши народная легенда, раздается песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером, – она поет за несчастную женщину. Суд разит – песня отпускает. Церковь предает анафеме любовь вне брака – песня проклинает брак без любви. Она защищает влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием, жалостью, плачем. Песня для народа – его светская молитва, его другой выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.
В праздничные дни литании богородице сменялись печальными звуками des complaintes[273]273
жалобных песен (франц.). – Ред.
[Закрыть], которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и ставили перед всех скорбящей девой, прося ее заступы и прощенья.
Из песен и легенд протест растет в роман и драму. В драме он становится силой. Обиженная любовь, мрачные тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный суд. Процесс их потрясал тысячи сердец, вырывая слезы и крики негодования против кабального брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и лож произносили постоянно свое оправдание лицам и осуждение институтам.
Между тем в эпоху политических перестроек и светского направления умов одна из двух крепких ножек брака стала подламываться. Переставая все более и более быть таинством, т. е. теряя последнюю основу свою, он тем больше опирался на полицию. Только мистическим вмешательством высшей силы и может быть оправдан христианский брак. Тут есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный, надевающий на себя трехцветный шарф и венчающий с гражданским кодексом в руке, гораздо нелепее священника в ризе, окруженного дымом ладана, образами, чудесами. Сам первый консул Наполеон, самый буржуазно-прозаический человек в деле любви и семьи, догадался, что брак на съезжей больно плох, и уговаривал Камбасереса прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что она обязана быть верной мужу (о нем ни слова) и слушаться его.
Как скоро брак выходит из сфер мистицизма, он делается expédient[274]274
средством для достижения определенной цели (франц.). – Ред.
[Закрыть], внешней мерой. Ее ввели испуганные «Синие Бороды», обрившиеся и сделавшиеся «синими подбородками» Раули в судейских париках, академических фраках, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданский брак – мера государственного хозяйства, освобождение государства от воспитания детей и вящее прикрепление людей к собственности. Брак без вмешательства церкви сделался кабальным контрактом на пожизненное отдание своего тела друг другу. До веры, до мистических бредней законодателю дела нет, лишь бы контракт был исполнен; а не будет исполнен, он найдет средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? В Англии, в классической стране юридического развития, подвергают же страшнейшим истязаниям шестнадцатилетнего мальчика, которого старый казарменный сводник, с лентами на шляпе, напоит элем и джином и завербует в полк. Отчего же не наказывать позором, разорением, выдачей головой девочку, которая, не давая себе отчета в том, что делает, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra[275]275
Здесь: лишнее (лат.). – Ред.
[Закрыть], забывая, что season ticket[276]276
сезонный билет (англ.). – Ред.
[Закрыть] не передается.
Но и на «синий подбородок» нашлись свои труверы и романисты. Против контрактового брака водрузился догмат психиатрический, физиологический, догмат абсолютной непреложности страстей и человеческой несостоятельности бороться с ними.
Вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против нее сил нет.
Затем стирается всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание. Покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам – дело совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения. Мнимые силы, если люди их принимают за действительные, точно так же мощны, как и действительные, и это потому, что материал, даваемый человеком, тот же – какая бы сила ни была. Человек, который боится духов, и человек, который боится бешеных собак, боится одинаким образом и может умереть от страха. Разница в том, что в одном случае человеку можно доказать, что он боится вздора, а в другом нельзя.
Я отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением.
Неужели мы освободились от всего на свете: от бога и диавола, от римского и уголовного права – и провозгласили разум единственным путеводителем и регулятором для того, чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы или уснуть на коленах Далилы? Неужели женщина искала своего освобождения от ига семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон-Леони вместо одного?
Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратнее точит и губит всепожирающий Молох любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше загнана в любовь…Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.
Мне ее жаль.
III
Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предрассудки в женском воспитании? Их разбивает опыт, и оттого-то ломится не предрассудок, а жизнь.
Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбище или места, на которых совершилось злодейство. Одни боятся нечистых духов, другие чистой правды и остаются при фантастическом неустройстве и неисследованной тьме. Серьезного единства во взгляде на половые отношения так же мало, как во всех практических сферах. Все еще мерещится возможность соединить христианскую нравственность, идущую от попрания плоти на тот свет, с земной, реальной нравственностью этого света. С досады, что не ладится, и чтоб не долго мучить себя над разрешением вопросов, люди оставляют по выбору и по вкусу то, что им нравится из церковного учения, и бросают то, что не нравится, на том самом основании, на котором, не соблюдая постов, усердно едят блины, и, не оставляя веселых религиозных обычаев, устраняются от скучных. А кажется, давно пора внести больше спетости и мужества в поведение. Пусть уважающий закон остается подзаконным и не нарушает его, а не принимающий – свободным от него открыто и сознательно.
Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще оступаются и ломают голову и сердце, чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее.
С детских лет девушка испугана половым отношением, какой-то страшной, нечистой тайной, от которой ее предостерегают, отстращивают, как будто этот грех имеет какую-то чарующую силу. И потом то же чудовище, то же magnum ignotum[277]277
великое неизвестное (лат.). – Ред.
[Закрыть], пятнающее неизгладимым пятном, дальнейший намек на которое заставляет краснеть и позорит, ставится целью ее жизни. Мальчику, едва умеющему ходить, дают жестяную саблю, приучая его к убийству, ему пророчат гусарский мундир и эполеты; девочку убаюкивают надеждой богатого, красивого жениха, и она мечтает об эполетах, но не на своих плечах, а на плечах суженого.
Надобно дивиться хорошей человеческой натуре, не поддающейся такому воспитанию; следовало бы ожидать, что все девочки, так убаюканные, с пятнадцати лет пустятся на ускоренную замену убитых мальчиками, приученными с детства к смертоносным оружиям.
Христианское учение вселяет ужас перед «плотью», прежде чем организм сознает свой пол; оно будит в ребенке опасный вопрос, бросает тревогу в отроческую душу, и, когда приходит время ответа, другое учение возводит, как мы сказали, для девушки половое назначение в искомый идеал; ученица становится невестой, и та же тайна, тот же грех, но очищенный, является венцом воспитанья, желанием всех родных, стремлением всех усилий, чуть не общественным долгом. Искусства и науки, образование, ум, красота, богатство, грация – все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь к официальному падению… к тому же греху, мысль о котором считалась преступлением, но которое изменило свою сущность тем чудом, которым папа, взалкавши на дороге, благословил скоромное блюдо в постное.
Словом, отрицательно и положительно все воспитание женщины остается воспитанием половых отношений, около них вертится вся ее последующая жизнь… от них она бежит, к ним она бежит, ими опозорена, ими гордится… Сегодня хранит отрицательную святость непорочности, сегодня, ближайшей подруге, краснея, шепотом говорит о любви; завтра, при блеске и шуме, при толпе, зажженных люстрах и громе музыки, бросается в объятия мужчины.
Невеста, жена, мать, женщина едва под старость, бабушкой, освобождается от половой жизни и становится самобытным существом, особенно если дедушка умер. Женщина, помеченная любовью, не скоро ускользает от нее… беременность, кормление, воспитание, развитие той же тайны, того же акта любви; в женщине он продолжается не в одной памяти, а в крови и в теле, в ней он бродит и зреет и, разрываясь, не разрывается.
На это физиологически крепкое и глубокое отношение христианство дунуло своим лихорадочным, монашеским аскетизмом, своими романтическими бреднями и раздуло его в безумное и разрушительное пламя – ревности, мести, кары, обиды.
Выпутаться женщине из этого хаоса – геройский подвиг, его совершают одни редкие, исключительные натуры; остальные женщины мучатся и если не сходят с ума, то только благодаря легкомыслию, с которым мы все живем до грозных столкновений и ударов, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя с дня на день от случайности к случайности и от противоречия к противоречию.
Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобно иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана!
Я видел одну борьбу и одну победу…