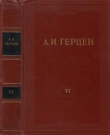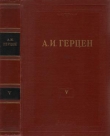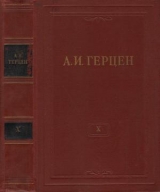
Текст книги "Том 10. Былое и думы. Часть 5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Зная его характер, я сделал первый шаг и пошел к нему. Он был рад, тронут, и при всем эта встреча была печальнее всех разлук.
Сначала мы говорили о лицах, событиях, вспоминали подробности – потом сделалась пауза. Нам очевидно нечего было сказать друг другу, мы стали совершенно чужие. Я делал усилия поддержать разговор, Гауг выбивался из сил; разные инциденты его поездки в Малую Азию выручили. Кончились и они, – опять стало тяжело.
– Ах, боже мой! – сказал я вдруг, вынимая часы, – пять часов, а у меня назначен rendez-vous[358]358
свидание (франц.). – Ред.
[Закрыть] – я должен оставить вас.
Я солгал – никакого rendez-vous у меня не было. С Гауга тоже точно камень с плеч свалился.
– Неужели пять часов? – Я сам еду обедать сегодня в Clapham.
– Туда час езды, не стану вас задерживать. Прощайте.
И, выйдя на улицу, я был готов… «захохотать»? – нет, заплакать.
Через два дня он приехал завтракать ко мне. То же самое. На другой день хотел он ехать, как говорил, остался дольше, но нам было довольно, и мы не старались увидеться, еще раз.
Теддингтон. Перед отъездом
Август 1863.
Бывало, О<гарев>, в новогородские времена, певал: «Cari luoghi, io vi ritrovai»[359]359
Дорогие места, я опять вас увидел (итал.). – Ред.
[Закрыть]; найду и я их снова, и мне страшно, что я их увижу.
Поеду той же дорогой через Эстрель на Ниццу. Там ехали мы в 1847, спускаясь оттуда в первый раз в Италию. Там ехал в 1851 в Иер отыскивать следы моей матери, сына – и ничего не нашел.
Туго стареющая природа осталась та же, а человек изменился, и было от чего. Жизни, наслажденья искал я, переезжая в первый раз Приморские Альпы… Были сзади небольшие тучки, печальная синева носилась над родным краем… и ни одного облака впереди. Тридцати пяти лет я был молод и жил в каком-то беззаботном сознании силы.
Во второй раз я ехал тут в каком-то тумане, ошеломленный я искал тела, потонувший корабль – и не только сзади гнались страшные тени, но и впереди все было мрачно.
В третий раз… еду к детям, еду к могиле, – желанья стали скромны: ищу немного досуга мысли, немного гармонии вокруг, ищу покоя, этого noli me längere[360]360
Здесь: оставь меня в покое (лат.). – Ред.
[Закрыть] устали и старости.
После приезда
21 сентября был я на могиле. Все тихо: то же море, только ветер подымал столб пыли по всей дороге. Каменное молчание и легкий шелест кипарисов мне были страшны, чужды. Она не тут; здесь ее нет – она жива во мне.
Я пошел с кладбища в оба дома, – дом Сю и дом Дуйса. Оба стояли пустыми. Зачем я вызвал опять этих немых свидетелей charge?[361]361
обвинения (франц.). – Ред.
[Закрыть] Вот терраса, по которой я между роз и виноградников ходил задавленный болью и глядел в пустую даль с каким-то безумным и слабодушным желаньем облегченья, помощи и, не находя их в людях, искал в вине.
Диван, покрытый теперь пылью и какими-то рамками, – диван, на котором она изнемогла и лишилась чувств в страшную ночь объяснений.
Я отворил ставень в спальной дома Дуйса – вот он, старознакомый вид… я обернулся – кровать, тюфяки сняты и лежат на полу, словно на днях был вынос… Сколько потухло, исчезло в этой комнате!.. Бедная страдалица – и сколько я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве!
Русские тени*Н. И. Сазонов
Сазонов, Бакунин, Париж. – Имена эти, люди эти, город этот так и тянут назад… назад – в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспирации, во времена философского культа и революционного идолопоклонства[362]362
Этот очерк принадлежит к XXXIV главе, стр. 12.
[Закрыть].
Мне слишком дороги наши две юности, чтоб опять не приостановиться на них… С Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Риензи; с Бакуниным, десять лет спустя, в поте мозга завоевывал Гегеля.
О Бакунине я говорил, и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление, везде – в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он исчез за страшными стенами Алексеевского равелина, – делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история.
В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность делаться агитатором, трибуном, проповедником, главой парии, секты, иересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только в крайний край, – анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахарсиса Клона, другом Гракха Бабёфа, – и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов, –
Но здесь, под гнетом власти царской,
Колумб без Америки и корабля, он, послужив против воли года два в артиллерии да года два в московском гегелизме, торопился оставить край, в котором мысль преследовалась, как дурное намерение, и независимое слово – как оскорбление общественной нравственности.
Вырвавшись в 1840 году из России, он в нее не возвращался до тех пор, пока пикет австрийских драгунов не сдал его русскому жандармскому офицеру в 1849 году.
Поклонники целесообразности, милые фаталисты рационализма все еще дивятся премудрому à propos[363]363
кстати (франц.). – Ред.
[Закрыть], с которым являются таланты и деятели, как только на них есть потребность, забывая, сколько зародышей мрет, глохнет, не видавши света, сколько способностей, готовностей вянут, потому что их не нужно.
Пример Сазонова еще резче. Сазонов прошел бесследно, и смерть его так же никто не заметил, как всю его жизнь. Он умер, не исполнив ни одной надежды из тех, которые клали на него его друзья. Легко сказать, что он виноват в своей судьбе; но как оценить и взвесить долю, падающую на человека, и ту, которая падает на среду?
Николаевское время было временем нравственного душегубства, оно убивало не одними рудниками и белыми ремнями, а своей удушающей, понижающей атмосферой, своими, так сказать, отрицательными ударами.
Хоронить затянувшиеся существования того времени, выбившиеся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко врезавшуюся в песок барку нашу, – моя специальность. Я – их Домажиров, теперь всеми забытый, а некогда всем в Москве известный старик, отставной ординарец Прозоровского. Пудреный, в светлозеленом павловском мундире, являлся он на все выносы, на которых бывал архиерей, становился вперед процессии и вел ее, воображая, что делает дело.
…На второй год университетского курса, т. е. осенью 1831, мы встретили, в числе новых товарищей, в физико-математической аудитории, двоих, с которыми особенно сблизились.
Наши сближения, симпатии и антипатии шли из одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии: наука, искусство, связи, родительский дом, общественное положение. Там, где открывалась возможность обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.
Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым и тотчас подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента.
Сазонов имел резкие дарования и резкое самолюбие. Ему было лет восьмнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили. Друг его, красивый собой и нежный, как девушка, совсем напротив, искал, к кому бы приютиться; полный любви и преданности, едва вышедший из-под материнского крыла, с благородными стремлениями и полудетскими мечтами, ему хотелось теплоты, нежности, он жался к нам и отдавался весь и нам и нашей идее, – это была натура Владимира Ленского, натура Веневитинова.
День, в который мы сели рядом на одной из лавок амфитеатра и взглянули друг на друга с сознанием нашего обречения, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, наглей веры в святость дела – и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству, был великим днем в нашей жизни. Мы подали друг другу руку и à la lettre[364]364
буквально (франц.). – Ред.
[Закрыть] пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой «вселенной»[365]365
Universitas.
[Закрыть], как четыре диакона, идущие в светлый праздник с четырьмя евангелиями в руках.
Проповедовали мы везде, всегда… Что мы собственно проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовала сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу.
Общества, в сущности, никогда не составлялось; но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены.
С тех пор наша пропаганда не перемежалась через всю-жизнь нашу, от университетской аудитории до лондонской типографии. Вся наша жизнь была посильным исполнением отроческой программы. Проследить нитку не трудно по затронутым вопросам, по возбужденным интересам, в журналах, на лекциях, в литературных кругах… Видоизменяясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась верной себе и вносила свой индивидуальный характер во все окружающее. Казна подняла нас и сделала нам на свой счет пьедестал тюрьмой и ссылкой. Мы возвратились в Москву «авторитетами» в двадцать пять лет. К нам примкнули Белинский, Грановский и Бакунин, а статьями в «Отечественных записках» мы сами примкнули к петербургскому движению лицеистов и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, как декабристы – старшими.
Умалчивать о значении нашего круга оттого, что я принадлежал к нему, было бы лицемерно или глупо. Совсем напротив, встречаясь в моих рассказах с теми временами, с старыми друзьями тридцатых и сороковых годов, я нарочно останавливаюсь и говорю, не боясь повторений, лишь бы ближе познакомить с ними молодое поколение. Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их как отсталых, как лишних и праздных людей, фантастов и мечтателей, забывая, что оценка прошлых лиц, значение и «проба» меньше зависят от сравнения суммы знания и образа постановления задач прежнего времени и нового, чем от энергии и силы, которую вносили они в свои решения. Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам-Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков.
Смело и с полным сознанием скажу еще раз про наше товарищество того времени, что «это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливых, чистых, развитых, умных и преданных я не встречал», а скитался довольно по белому и по красному свету. Я не только говорю о нашем, близком круге, но то же и в той же силе должен сказать о круге Станкевича и о славянофилах. Молодые люди, испуганные ужасной действительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всем, до чего добиваются другие: общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, например, к чему нудила семья, – из-за своих убеждений и остались верными им. Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть.
Их преследуют, отдают под суд, отдают под надзор, ссылают, таскают, обижают, унижают, – они остаются те же; проходит десять лет – они те же, проходит двадцать, тридцать – они те же.
Я требую признания им и справедливости. Против этого простого требования я слышал странное возражение, и притом не один раз:
– Вы, и еще больше декабристы, были дилетанты революционных идей; для вас ваше участие в деле была роскошь, поэзия; сами же вы говорите, что вы все жертвовали общественным положением, имели средства; для вас, стало быть, переворот не был вопросом куска хлеба и человеческого существования, вопросом на жизнь и смерть…
– Я полагаю, – отвечал я раз, – что для казненных да…
– По крайней мере не были роковыми, неизбежными вопросами. Вам нравилось быть революционерами, и это, разумеется, лучше, чем если б вам нравилось быть сенаторами и губернаторами; для нас же борьба с существующим порядком – не выбор, это – наше общественное положение. Между нами и вами та разница, которая между человеком, упавшим в воду и купающимся; обоим надобно плыть, но одному по необходимости, а другому из удовольствия.
Не признавать людей, потому что они делали из внутреннего влечения то, что другие будут делать из нужды, сильно сбивается на монашеский аскетизм, который высоко ценит только те обязанности, исполнение которых очень противно.
Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен.
Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, аракчеевский элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, до чура и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только с истины; не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями… это – halte[366]366
предел, граница (франц.). – Ред.
[Закрыть] меры, истины, красоты, это – вечно уравновешиваемое колебание организма.
Олигархическое притязание неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественного страдания также несправедливо, как все исключительности и монополи. Ни с евангельским милосердием, ни с демократической завистью дальше милостыни и насильственной сполиации[367]367
грабежа (франц. spoliation.). – Ред.
[Закрыть] дальше раздачи именья и общего нищенства не уйдешь. В церкви оно осталось риторической темой и сентиментальным упражнением в сострадании, в ультрадемократизме, как заметил Прудон, чувством зависти и ненависти – не переходя ни там, ни тут ни к какой построяющей мысли, ни к какой практике.
Чем же виноваты люди, понявшие боль страждущих прежде их самих и указавшие им не только ее, но и путь к выходу? Потомок Карла Великого – Сен-Симон, так же как фабрикант Роберт Оуэн, не от голодной смерти сделались апостолами социализма.
Взгляд этот не продержится, в нем недостает теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянул об нем, если б в его проскрипционные листы, вместе с нами, не вошли и те ранние сеятели всего, что взошло и всходит, – декабристы, которых мы так глубоко уважаем.
Отступление это здесь почти некстати.
Сазонов был действительно праздный человек и сгубил в себе бездну сил; затертый разными разностями на чужбине, он пропал, как солдат, взятый в плен на первом сражении и никогда не возвращавшийся домой.
Когда нас арестовали в 1834 году и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию. Участь его, разрозненная с нами, положила, может, начало последующей жизни его, – жизни какой-то блуждающей и бесследно падающей звезды.
Через год он возвратился в Москву; это был один из самых удушливых и тяжелых периодов прошлого царствования. В Москве его встретил мертвый calme plat[368]368
штиль (франц.). – Ред.
[Закрыть], нигде ни тени сочувствия, ни живого слова. Мы в резервах ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились с грубой реальностью провинциального быта.
В Москве все Сазонову напоминало наше отсутствие. Из старых друзей один Кетчер был налицо – человек, с которым Сазонов, чопорный и аристократ по манерам, всего меньше мог идти рука в руку. Кетчер, как мы говорили, был сознательный дикарь – из образованных, куперовский пионер с премедитацией[369]369
заранее обдуманным намерением (франц. préméditation). – Ред.
[Закрыть] возвращавшийся в первобытное состояние людского рода, грубый по принципу, неряха по теории, студент лет тридцати пяти в роли шиллеровского юноши.
Сазонов побился, побился в Москве, – скука одолела его, ничто не звало на труд, на деятельность. Он попробовал переехать в Петербург – еще хуже; не выдержал он à la longue и уехал в Париж без определенного плана. Это было еще то время, когда Париж и Франция имели на нас всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ее шероховатой стороны и были в восторге от всего: от либеральных речей, от песней Беранже и карикатур Филипона. Так было и с Сазоновым. Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут – чужой всем и всему. Другой длинный ряд годов бесцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренной работе, не ожидая толчка извне, он не мог, это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд – но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов; не находя такой работы, он бросился в парижский разгул.
…А горели и его глаза и наполнялись слезой при памяти о наших университетских мечтах… Внутри его глубоко уязвленного самолюбия все еще хранилась вера в близкий переворот России и в то, что он призван играть в нем большую роль. Казалось, он и кутил только покаместь, в скучном ожидании предстоящего огромного дела, и был уверен, что одним добрым вечером его вызовут из-за стола calé Anglais и повезут управлять Россией… Он пристально присматривался к тому, что делается, и с нетерпением ждал минуты, когда нужно будет принять серьезное участие и сказать последнее, завершающее слово…
…После первых шумных дней в Париже начались больше серьезные разговоры, причем сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазонов и Бакунин были недовольны (так, как впоследствии Высоцкий и члены польской Централизации), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книги журналов, они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали.
Разница наших взглядов чуть не довела нас до размолвки. Это случилось так. Накануне отъезда Белинского из Парижа мы проводили его вечером домой и пошли гулять на Елисейские Поля. Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на исстрадавшемся лице его. Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной, «злой» любви к России. Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор, раз десять являвшийся sur le tapis[370]370
предметом обсуждения (франц.). – Ред.
[Закрыть].
Жаль, – заметил Сазонов, – что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подценсурной.
– Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал, – отвечал я.
Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы… Мне было досадно и больно.
– Да скажите, пожалуйста, ну, вы, живущие без ценсуры вы, полные веры в себя, полные сил и талантов, что же вы сделали? Или что вы делаете? Неужели вы воображаете, что ходить с утра из одной части Парижа в другую, чтоб еще раз переговорить с Служальским или Хоткевичем о границах Польши и России, – дело? Или что ваши беседы в кафе и дома, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают, а другие пять ничего не понимают и говорят, – дело?
– Постой, постой, – говорил Сазонов, уже очень неравнодушно, – ты забываешь наше положение.
– Какое положение? Вы живете здесь годы, на воле, без гнетущей крайности, чего же вам еще? Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя. Полноте, господа, одна критическая статья Белинского полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и в государственных людей. Вы живете в каком-то бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане, которым сами себе отводите глаза…
Меня особенно сердили тогда две меры, которые прилагали не только Сазонов, но и вообще русские к оценке людей. Строгость, обращенная на своих, превращалась в культ и поклонение перед французскими знаменитостями. Досадно было видеть, как наши пасовали перед этими матадорами краснобайства, забрасывавшими их словами, фразами и общими местами, сказанными с vitesse accélérée[371]371
возрастающею быстротой (франц.). – Ред.
[Закрыть], И чем смиреннее держали себя русские, чем больше они краснели и старались скрывать их невежество (как делают нежные родители и самолюбивые мужья), тем больше те ломались и важничали перед гиперборейскими Анахарсисами.
Сазонов, любивший еще в России студентом окружать себя двором разных посредственностей, слушавших и слушавшихся его, был и здесь окружен всякими скудными умом и телом лаццарони литературной Киайи, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетонов, вроде тощего Жюльвекура, полуповрежденного Тардифа-де-Мело, неизвестного, но великого поэта Буэ; в его хоре были и ограниченнейшие поляки из товянщизны и тупоумнейшие немцы из атеизма. Как он не скучал с ними – это его секрет; он даже ко мне ходил почти всегда с одним или с двумя понятыми из хора, несмотря на то, что я с ними всегда скучал и не скрывал этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что он сам становился в положение Жюльвекура в отношении к Марраетам, Риберолям и даже к меньшим знаменитостям.
Все это не совсем понятно для современных посетителей Парижа. Никак не надобно забывать, что настоящий Париж – не настоящий, а новый.
Сделавшись каким-то сводным городом всего света, Париж перестал быть городом по преимуществу французским. Прежде в нем была вся Франция, и «ничего разве ее»; теперь в нем вся Европа да еще две Америки, но его самого меньше; он расплылся в своем звании мирового отеля, караван-сарая и потерял свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уважение без границ и отвращение без пределов.
Само собою разумеется, что отношение иностранцев к новому Парижу изменилось. Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution, знали, что они взяли чужой город. Кочующий турист считает Париж своим, он его покупает, жуирует им и очень хорошо знает, что он нужен Парижу и что старый Вавилон обстроился, окрасился, побелился не для себя, а для него.
В 1847 году я еще застал прежний Париж, к тому же Париж с поднятым пульсом, допевавший Беранжеровы песни с припевом: «Vive la réforme»[372]372
«Да здравствует реформа!» (франц.). – Ред.
[Закрыть], невзначай переменявшимся в «Vive la République!». Русские продолжали тогда жить в Париже с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению (и исправному взысканию оброков), что они живут в нем, что они гуляют в Palais Royal'e и ходят aux Français[373]373
во «Французскую комедию» (франц.). – Ред.
[Закрыть]. на откровенно поклонялись львам и львицам всех родов – знаменитым докторам и танцовщицам, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему «Мапа» и всем литературным шарлатанам и политическим фокусникам. Я ненавижу систему дерзости préméditée[374]374
преднамеренной (франц.). – Ред.
[Закрыть], которая у нас в моде. Я в ней узнаю все родовые черты прежнего, офицерского, помещичьего дантизма, ухарства, переложенные на нравы Васильевского острова и линий его. Но не надобно забывать что и клиентизм наш перед западными авторитетами шел из той же казармы, из той же канцелярии, из той же передней – только в другие двери, а именно обращенные к барину, начальнику и командиру. В нашей бедности поклонения чему б то ни было, кроме грубой силы и ее знамений – звезд и чинов, потребность иметь нравственную табель о рангах очень понятна, но зато перед кем и кем не стояли в умилении лучшие из наших соотечественников? Даже перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. От немцев можно сделать заключение, что делалось перед французами, перед людьми действительно замечательными, перед Пьером Леру, например, или перед самой Жорж Санд…
Каюсь, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком «Десяти лет» или у Бакунина с Прудовом – некоторым образом чин, повышение; но у меня все опыты идолопоклонства и кумиров не держатся и очень скоро уступают место полнейшему отрицанию.
Месяца через три после моего приезда в Париж я начал крепко нападать на это чинопочитание, и именно в пущий разгар моей оппозиции случился спор по поводу Белинского. Бакунин, с обыкновенным добродушием своим, сам вполовину соглашался и хохотал, но Сазонов надулся и продолжал меня считать профаном в практически-политических вопросах. Вскоре я его убедил еще больше в этом.
Февральская революция была для него полнейшим торжеством: знакомые фельетонисты заняли правительственные места, троны качались, их поддерживали поэты и доктора. Немецкие князьки спрашивали совета и помощи у вчера гонимых журналистов и профессоров. Либералы учили их, как крепче нахлобучить узенькие коронки, чтоб их не снесло поднявшейся вьюгой. Сазонов писал ко мне в Рим письмо за письмом и звал домой, в Париж, в единую и нераздельную республику.
Возвращаясь из Италии, я застал Сазонова озабоченным. Бакунина не было, он уже уехал поднимать западных славян.
– Неужели, – сказал мне Сазонов при первом свидании, – ты не видишь, что наше время пришло?
– То есть как?
– Русское правительство в impass'e[375]375
в тупике (франц.). – Ред.
[Закрыть].
– Что же случилось, не провозглашена ли республика в Петропавловской крепости?
– Entendons nous[376]376
Постараемся понять друг друга (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Я не думаю, чтоб у нас завтра было 24 февраля. Нет, но общественное мнение, но наплыв либеральных идей, разбитая на части Австрия, Пруссия с конституцией заставят подумать людей, окружающих Зимний дворец. Меньше нельзя сделать, как октроировать[377]377
Даровать (франц. octroyer). – Ред.
[Закрыть] какую-нибудь конституцию, un simulacre de charte[378]378
подобие конституции (франц.). – Ред.
[Закрыть], ну, и при этом, – прибавил он с некоторой торжественностью, – при этом необходимо либеральное, образованное, умеющее говорить современным языком министерство. Думал ли ты об этом?
– Нет.
– Чудак, где же они возьмут образованных министров?
– Как не найти, если б было нужно; но мне кажется, они их искать не будут.
– Теперь этот скептицизм неуместен, история совершается, и притом очень быстро. Подумай – правительство поневоле обратится к нам.
Я посмотрел на него, желая знать, что он – шутит или нет. У него лицо было серьезно, несколько поднято в цвете и нервно от волнения.
– Так-таки просто к нам?
– Ну, т. е. лично ли к нам или к нашему кругу, все равно. Да ты подумай еще раз, к кому же они сунутся? Ты какую берешь портфель?
– Напрасно смеешься. Это наше несчастие, что мы не умеем ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir[379]379
ни заставить ценить себя (франц.). – Ред.
[Закрыть]; ты все думаешь о статейках; статейки хорошее дело, но теперь другое время, и один день во власти важнее целого тома.
Сазонов с сожалением смотрел на мою непрактичность и наконец нашел людей меньше скептических, уверовавших в близкое пришествие его министерства. В конце 1848 года два-три немца-рефюжье очень постоянно посещали небольшие вечера, устроенные Сазоновым у себя. В их числе был австрийский лейтенант, отличившийся как начальник штаба при Месенгаузере. Раз, выходя часа в два ночи по проливному дождю и вспомнив, что от rue Blanche до quartier Latin[380]380
от Белой улицы до Латинского квартала (франц.). – Ред.
[Закрыть] не то чтоб было чересчур близко, офицер роптал на свою судьбу.
– Какая же вам неволя была в такую погоду тащиться в такую даль?
– Конечно, не неволя, да, знаете, Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мне кажется, что с ним надобно нам поддерживать хорошие отношения. Вы лучше меня знаете, что он с своим талантом и умом… с тем местом, которое он занимает в своей партии, что он далеко пойдет при предстоящем перевороте в России…
– Ну, Сазонов, – сказал я ему на другой день, – Архимедову точку ты нашел: есть человек, который верит в твою будущую портфель, и этот человек – лейтенант такой-то.
Время шло, переворота в России не было, и послов за нами никто не присылал. Прошли и грозные Июньские дни; Сазонов принялся за «передовую статью» – не журнала, а эпохи. Долго работал он за ней, читал небольшие отрывки, поправлял, менял и едва окончил к зиме. Ему казалось необходимым «объяснить последнюю революцию России». «Не ждите, – говорил он в начале, – чтоб я вам стал описывать события, – другие это сделают лучше меня. Я вам передам мысль, идею совершившегося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, он всякий раз, когда брал его, хотел сделать что-нибудь необыкновенное, громовое, – «Письмо» Чаадаева постоянно носилось в его уме. Статья поехала в Петербург, была прочтена в дружеских кругах и не сделала никакого впечатления.
Еще летом 1848 завел Сазонов международный клуб. Туда он привел всех своих Тардифов, немцев и мессианистов. С сияющим лицом ходил он в синем фраке по пустой зале. Он открыл международный клуб речью, обращенной к пяти-шести слушателям, в числе которых был я[381]381
Я был тогда, как выражаются поляки, «наспортовый», и не отрезал еще путей возвращения в Россию.
[Закрыть] в роли публики, остальная кучка была на платформе в качестве бюро. Вслед за Сазоновым предстал растрепанный, с видом заспанного человека, Тардиф-де-Мело, и грянул стихотворение в честь клуба.
Сазонов поморщился, но остановить поэта было поздно.
Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard
Et vous tous…[382]382
Ворцель, Сазонов, Голынский, дель Бальцо, Леонар и все вы…(франц.). – Ред.
[Закрыть] –
кричал с каким-то восторженным остервенением Тардиф-де-Мело, не замечая смеха.
На другой или третий день Сазонов мне прислал экземпляров тысячу программы открытия клуба, тем клуб и кончился. Только впоследствии мы услышали, что один из представителей человечества, и именно представлявший на этом конгрессе Испанию и говоривший речь, в которой называл исполнительную власть potence executive[383]383
исполнительная виселица (франц.). – Ред.
[Закрыть], воображая, что это по-французски, чуть не попал в Англии на настоящую виселицу и был приговорен к каторжной работе за подделку какого-то акта.
За неудавшимся министерством и лопнувшим клубом следовали больше скромные, но и гораздо больше возможные попытки сделаться журналистом. Когда устроилась «La Tribune des Peuples», под главным заведованием Мицкевича, Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал две-три очень хорошие статьи… и замолк; а перед падением «Трибуны», т. е. перед 13 июнем 1849, был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, il se sentait dérogé[384]384
он чувствовал себя униженным (франц.). – Ред.
[Закрыть], досадовал за это, ничего не оканчивал, запускал начатое и бросал вполовину сделанное.