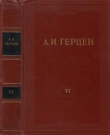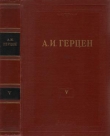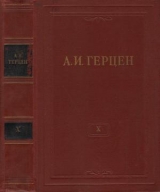
Текст книги "Том 10. Былое и думы. Часть 5"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
Coup d'Etat. – Прокурор покойной республики. – Глас коровий в пустыне. – Высылка прокурора. – Порядок и цивилизация торжествуют.
«Vive la mort[279]279
Да здравствует смерть (франц.). – Ред.
[Закрыть], друзья! И с Новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наши убеждения.Мы давно видели приближающуюся смерть; мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив, нам надо ее поднять, – мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды, нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании, а мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением устрашенных событиями в Париже».
(«Письма из Франции и Италии, письмо XIV, Ницца 31 дек. 1851)
Утром, помнится, 4 декабря, вошел ко мне наш повар Pasquale Rocca и с довольным видом объявил, что в городе продают афиши с извещением о том, что «Бонапарт разогнал Собрание и назначил красно е правительство». Кто так усердно служил Наполеону и распространял, даже вне Франции (тогда Ницца была итальянской), такие слухи в народе – не знаю, но каково должно быть число всякого рода агентов, политических кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хватило?
Через час явились Фогт, Орсини, Хоецкий, Матьё и другие – все были удивлены… Матьё, типическое лицо из французских революционеров, был вне себя.
Лысый, с черепом в виде грецкого ореха, т. е. с черепом чисто галльским, непоместительным, но упрямым, с большой, темной и нечесаной бородой, с довольно добрым выражением и маленькими глазами, Матьё походил на пророка, на юродивого, на авгура и на его птицу. Он был юрист и в счастливые дни Февральской республики был где-то прокурором или за прокурора. Революционер он был до конца ногтей – он отдался революции, так, как отдаются религии: с полной верой, никогда не дерзал ни понимать, ни сомневаться, ни мудрствовать лукаво, а любил и верил, называл Ледрю-Роллена – «Ледрррю» и Луи-Блана – Бланом просто, говорил, когда мог, «citoyen» и постоянно конспирировал.
Получивши весть о 2 декабре, он исчез и возвратился через два дня с глубоким убеждением, что Франция поднялась, que cela chauffe[280]280
недовольство разгорается (франц.). – Ред.
[Закрыть], и особенно на юге, в Барском департаменте, около Драгиньяна. Главное дело состояло в том, чтоб войти в сношения с представителями восстания… кой-кого он видел и с ними решил ночью, перейдя Вар на известном месте, собрать на совещание людей важных и надежных… Но, чтоб жандармы не могли догадаться, было положено с обеих сторон подавать сигналы «коровьим мычанием». Если дело пойдет на лад, Орсиии хотел привести всех своих друзей и, не совсем доверяя верному взгляду Матьё, сам отправился вместе с ним через границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, верный своей революционной и немного кондотьерской натуре, стал приготовлять своих товарищей и оружие. Матьё пропал.
Через сутки ночью меня будит Рокка, часа в четыре.
– Два господина, прямое дороги, им очень нужно, говорят они, вас видеть. Один из них дал эту записку: «Гражданин, бога ради, как можно скорее, вручите подателю триста или четыреста франков, крайне нужно. Матьё». Я захватил деньги и сошел вниз: в полумраке сидели у окна две замечательные личности; привычный ко всем мундирам революции, я все-таки был поражен посетителями. Оба были покрыты грязью и глиной с колен до пяток; на одном был красный шарф, шерстяной и толстый, на обоих – затасканные пальто, по жилету пояс, за поясом большие пистолеты, остальное как следует: всклокоченные волосы, большие бороды и крошечные трубки. Один из них, сказав «citoyen», произнес речь, в которой коснулся до моих цивических добродетелей и до денег, которые ждет Матьё. Я отдал деньги.
– Он в безопасности? – спросил я.
– Да, – отвечал его посол, – мы сейчас идем к нему за Вар. Он покупает лодку.
– Лодку? зачем?
– Гражданин Матьё имеет целый план высадки, – гнусный трус лодочник не хотел дать внаем лодку…
– Как, высадку во Франции… с одной лодкой?..
– Пока, гражданин, это тайна.
– Comme de raison[281]281
Как и следует (франц.). – Ред.
[Закрыть]
– Прикажете расписку?
– Помилуйте, зачем?
На другой день явился сам Матьё, точно так же по уши в грязи… и усталый до изнеможения; он всю ночь мычал коровой, несколько раз, казалось, слышал ответ, шел на сигнал и находил действительного быка или корову. Орсини, прождав его где-то часов десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и, как всегда, со вкусом и чисто одетый, походил на человека, вышедшего из своей спальной, а Матьё носил на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать.
Началась история лодки. Долго ли до греха, – сгубил бы он полдюжины своих да полдюжины итальянцев. Остановить, убедить его было невозможно. С ним показались и военачальники, приходившие ко мне ночью; можно было быть уверенным, что он компрометирует не только всех французов, но и нас всех в Ницце. Хоецкий взялся его угомонить и сделал это артистом.
Окно Хоецкого, с небольшим балконом, выходило прямо на взморье. Утром он увидел Матьё, бродящего с таинственным видом по берегу моря… Хоецкий стал ему делать знаки; Матьё увидел и показал, что сейчас придет к нему, но Хоецкий выразил страшнейший ужас – телеграфировал ему руками неминуемую опасность и требовал, чтоб он подошел к балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочках, подкрался.
– Вы не знаете? – спросил его Хоецкий.
– Что?
– В Ницце взвод французских жандармов.
– Что вы?
– Ш-ш-ш-ш… Ищут вас и ваших друзей, хотят делать у нас домовый обыск – вас сейчас схватят, не выходите на улицу.
– Violation du territoire…[282]282
Нарушение территориальной целостности (франц.). – Ред.
[Закрыть] я буду протестовать.
– Непременно, только теперь спасайтесь.
– Я в St.-Hélène, к Герцену.
– С ума вы сошли! Прямо себя отдать в руки, дача его на границе, с огромным садом: и не проведают, как возьмут, – да и Рокка видел уже вчера двух жандармов у ворот.
Матьё задумался.
– Идите морем к Фогту, спрячьтесь у него покаместь, он, кстати, всего лучше вам даст совет.
Матьё берегом моря, т. е. вдвое дальше, пошел к Фогту и начал с того, что рассказал ему от доски до доски разговор с Хоецким. Фогт в ту же минуту понял, в чем дело, и заметил ему:
– Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вам через два часа надобно ехать в Турин; за горой проходит дилижанс, я возьму место и проведу вас тропинкой.
– Я сбегаю домой за пожитками… – и прокурор республики несколько замялся.
– Это еще хуже, чем идти к Герцену. Что вы, в своем ли уме? За вами следят жандармы, агенты, шпионы… а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой, экой Селадон! Дворник! – закричал Фогт (дворник его дома был крошечный немец, уморительный, похожий на давно не мытый кофейник и очень преданный Фогту). – Пишите скорее, что вам нужна рубашка, платок, платье, он принесет и, если хотите, приведет сюда вашу Дульцинею, целуйтесь и плачьте сколько хотите.
Матьё от избытка чувств обнял Фогта.
Пришел Хоецкий.
– Торопитесь, торопитесь! – говорил он с зловещим видом.
Между тем воротился дворник, пришла и Дульцинея – осталось ждать, когда дилижанс покажется за горой. Место было взято.
– Вы, верно, опять режете гнилых собак или кроликов? – спросил Хоецкий у Фогта. – Quel chien de métier![283]283
Что за собачье ремесло! (франц.). – Ред.
[Закрыть]
– Нет.
– Помилуйте, y вас такой запах в комнате, как в катакомбах в Неаполе.
– Я и сам чувствую, но не могу понять, это из угла… верно, мертвая крыса под полом – страшная вонь… – И он снял шинель Матьё, лежавшую на стуле. Оказалось, что запах идет из шинели.
– Что за чума у вас в шинели? – спросил его Фогт.
– Ничего нет.
– Ах, это, верно, я, – заметила, краснея, Дульцинея, – я ему положила на дорогу фунт лимбургского сыра в карман, un peu trop fait[284]284
немного передержанного (франц.). – Ред.
[Закрыть].
– Поздравляю ваших соседей в дилижансе, – кричал Фогт, хохоча, как он один в свете умеет хохотать. – Ну, однако пора. Марш!
И Хоецкий с Фогтом выпроводили агитатора в Турин. В Турине Матьё явился к министру внутренних дел с протестом. Тот его принял с досадой и смехом.
– Как же вы могли думать, чтоб французские жандармы ловили людей в Сардинском королевстве? – Вы нездоровы.
Матьё сослался на Фогта и Хоецкого.
– Ваши друзья, – сказал министр, – над вами пошутили.
Матьё написал Фогту; тот нагородил ему не знаю какой вздор в ответ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкого, и через несколько недель написал мне письмо, в котором между прочим писал: «Вы один, гражданин, из этих господ не участвовали в коварном поступке против меня»…
К характеристическим странностям этого дела принадлежит без сомнения, то, что восстание в Варе было очень сильное, что народные массы действительно поднялись и были усмирены оружием, с обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и телохранители его, при всем усердии и мычаний не знали, где к ним примкнуть? Никто не подозревает ни его, ни его товарищей, что они намеренно ходили пачкаться в грязи и глине и не хотели идти туда, где была опасность, – совсем нет. Это вовсе не в духе французов, о которых Дельфина Ге говорила, что «они всего боятся, за исключением ружейных выстрелов», и еще больше не в духе de la démocratie militante[285]285
воинствующей демократии (франц.). – Ред.
[Закрыть] и красной pecпублики… Отчего же Матьё шел направо, когда восставшие крестьяне были налево?
Несколько дней спустя, как желтый лист, гонимый вихрем, стали падать на Ниццу несчастные жертвы подавленного восстания. Их было так много, что пиэмонтское правительство, до поры до времени, дозволило им остановиться какими-то биваками или цыганским табором возле города. Сколько бедствий и несчастий видели мы на этих кочевьях, – это та страшная, закулисная часть внутренних войн, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декорацией вторых декабрей.
Тут были простые земледельцы, мрачно тосковавшие о доме, о своей землице и наивно говорившие: «Мы вовсе не возмутители и не partageux[286]286
сторонники раздела земель (франц.). – Ред.
[Закрыть]; мы хотели защищать порядок, как добрые граждане; ce sont ces coquins[287]287
а эти негодяи (франц.). – Ред.
[Закрыть], которые нас вызвали (т. е. чиновники, мэры, жандармы), они изменили присяге и долгу – а мы теперь должны умирать с голоду в чужом крае или идти под военный суд?.. Какая же тут справедливость?» – И действительно, coup d'Etat вроде второго декабря убивает больше, чем людей: он убивает всякую нравственность, всякое понятие о добре и зле у целого населения; это такой урок разврата, который не может пройти даром. В числе их были и солдаты, troupiers[288]288
рядовые (франц.). – Ред.
[Закрыть], которые не могли сами надивиться, как они, вопреки дисциплины и приказаний капитана, очутились не с той стороны, с которой полк и знамя. Их число, впрочем, не было велико.
Тут были простые, небогатые буржуа, которые на меня не полают того омерзительного впечатлениях, как не простые: жалкие, ограниченные люди, они кой-как, с трудом, между обмериванием и обвешиванием усвоивая себе две-три мысли и полумысли об обязанностях, восстали за них, когда увидели, что их святыня попрана. «Это победа эгоизма, – говорили они, – да, да, эгоизма, а уж где эгоизм, тут порок; надобно, чтоб каждый исполнял долг свой без эгоизма».
Тут были, разумеется, и городские работники, этот искренний и настоящий элемент революции, стремящейся декретировать la sociale[289]289
социальное устройство общества (франц.). – Ред.
[Закрыть] и в ту же меру воздать буржуа и aristo[290]290
аристократам, иронич. сокращ. от aristocrate (франц.). – Ред.
[Закрыть], в какую они им воздают.
Наконец, тут были раненые, и страшно раненые. Я помню двоих крестьян средних лет, доползших, оставляя кровавый след, от границы до предместья, в котором жители подняли их полумертвыми. За ними гнался жандарм; видя, что граница недалеко, он выстрелил в одного и раздробил ему плечо… Раненый продолжал бежать… жандарм выстрелил еще раз, раненый упал; тогда он поскакал за другим и нагнал его сначала пулей, а потом сам. Второй раненый сдался, жандарм второпях привязал его к лошади и вдруг хватился первого… Тот дополз до перелеска и пустился бежать… Догнать его верхом было трудно, особенно с другим раненым, оставить лошадь невозможно… Жандарм выстрелил à bout portant[291]291
в упор (франц.). – Ред.
[Закрыть] пленному в голову, сверху вниз, тот упал замертво: пуля раздробила ему всю правую сторону лица, все кости. Когда он пришел в себя, никого не было… Он добрался по знакомым тропинкам, протоптанным контрабандистами до Вара, и перешел его, исходя кровью; тут он нашел совершенно истощенного товарища и с ним дожил до первых домов St.-Hélène. Там, как я сказал, их спасли жители. Первый раненый говорил, что после выстрела он зарылся в какие-то кусты, что он потом слышал голоса, что охотник-жандарм, верно, настиг других и поэтому удалился.
Каково усердие французской полиции!
За ним следовало усердие мэров, их помощников, прокуроров республики и префектов; оно показалось при подаче и счете голосов. Все это истории чисто французские, известные всему миру. Скажу только, что в отдаленных местах меры для достижения огромного большинства при вотировании были взяты с сельской простотой. По ту сторону Вара в первом местечке мэр и жандармский brigadier[292]292
унтер-офицер (франц.) – Ред.
[Закрыть] сидели возле урны и смотрели, какой бюльтень кто кладет, тут же говоря, что они свернут потом в бараний рог всякого бунтовщика. Казенные бюльтени были печатаны на особой бумаге, – ну, так и вышло, что во всем местечке нашлось, не знаю, пять или десять смельчаков беспардонных, вотировавших против плебисцита; остальные, и с ними вся Франция, вотировали империю in spe.
1848
«Так много понимать (писала Natalie к Огареву в конце 1846 года) и не иметь силы сладить, не иметь твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться на первом – жалко! И это все я понимаю как нельзя больше и все-таки не могу выработать себе не только наслаждения, но и снисхождения. Хорошее я понимаю вне себя, отдаю ему справедливость, а в душе отражается одно мрачное и мучит меня. Дай мне твою руку и скажи со мною вместе, что тебя ничто не удовлетворяет, что ты многим недоволен, а потом научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться, – у меня все есть для этого, лишь развей эту способность».
Эти строки и остатки журнала, относящегося к тому же времени и приложенного в другом месте[293]293
В «Арабесках»
[Закрыть], писаны под влиянием московских размолвок.
Темная сторона снова брала верх – отдаление Грановских испугало Natalie, ей казалось, что весь круг распадается и что мы остаемся одни с Огаревым. Женщина, едва вышедшая из ребячества, которую она любила, как меньшую сестру, ушла далее других. Вырваться во что б ни стало из этого круга сделалось тогда страстной idée fixe[294]294
навязчивой идеей (франц.). – Ред.
[Закрыть] Natalie.
Мы уехали.
Сначала новость – Париж, – потом просыпавшаяся Италия и революционная Франция захватили всю душу. Личное раздумье было побеждено историей. Так дожили мы Июньских дней.
…Еще прежде этих страшных, кровавых дней пятнадцатое мая провело косой по вторым всходам надежды… «Трех полных месяцев не прошло еще после 24 февраля, башмаков не успели износить, в которых строили баррикады, а уже усталая Франция напрашивалась на усмирение[295]295
«Письма из Франции и Италии», IX.
[Закрыть]. Капли крови не пролилось в этот день – это был тот сухой удар грома при чистом небе вслед за которым чуется страшная гроза. В этот день я с каким-то ясновидением заглянул в душу буржуа, в душу работника и ужаснулся. Я видел свирепое желание крови с обеих сторон – сосредоточенную ненависть со стороны работников и плотоядное, свирепое самосохранение со стороны мещан. Такие два стана не могли стоять друг возле друга, толкаясь ежедневно в совершенной чересполосице – в доме, на улице, в мастерской, на рынке. Страшный, кровавый бой, не предсказывавший ничего доброго, был за плечами. Этого никто не видел, кроме консерваторов, накликавших его; ближайшие знакомые говорили с улыбкой о моем раздражительном пессимизме. Им легче было схватить ружье и идти умирать на баррикаду, чем смело взглянуть в глаза событиям; им вообще хотелось не пониманье дела, а торжество над противниками, им хотелось поставить на своем.
Я становился дальше и дальше от всех. Пустота грозила и тут, – но вдруг барабанный бой – утром рано дребезжавший по улицам сбор возвестил начало катастрофы.
Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны, они положили черту в моей жизни. Повторю несколько строк, писанных мною через месяц.
«Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать – не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить о них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! – В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности – раненый на носилках держит рукой бок, несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St. Denis, на Елисейских Полях и мрачное ночное „Sentinelle, prenez garde à vous!.."[296]296
«Часовой, берегись!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.
Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, – от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся; я оправляюсь после Июньских дней, как после тяжкой болезни.
А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре, перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont-Neuf, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братии к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи, барабан раздавался со всех сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.
Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу – после Июньских дней он мне опротивел.
С другой стороны реки на всех переулках строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печальным голосом „Марсельезу"; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу… Набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия и генерал Бедо осматривал с моста в трубу неприятельскую позицию…
В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы „Насионаля" дали им исполнителей.
Вечером 26 июня мы услышали, после победы „Насионаля" над Парижем, правильные залпы, с небольшими расстановками… Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые… „Ведь это расстреливают", – сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощают такие минуты!
После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж; надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили ходили по бульварам, распевая „Mourir pour la patrie"[297]297
«Умереть за отечество» (франц.) – Ред.
[Закрыть]; мальчишки 16, 17 лет хвастали кровью своих братий, запекшейся на их руках, в них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собой в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали… А где же хозяева, жильцы? – об них никто и не думал… местами посыпали песком, кровь все-таки выступала… К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских Полей, на place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла, в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и <в> 1814 году.
Прошло еще несколько дней – и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах смотреть развалины домов и следы отчаянного боя… одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы: кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки: клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого».
Natalie писала около того же времени в Москву: «Я смотрю на детей и плачу, мне становится страшно, я не смею больше желать, чтоб они были живы, может, и их надет такая же ужасная доля».
В этих словах отголосок всего пережитого – в них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательствами, и бедный, глухонемой мальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот – за то, что не слышал «Passez au large!»[298]298
«Проходи!» (франц.) – Ред.
[Закрыть]
И как же иначе могло это отразиться на душе женщины, так несчастно, глубоко понимавшей все печальное… Тут и светлые характеры стали мрачны, исполнены желчи – какая-то злая боль ныла внутри и какой-то родовой стыд – делал неловким жизнь.
Не фантастическое горе по идеалам, не воспоминанья девичьих слез и христианского романтизма всплыли еще раз надо всем в душе Natalie – а скорбь истинная, тяжелая, не по женским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел, напротив, он сделался живою болью. Это было сокрушенье сестры, материнский плач на печальном поле только что миновавшей битвы. Она была в самом деле то, что Рашель лгала своей «Марсельезой».
Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упованья и надежды; ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодование, выступающее через край, – это был выход.
У нее не было его. Утром дети, вечером наши раздраженные, злые споры, – споры прозекторов с плохими лекарями. Она страдала – а я вместо врачеванья подавал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б за ее больной душой я вполовину так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом… я не допустил бы побегам от разъедающего корня проникнуть во все стороны. Я сам их укрепил и вырастил, не изведая, может ли она вынести их, сладить с ними.
Самая жизнь наша устроилась странно. Редко бывали тихие вечера интимной беседы, мирного покоя. Мы не умели еще запирать дверей от посторонних. К концу года начали отовсюду являться гонимые из всех стран – бездомные скитальцы; они искали от скуки, от одиночества какого-нибудь дружеского крова и теплого привета.
Вот как она писала об этом: «Мне надоели китайские тени, я не знаю, зачем и кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей; всё хорошие люди, иногда, мне кажется, я была бы с ними с удовольствием, а так слишком часто, жизнь так похожа на капель весною – кап, кап, кап – все утро забота о Саше, о Наташе, и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, рассеянна так, что мне становится иногда страшно и больно; приходит вечер, дети укладываются, – ну, кажется, отдохну – нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого пуще тяжело, что хорошие люди; иначе я была бы совсем одна, а тут я не одна, и присутствие их не чувствую, будто дым кругом бродит, глаза ест, дышать тяжело, а уйдут – ничего не остается… Настает завтра – все то же, настает другое завтра – все то же. Никому другому я бы не сказала этого, – примут за жалобу, подумают, что недовольна жизнию. Ты понимаешь меня, ты знаешь, что я ни с кем в свете не применялась бы; это минутное негодование, усталь… Струя свежего воздуха – и я воскресаю во всей силе…» (21 ноября 1848).
«Если б все говорить, что проходит по голове, мне иногда так страшно становится, глядя на детей… Что за смелость, что за дерзость заставить жить новое существо и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою – это страшно, иногда я кажусь себе преступницей; легче отнять жизнь, нежели дать, если б это делалось с сознанием. Я еще не встречала никого, про кого могла бы сказать: „Вот, если б мой ребенок был такой", т. е. если б его жизнь была такая… Мой взгляд упрощается больше и больше. Вскоре после рождения Саши я желала, чтоб он был великий человек, позже – чтоб он был тем, другим… наконец, я хочу, чтоб…»
Тут письмо перервано тифоидной горячкой Таты, вполне развившейся, но 15 дек<абря> добавлено: «Ну так я хотела сказать тогда, что теперь я ничего не хочу сделать из детей, лишь бы им жилось весело и хорошо – а остальное все пустяки…» 24 янв<аря> 1849. «Как бы я хотела иногда тоже бегать по-мышиному и чтоб эта беготня меня интересовала, а то быть так праздной, так праздной среди этой суеты, среди этих необходимостей – а заняться тем, чем бы я хотела, нельзя; как мучительно чувствовать себя всегда в такой дисгармонии с окружающими – я не говорю о самом тесном круге – да, если б можно было в нем заключиться, – нельзя. Хочется далее, вон – но хорошо было идти вон, когда мы были в Италии. А теперь – что же это? Тридцать лет – и те же стремления, та же жажда, та же неудовлетворенность, – да, я это говорю громко… А Наташа подошла на этом слове и так крепко меня расцеловала… Неудовлетворенность? – я слишком счастлива, la vie déborde[299]299
жизнь бьет через край (франц.). – Ред.
[Закрыть]…Но
Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?
Только с тобой я так могу говорить, ты меня поймешь, оттого, что ты так же слаба, как я, но с другими, кто сильнее и слабее, я бы не хотела так говорить, не хотела, чтоб они слышали как я говорю. Для них я найду другое. Потом меня пугает мое равнодушие; так немногое, так немногие меня интересуют… Природа, – только не в кухне, история, – только не в Камере, – потом семья, потом еще двое-трое – вот и всё. А ведь какие все добрые – занимаются моим здоровьем, глухотой Коли…»
27 января. «Наконец, сил недостает смотреть на предсмертные судороги, они слишком продолжительны, а жизнь так коротка; мною овладел эгоизм, оттого что самоотвержением ничего не поможешь, разве только доказать пословицу „На людях и смерть красна". Но довольно умирать, хотелось бы пожить, я бы бежала в Америку… Чему мы поверили, что приняли за осуществление, то было пророчество, и пророчество очень раннее. Как тяжело, как безотрадно, – мне хочется плакать, как ребенку. Что личное счастье?.. Общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух наполнен только предсмертным заразительным дыханием».
1 февраля. «N… N., если б ты знала, друг мой, как темно, как безотрадно за порогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, забыть все, кроме этого тесного круга…
Невыносимо брожение, которого результат будет через несколько веков; существо мое слишком слабо, чтоб всплыть из этого брожения и смотреть так вдаль, – оно сжимается, уничтожается».
Это письмо заключается словами: «Я желаю иметь так мало сил, чтоб не чувствовать своего существования, когда я его чувствую, я чувствую всю дисгармонию всего существующего».
Приметы
Реакция торжествовала; сквозь бледносинюю республику виднелись черты претендентов; Национальная гвардия ходила на охоту по блузам, префект полиции делал облавы по рощам катакомбам, отыскивая скрывавшихся. Люди менее воинственные доносили, подслушивали.
До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке: Т<учковы> жили в том же доме, М<ария> Ф<едоровна> у нас, А<нненко>в и Т<ургенев> приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необходимости, вероятно, думая спастись от внутренней тягости, от Июньских дней, взошедших в кровь и которые они везли с собой.
Зачем не уехал и я? Многое было бы спасено, и мне не пришлось бы принесть столько человеческих жертв и столько самого себя на заклание богу жестокому и беспощадному.
День нашей разлуки с Т<учковы>ми и с M<арией> Федоровной как-то особо каркнул вороном в моей жизни; я и этот сторожевой крик пропустил без внимания, как сотни других.
Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь, обличения тайно бродящего и уже существующего. Мы не замечаем эти психические приметы, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своей жизнию.
Накануне отъезда наших друзей они и еще человека три-четыре близких знакомых собрались у нас. Путешественники должны были быть на железной дороге в 7 часов утра; ложиться спать не стоило труда, всем хотелось лучше вместе провести последние часы. Сначала все шло живо, с тем нервным раздражением, которое всегда бывает при разлуке, но мало-помалу темное облако стало заволакивать всех… разговор не клеился, всем сделалось не по себе, налитое вино выдыхалось, натянутые шутки не веселили. Кто-то, увидя рассвет, отдернул занавесь, и лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.
Все были печальны; я задыхался от грусти. Жена моя сидела на небольшом диване, перед ней на коленях и скрывая лицо на ее груди стояла младшая дочь Т<учкова> «Consuelo di sua alma»[300]300
«Утешение моей души» (итал.). – Ред.
[Закрыть], как она ее звала. Она любила страстно мою жену и ехала от нее поневоле в глушь деревенской жизни; ее сестра грустно стояла возле. Консуэла шептала что-то сквозь слез, а в двух шагах молча и мрачно сидела М. Ф.; она давно свыклась с покорностью судьбе, она знала жизнь, и в ее глазах было просто «Прощайте», в то время как сквозь слезы молодых девушек все-таки просвечивало «До свиданья».