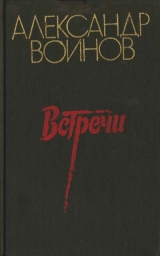
Текст книги "Встречи"
Автор книги: Александр Воинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
В ушах Ватутина еще слегка шумит, как будто близко вьется назойливый комар. Приходится напрягать волю, чтобы совладать с усталостью, слабостью, связывающей движения и мысли. А все эта подлая болезнь! Она отняла столько сил и так не вовремя навалилась…
За окном с грохотом прошли танки. Чуть дрогнули половицы, дверь скрипнула и приоткрылась. В щель заглянуло и тут же скрылось круглое лицо заместителя начальника штаба Кунина. Затем Ватутин услышал, как он громким шепотом кому-то сказал:
– Конца не видно!
Чья-то рука осторожно прикрыла дверь. Ватутин взглянул на своего собеседника – генерал-майора, человека уже в летах, со многими орденами на груди. Тот сидел прямо, держался спокойно и даже уверенно, но по тому, как напряженно двигались его нахмуренные седоватые брови, по землистой бледности, по сухому частому покашливанию Ватутин понимал, что генерал волнуется, что ему не так-то легко вести этот тяжелый для него разговор. Вернуться в Москву в отдел кадров? Перед самым началом крупной операции?! Какова бы ни была причина, конечно, все решат, что его просто-напросто убрали с фронта: не подошел, не справился…
Уже многое переговорено, многое вспомянуто. Когда-то они вместе учились в Полтавской военной школе, их койки стояли рядом. Береговой был тогда совсем еще молодым, но не очень расторопным курсантом. Ему часто попадало от курсового командира. Далеко ушли те времена, далеко, но при воспоминании о них на душе становится тепло и немножко грустно…
Держится Береговой с подчеркнутой официальностью, очевидно, не хочет навязывать командующему старой дружбы. И все же Ватутин улавливал в этом пожилом мрачном человеке что-то очень знакомое, напоминающее давние годы юности. Вот так же сурово и покорно смотрел он себе под ноги, когда, бывало, курсовой командир назначал его за какую-нибудь провинность дневалить вне очереди. И так же обиженно и угрюмо шевелились его выпуклые, густые, но тогда блестящие черные брови.
– Я понимаю, товарищ командующий, – говорил между тем Береговой, покашливая и покусывая жесткие усы, – может быть, прошлые ошибки мешают мне занять тот пост, на котором я их совершил. Тогда пусть мне об этом скажут прямо, пусть поставят на такое дело, с которым я могу справиться. Но в такие дни я не могу больше сидеть в резерве…
– В какие?.. – спросил Ватутин, постукивая карандашом по столу.
– Я не имею права вторгаться в планы командования, – с неожиданной запальчивостью сказал Береговой, – но я вижу, что идет сосредоточение войск, и могу делать свои выводы…
– Свои выводы, конечно, вы можете делать. – Ватутин улыбнулся. – Так чего же вы хотите, Степан Петрович? – спросил он, переводя разговор в другое русло. – Немедленного назначения?
– Да, товарищ командующий. Или уж пусть отправят в Москву, в резерв… Я не могу больше ждать!
Ватутин встал и обошел вокруг стола. Встал и Береговой. Он был на целую голову выше командующего и шире его в плечах. Чуть сутулясь, он сосредоточенно смотрел Ватутину в лицо, ожидая решения.
– Хорошо, – сказал Ватутин, помолчав, – я подумаю, Степан Петрович… Сейчас у меня народ собирается. Дам ответ завтра…
– Слушаюсь! – четко ответил Береговой. – Можно идти, товарищ командующий?
Ватутин вдруг улыбнулся и сильно хлопнул его по плечу.
– Ну и раздобрел же ты на генеральских харчах, Береговой!.. Не дай бог, тебя ранят, четырем санитарам не унести!
– А меня уже однажды ранили, товарищ командующий! – Лицо Берегового внезапно подобрело, он улыбнулся и словно помолодел.
Ватутин даже удивился этому мгновенному превращению.
– Ну и как? – спросил он.
– Пять, товарищ командующий! Пять тащили и кряхтели! Желаю здоровья, товарищ командующий!
2
– Куда смотришь?
– На Балканы, – мрачно ответил Ватутин и повернулся от окна к члену Военного совета фронта Соломатину. Соломатин стоял в дверях и посасывал свою короткую трубку.
Командармы только что разъехались. Разговор был большой и напряженный. Еще не оправившись до конца от болезни, позавчера вечером Ватутин отправился в штаб Рокоссовского на Военный совет фронтов. Представители Ставки собрали здесь командующих фронтами и членов военных советов, чтобы еще раз уточнить план предстоящей операции. Много часов подряд план обсуждался во всех деталях. Нужно было разработать задачу, решаемую каждым фронтом на месте, договориться о взаимодействии трех фронтов, наметить окончательные сроки. Было решено Юго-Западному и Донскому фронтам перейти в наступление девятнадцатого ноября, а Сталинградскому – двадцатого.
Вернувшись, Ватутин собрал командармов, чтобы сообщить им директиву Ставки, ввести их в курс многих обстоятельств, которые надо иметь в виду при подготовке наступления. Крайне важно было проверить, правильно ли расставлены силы.
Ватутин утомился. Особенно трудно пришлось с Рыкачевым и Гапоненко. Первый, как всегда, говорил длинно и только для того, чтобы говорить; другой шумел и доказывал, что, отнимая у него стрелковую дивизию и передавая ее Коробову, командование фронта поступает неправильно. Нельзя ослаблять его армию. Гапоненко был человек хозяйственный и прижимистый. Он всегда требовал себе про запас лишнюю дивизию, лишний полк и терпеть не мог, когда у него что-нибудь отбирали. Впрочем, на этот раз он был не так уж не прав. Его армии предстояло прорвать очень сильные укрепления, которые противник строил несколько месяцев. Ватутин, пожалуй, даже согласился бы с ним, но он получил строгое указание из Москвы передать Коробову именно эту дивизию.
Почему? Ватутин и сам не мог вразумительно ответить. Он должен выполнять приказ точно, как рядовой солдат. И все же, выполняя его, он невольно думал о том, почему, собственно, нужно издалека, за тысячи километров, указывать, какую дивизию и куда поставить. Разве здесь, на месте, ему, командующему фронтом, не виднее, как и где расставить войска? К тому же ведь на фронте постоянно находятся представители Ставки.
Ватутин принял к исполнению указание, но в споре с Гапоненко не чувствовал себя твердо. Сначала он не хотел говорить, по каким мотивам переводит дивизию, но, когда Гапоненко его допек, не выдержал и сказал сухо и строго, что это приказ, а он не подлежит обсуждению.
Однако, добившись своего, Ватутин в глубине души был встревожен. Армия Гапоненко оказалась ослабленной, и он решил посоветоваться с Соломатиным.
Конечно, ни один фронт не может жить и действовать, что называется, самостийно, в отрыве от других фронтов. Он находится в их системе, действует по общему стратегическому плану Верховного командования, и каждый командующий фронтом должен сообразовывать свои действия с задачами, определяемыми Ставкой. Но ведь он, Ватутин, даже от командиров рот требует самостоятельности, инициативы, чувства личной ответственности.
Слегка покачиваясь с носка на каблук, Соломатин наблюдал за Ватутиным, который, наклонившись над картой, что-то отмечал карандашом, рассчитывал, прикидывал. Наконец лицо его как будто просветлело.
– Ну, нашел выход?
– Намечается. Все зависит от подхода резервов. Направляю сюда танковую бригаду. Она укрепит стыки армий… – Ватутин отошел от карты и устало присел на стул. – Трудно бывает работать, Ефим Григорьевич, очень трудно. Все мы говорим, что люди – главный капитал, а на деле кое-кто поступает совсем иначе. Не ценят людей и не доверяют им как надо. Возьмем хотя бы судьбу Берегового. Ведь его так зажали, деваться человеку некуда. И кто зажал? Тот самый Рыкачев, который считает, что его самого несправедливо обошли и затирают.
– Да, да, – кивнул Соломатин. – Рыкачев добрых полчаса уговаривал меня забрать у него Берегового. Боится, что тот завалит дело. Никак не может ему какую-то давнюю ошибку простить.
– Вот именно. Боится простить! А ты знаешь, в чем вина Берегового? Однажды он чрезмерно растянул фланги дивизии и оказался под ударом… Ошибка, разумеется, но ведь и у Рыкачева таких ошибок немало.
– Н-да. – Соломатин медленно прошелся по комнате. – А что, если перевести его к Коробову? Коробов мужик умный, широкий. И не перестраховщик.
Ватутин живо поднял голову от карты:
– А что ты думаешь! Идея!..
В комнате наступило молчание. За стеной попыхивал движок, и свисающая с потолка лампа ярким светом заливала комнату, освещая большую белую печь, лежанку и выцветшие фотографии на стене, забытые хозяевами. У окна стоял стол с двумя телефонами и книгами, которые Ватутин читал в немногие свободные минуты.
Позвонил с Донского фронта Рокоссовский, спросил, как идут дела у Ватутина. Затем принесли разведывательные сводки. Никаких признаков значительного передвижения частей на стороне противника не замечено.
Часов в пять утра Соломатин отправился к себе, а Ватутин вышел проводить его на крыльцо. Занималась утренняя заря. Вот уже проступили волнистые очертания невысоких холмов, в небе стали меркнуть звезды.
В этот ранний час было так удивительно тихо, как бывает на широких равнинах, когда ночь словно уже прошла, а день еще не наступил.
Ватутин полной грудью вдыхал чистый холодный воздух. Слева, в нескольких шагах от него, неподвижно стоял автоматчик из охраны. Ватутин не видел его лица, но по росту, по ширине могучих плеч догадался, что это сержант Фомиченко.
– Фомиченко!
– Я, товарищ командующий, – зычно отозвался сержант.
– Ночь-то какая, Фомиченко, а!
– Тихая ночь, товарищ командующий, далеко слышно!
– А ты что же слышишь, сержант?
– Ветер от Сталинграда дует… И будто громче там сегодня бьют, товарищ командующий…
Ватутин прислушался. Ни одного звука далекой канонады. Только посвист ветра доносит со степи удаляющийся лязг трактора-тягача.
– Придумываешь ты, Фомиченко, – говорит Ватутин, – ничего не слышно, до Сталинграда далеко!
Фомиченко молчит, но по его молчанию Ватутин чувствует, что автоматчик остался при своем мнении. Ватутин улыбается. Уже многие командиры и солдаты говорили ему, что в тихие ночи сюда через десятки и даже сотни километров доносится грохот битвы. Он не спорил с ними, понимая, что эти люди слушают не ушами, а сердцем. Что ж, если говорить правду, он и сам днем и ночью слышит дальний гул сталинградских пушек.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Последний отрезок пути от Балашова поезд тащился чуть ли не десять часов. Утро выдалось на редкость скверное. Падал липкий снег с дождем. Низкие тучи висели над землей, и от этого медленно кружившаяся за окнами степь казалась особенно сумрачной и пустынной.
Однако в вагоне повеселели. Денек был явно нелетный, так что после всех потрясений минувшей ночи можно было отоспаться и отдохнуть душой.
Когда поезд стал приближаться к станции Филоново, Антон Никанорович собрал в своем купе всех членов делегации и еще раз строго предупредил, как надо вести себя по прибытии на фронт. Всем держаться вместе. Никто не должен отлучаться без особого на то разрешения.
За эти дни тревожного и трудного пути делегаты сблизились и даже, пожалуй, подружились. На огромном заводе многие из них не были даже знакомы, а сейчас им казалось, что они знают друг друга давным-давно.
Вот, например, начальник сборочного цеха Тимофей Тимофеевич Супрун. До сих пор Марьям думала о нем, как о человеке сухом и нелюдимом, а он, оказывается, совсем не такой, добр, скромен и задумчив. И никакой сухости в нем нет, просто немного застенчив. Они поспорили на несколько отвлеченную тему: бывает ли любовь вечной, а счастье полным. У Супруна на эти вопросы были свои, довольно-таки скептические взгляды, у Марьям – свои. Она не сомневалась ни в вечной любви, ни в возможности полного счастья. Очевидно, в различии их позиций сказывался возраст и особенности биографий. Супруну было далеко за пятьдесят. В вагоне шутили, что на его круглой и лысой голове осталось так мало волос, что пора наконец пересчитать их и взять на учет, а Марьям только начинала жить.
Однако после гибели майора ей было уже не до споров. Она больше думала, меньше говорила, смотрела в окно или делала вид, что читает книгу. Ей хотелось побыть одной, сосредоточиться и понять до конца что-то очень важное и большое, что прошло совсем рядом, вплотную, отбросив на всю ее жизнь густую тень. В первый раз видела она смерть своими глазами, в первый раз ощутила по-настоящему, как она мгновенна и непоправима…
А в соседнем купе старый токарь Василий Ильич Щербаков и бригадир сборки танков Африкан Фадеич Белобородко, человек тоже пожилой, с брюшком, «забивали козла», азартно стуча костяшками о крышку большого чемодана, который заменял им стол. Подальше, в другом конце вагона, хором пели песни. Каждый коротал время, как мог.
Когда поезд стал подходить к Филонову, стук костяшек прекратился, а песня замолкла. Начались быстрые сборы: укладывались чемоданы, увязывались вещевые мешки. Все говорили между собой вполголоса, словцо боясь нарушить значительность минуты. Антон Никанорович, одетый в черное кожаное пальто, уже стоял в коридоре у окна и, почти прижавшись щекой к стеклу, старался заглянуть вперед, чтобы первым увидеть тех, кто будет встречать эшелон.
Поезд замедлял движение. Мимо окон проплывали разрушенные станционные постройки, кирпичные стены диспетчерского поста с черными языками копоти вокруг оконных впадин, руины какого-то склада. А потом замелькали на путях пустые платформы и товарные вагоны с настежь открытыми дверями. Их, очевидно, уже успели разгрузить.
Антон Никанорович на мгновение оторвался от окна и повернул к стоявшим за его спиной делегатам вдруг сразу изменившееся, ставшее строгим и серьезным лицо.
– Товарищи! Мы приехали! Готовьтесь выходить!
Кто-то с другого конца коридора ему ответил:
– А как нас встречать будут? С музыкой?
Нефедьев погрозил в ту сторону пальцем, и шутник примолк.
– Марьям, поди-ка сюда!
Марьям оглянулась. За ее спиной в опустевшем купе стоял парторг Коломийцев. Он недавно вернулся с фронта и потому был в военной шинели. В бою под Новгородом рядом с ним разорвалась мина. Чудом уцелели глаза. На худощавом обожженном лице синела россыпь точек от въевшегося в кожу пороха. Правая нога была сильно повреждена, он заметно прихрамывал.
– Что тебе?
– Да поди же сюда.
Марьям вошла в купе. Коломийцев нагнулся к ней и доверительно сказал:
– Мы с Антоном Никаноровичем решили, что если надо будет выступать с речью, то от имени комсомола и молодых рабочих скажешь ты. Понимаешь?
Марьям испугалась. Говорить речь – да еще на фронте!..
– Что же я скажу?
– Ну как это что? Расскажешь, кто нас сюда послал и как люди делали эти танки… В общем, сама сообрази.
– Ладно. Попробую!..
Но все получилось не так, как ожидали делегаты. Поезд вдруг остановился. Антон Никанорович быстро соскочил с подножки на землю и сразу же устремился к небольшой группе военных, которые, пересекая пути, направлялись к эшелону.
Марьям вышла из вагона вслед за Коломийцевым и увидела, как Нефедьев сначала обнял, а затем стал горячо трясти руку невысокого генерала, которого окружало еще несколько начальников. По всему было видно, что он среди них главный.
– Кто это? – спросила она Коломийцева, который, поставив свой потертый чемодан около ног, смотрел на генерала удивленным и радостным взглядом, словно встретил старого знакомого.
– Это генерал Ватутин. Он у нас на Северо-Западном начальником штаба был, – сказал Коломийцев, не оборачиваясь.
– Ну а тех, кто с ним, ты тоже знаешь? Вот этого в очках, например? – допытывалась Марьям.
– Нет, этого не знаю.
Пока Нефедьев здоровался с командованием фронта, перед платформами уже выстроились танкисты. Они стояли в два ряда в синих комбинезонах и черных шлемах. Заместитель погибшего майора, капитан Калашников, скомандовал «Смирно!» и, пружиня шаг, пошел навстречу генералам.
Марьям издали смотрела, как, вытянувшись в струнку и приложив руку к шапке, Калашников рапортует Ватутину.
Ватутин принял рапорт и повернулся к танкистам. Должно быть, он поздоровался с ними, потому что десятки голосов разом крикнули: «Здрас…»
– А вот и наши товарищи, – сказал Нефедьев, подводя генералов к делегатам, которые, немного смутившись, продолжали стоять у вагона. – Это наши герои, передовики. Что ни человек, то золото.
– Здравствуйте, товарищи, с приездом! – приветливо сказал Ватутин и первым протянул руку Марьям.
Она робко ответила на его пожатие. Было ужасно неловко оттого, что эти щедрые слова: «Герои, передовики, что ни человек, то золото» – относятся не к каким-то незнакомым людям, глядящим на нее с плаката, а к ее товарищам и даже к ней самой.
Дальше все пошло как в сказке – стремительно, неожиданно и счастливо. Их рассадили по машинам, Марьям попала в легковую, и повезли прямо туда, где был расположен штаб фронта.
Приникнув к окошку, Марьям во все глаза глядела по сторонам и никак не могла себе представить, что эта проселочная дорога, мокрые кусты, поля, летящие по сторонам, – все это уже и есть фронт. Ну да, самый настоящий фронт, только что не передний край. Значит, они сбываются, наши заветные желания, только надо сильно захотеть!
Радостно встревоженная, уверенная, что теперь судьба будет подчиняться ей во всем, вошла она в дверь, указанную командиром.
Предчувствие чего-то очень хорошего не покидало ее ни на минуту. Никогда за все пережитые ею два десятка лет не испытывала она такого полного, такого захватывающего ощущения жизни. Все – большое и малое, что удалось ей испытать и запомнить, что радовало и сердило ее, все милые ей люди – и мама, маленькая, робкая, постаревшая, и строптивый, упрямый Федя Яковенко, и Валя, которую она представляла себе почему-то только такой, какой видела в последние мгновения на станции – заплаканной, со сбившимся платком и рассыпавшимися волосами, – все это соединилось в ее сознании в одно неразрывное целое. Это и была ее жизнь, жизнь, за которую отвечает только она сама и которую надо прожит как можно лучше, все равно, будет ли она длинная или короткая.
И мысль о том, что они с Федей в ссоре, что он почему-то не верит ей и не пишет больше, показалась ей просто невыносимой, до того шла она вразрез с новым строем ее души – простым, счастливым и ясным.
А ведь он где-то здесь, Федя, в этих краях… Месяц назад тот раненый лейтенант, что привез от него письмо, говорил ей, где стоит их часть, и даже называл эту самую Балашовку. Правда, письмо добиралось до нее долго. Их давным-давно могли перевести куда-нибудь совсем в другую сторону… Ну, а вдруг он еще здесь, на этом фронте? Что, если бы разыскать его? Она упросила бы Антона Никаноровича отпустить ее к нему на день. Нет, даже на один только час, чтобы самой увидеть Федю и все сказать ему…
Через час гостей позвали обедать в хату командующего фронтом. Когда Марьям вошла, в небольшой комнате, посреди которой стоял стол, составленный из трех небольших, покрытый несколькими наложенными край на край скатертями, было уже полно народу.
Неизменный дорожный спутник Марьям Тимофей Тимофеевич Супрун издали помахал ей рукой.
– Марьям, иди сюда! Мы тебе место оставили.
– Как вы сказали? Марьям? – заинтересовался один из командиров. – Это какое же имя?
– Казахское, – ответила Марьям.
– Вы разве казашка?
– Нет. – Марьям покачала головой. Она привыкла к тому, что имя ее вызывает некоторое удивление, и начала объяснять, как объясняла уже много раз: – Я не казашка, но мой отец после гражданской войны служил в Казахстане, дрался с басмачами. Под Талды-Курганом его очень тяжело ранили, и он непременно погиб бы, если б не одна тамошняя женщина. Она его выходила, помогла добраться до своих, а ее потом убили за это… Вот в память этой женщины меня потом и назвали Марьям.
Она говорила негромко, но чувствовала, что к голосу ее прислушиваются. В глазах, обращенных к ней, блеснуло внимание.
– Занятно! – сказал Нефедьев, когда она замолчала. – А я и не знал. Что ж ты мне никогда не рассказывала?
– А вы не спрашивали.
Вокруг засмеялись. Ватутин хлопнул Нефедьева по плечу и сказал, усмехаясь:
– Вот ведь какое дело, Антон Никанорыч! Не спросишь – не расскажут. И всегда оно так. Спрашивать, спрашивать нам надо побольше, а то с нас спросится.
Он издали, чуть прищурив один глаз, лукаво и добродушно посмотрел на Марьям, и сердце у нее вдруг екнуло.
«А что, если сказать ему про Федю? – подумала она. – Так просто подойти и сказать… Это ничего, что он командующий фронтом, даже еще лучше. Если он прикажет, Федю непременно найдут…»
Выбрать минутку, когда Ватутин окажется один, было не так-то легко. А между тем обед шел к концу. Вот-вот встанут из-за стола, разойдутся – и пиши пропало!
И вдруг Нефедьев, который сидел рядом с Ватутиным, отодвинул тарелку, сказал, что пойдет на ВЧ поговорить с заводом, и направился к двери. Марьям даже охнула тихонько: вот она, минута! Ну, будь что будет! Она стремительно поднялась и подошла к Ватутину. Ватутин взглянул на нее веселым, сузившимся от улыбки взглядом.
– Ну как, девушка! Хорошо устроились? – спросил он.
– Спасибо, очень хорошо, – ответила она. – Гораздо лучше, чем дома.
И тут, как назло, к Ватутину подошел Семенчук и положил перед ним раскрытую папку с какими-то бумагами.
– Товарищ командующий! К вам срочное дело, – сказал он, пристально взглянув на Марьям, и она поняла, что ей надо отойти от стола, на котором лежат секретные бумаги.
Вздохнув от огорчения, она отступила на шаг, другой. Нет, дальше она не уйдет! Лучше постоять и подождать здесь.
Ватутин прочитал бумагу и сердито поморщился.
– Подумать только! – сказал он строго. – Сообщают только через шесть часов. Передайте ему мой приказ: о таких случаях сообщать немедленно.
Он вернул адъютанту папку и вновь обернулся к Марьям. Очевидно, сообщение было неприятное, потому что в глубине его небольших серых глаз еще таилось затаенное недовольство. Ох, не до нее ему сейчас. Марьям уже хотела было отойти, но Ватутин, поняв ее движение, встал и пододвинул стул.
– Садитесь, – сказал он, – на войне всегда происходит что-нибудь неожиданное и неприятное… У вас кто-нибудь есть на фронте?
Как помог он ей этим вопросом! Она опустилась на стул и, сложив руки на коленях, взглянула на Ватутина тем робким и вместе с тем уважительным взглядом, каким ученик смотрит на своего учителя, готовясь спросить у него о чем-то особенном, своем, не относящемся к программе. Ватутин это заметил и кивком головы поощрил ее.
– Ну, ну?..
– У меня к вам… большая просьба… Я не знаю даже, как объяснить, – сбивчиво начала она. – Мне нужно узнать, к кому здесь обратиться… Мне надо выяснить, служит ли на вашем фронте… один человек… простой солдат.
– Солдат? – переспросил Ватутин. – Это дело довольно сложное. Кто он – пехотинец, сапер, танкист?
– Он писал мне, что разведчик. Его фамилия Яковенко! Федор Яковенко!..
– Странно, эта фамилия мне что-то знакома, – нахмурил брови Ватутин. – Яковенко… Яковенко… Постойте! Кто мне о нем говорил? – Он вдруг энергично взмахнул рукой: – Как же! Есть такой Яковенко. Правильно!.. Разведчик.
– А его зовут Федор? – спросила Марьям, удивляясь тому, что Ватутин знает солдата.
Ватутин усмехнулся:
– Вот как зовут его, право, не знаю. Но это можно быстро выяснить.
Он подозвал Семенчука и, коротко объяснив, в чем дело, приказал ему навести справку.
Марьям обрадовалась. Как все оказалось просто! Она так широко улыбнулась, что Супрун, глядевший на нее с другого конца комнаты, подумал, что эта улыбка относится к нему, и улыбнулся в ответ.
– Ну, вот дело и сделано, – сказал Ватутин, видимо довольный тем, что смог оказать ей услугу. – А кто он вам? Родственник?
– Нет.
Марьям не прибавила ничего больше, и Ватутин понимающе умолк.
После обеда выяснилось, что торжественное вручение танков корпусу Кравченко состоится только через три дня, а пока делегатам предлагают поездить по частям, встретиться с солдатами.
Марьям обрадовалась: значит, у нее есть время! Если Федор найдется, она успеет побывать у него. Между тем у Нефедьева кроме выступлений перед солдатами оказались и другие важные заботы. Он не просто в гости приехал на фронт. По заданию Государственного Комитета Обороны он должен был встретиться с танкистами и в боевых условиях проверить, как действуют усовершенствования, которые внесены в конструкцию танков. К вечеру, захватив с собой Супруна, Прокопыча и Василия Ильича, он уехал в штаб Рыкачева.







