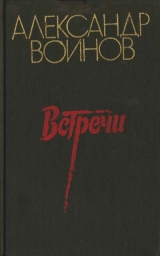
Текст книги "Встречи"
Автор книги: Александр Воинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
4
Вражеская группировка распадалась. Штабы Коробова и Рыкачева насчитали уже больше пятнадцати тысяч пленных. Однако между ними не было еще тех генералов, которых видел Силантьев. Где они? В окружении, среди оставшихся частей, или вывезены каким-нибудь прорвавшимся транспортным самолетом? По показаниям пленных, в окружение попали 5-я и 6-я пехотные дивизии румын, два полка 15-й пехотной дивизии и отдельные части 13-й дивизии.
Вся ночь и весь день прошли в боях, в которых с каждым часом терялись последние надежды румын прорвать окружение. Полк Дзюбы буквально с ходу вступил в бой. Однако на этот раз бой продолжался не больше часа. Стремительный, дружный напор – и войска противника в беспорядке отступили. Удачи последних дней, на удивление, переродили всех в полку – от командира до последнего солдата. Великое дело – победа. Малодушных она превращает в храбрых, а храбрым придает спокойствие и уверенность.
Дзюба расположил свой КП в одном из отнятых у противника блиндажей. Блиндаж был оборудован на совесть, но стены и пол его были политы каким-то сильным раствором, от которого щипало в носу и жгло веки.
– И как они тут сидели, – сердился Дзюба, – ведь просто не продохнуть. Откройте дверь, пусть хоть выветрится немного.
Под вечеров блиндаж вдруг ворвался Терентьев.
– Товарищ командир полка, – закричал он возбужденно, – парламентеры идут!
– К нам? – удивился Дзюба.
– К нам! Два человека!
Дзюба осанисто расправил плечи.
– Веди их сюда! Да завяжите им глаза, как они Силантьеву завязывали… Потуже!
Как раз в это время в блиндаж вошел Силантьев. Пуля оцарапала ему голову, и белая марлевая шапка была надвинута до бровей, как шлем.
Дзюба взглянул на повязку и поднялся ему навстречу, уступая скамейку.
– Вот еще незадача… Что с тобой, Силантьев? Сильно?
– Нет, – махнул рукой Силантьев. – Так, царапина… Потерял немного крови…
– Выпей-ка трофейного коньячку.
– Что ж, можно.
Дзюба налил полстакана коньяку и разрезал лимон.
– Садись рядом, здесь у стола! Сейчас будем принимать парламентеров… Ты теперь специалист. Знаешь, как с ними разговаривать.
– Ладно. Смейся, – сказал Силантьев, закусывая коньяк лимоном. – А впрочем, поговорим. Занятно…
Ступени блиндажа заскрипели. Дверь распахнулась. Первым на пороге показался взволнованный и потный Терентьев, за ним – Яковенко. Они встали по бокам лестницы, пропустив мимо себя двух румынских офицеров с завязанными глазами. Офицеры, осторожно ступая, как бы боясь провалиться в яму, вышли на середину блиндажа.
Силантьев уступил место за столом Дзюбе, а сам отошел в угол и стал оттуда с любопытством рассматривать парламентеров, один из которых показался ему что-то очень знакомым.
– Сними повязки, – кивнул Дзюба Терентьеву.
Терентьев мгновенно сдернул обе повязки, и парламентеры невольно зажмурили глаза от яркого электрического света. В худощавом человеке с черной щетиной волос на щеках Силантьев мгновенно узнал своего старого знакомого – капитана. Другой парламентер был ему неизвестен. Немолодой подполковник, приземистый и широколицый, в кожаном пальто на меху – он выглядел очень растерянным, хотя, видимо, изо всех сил старался сохранить достоинство.
– Парламентеры? – спросил Дзюба, внимательно рассматривая офицеров.
– Парламентеры, – ответил капитан, выступая вперед. В это мгновение он встретился взглядом с Силантьевым, узнал его и сразу как-то сник.
Дзюба насмешливо прищурил глаза:
– Сдаваться пришли?
Капитан помедлил, еще раз бросил испытующий взгляд на Силантьева, пытаясь угадать, не будет ли этот человек, которого он так дурно принял, теперь мстить ему, а затем приложил руку к шапке.
– С кем мы говорим, господин… господин майор?
– Я командир одной из частей, которые вас окружили.
– Мы пришли для переговоров.
– Переговоров не будет, – сказал Дзюба. – Никаких условий мы не принимаем. Сдавайте оружие!
Капитан перевел ответ Дзюбы подполковнику, тот хмуро выслушал его и что-то буркнул в воротник. Капитан опять повернулся к Дзюбе.
– Мы имеем поручение заявить о нашей капитуляции.
– Вот это другое дело, – сказал Дзюба. – Где будут сборные пункты, мы вам укажем позднее. Вам придется подождать, пока я доложу командованию, оттуда придет соответствующее распоряжение… Кто ваши генералы?
– Ласкер, Мазарини и Станеску…
– Отправьте парламентеров в соседний блиндаж, – сказал Дзюба Кочетову, который в это время на минуту оторвался от телефонов. – Пусть позагорают немного… Да, – обратился он к капитану, – а сколько вас там?
– Приблизительно тридцать тысяч, господин майор.
– Тридцать тысяч, – почесал за ухом Дзюба. – Порядком… Ну ладно, веди их, Кочетов!
Парламентеры ушли, а Дзюба доложил обо всем по телефону Чураеву. Чураев выслушал, сказал: «Ждите» – и стал звонить Коробову. Тот ответил: «Ждите» – и позвонил Ватутину.
Ватутин приказал: генералов Ласкера и Мазарини немедленно направить в штаб фронта, а генералу Станеску возглавить колонну сложивших оружие и вести ее в тыл; по дороге организовать пункты питания и медицинской помощи; к сдавшимся немедленно направить из штаба армии группу командиров, которая должна следить за тем, как будет происходить разоружение. И снова полетели по радио и по телефону короткие, точные приказы – командармам, комдивам, командирам полков: пока все гитлеровцы не будут разоружены и построены в колонны, быть начеку…
Часа через два Дзюба отправил парламентеров назад. С ними пошли полковник, который приехал от Ватутина из штаба фронта с поручением доставить туда обоих генералов, и посланные Дзюбой несколько офицеров, в том числе и Силантьев. До места, где ждали парламентеров Ласкер и Мазарини, было совсем недалеко. Через двадцать минут ходьбы по вытоптанному снегу они подошли к небольшому деревянному домику в центре деревни. У сломанного плетня стояло человек пять-шесть офицеров. Среди них Силантьев узнал и тех генералов, с которыми он разговаривал еще так недавно. Должно быть, они тоже узнали его. Силантьев заметил, что оба, точно сговорившись, беспокойно и хмуро отвели от него глаза. Подполковник в меховом пальто, понурившись и как-то сразу потеряв всю свою военную выправку, доложил генералам о результатах переговоров. Генералы молча кивнули и так же молча последовали в дом за полковником, которого прислал за ними Ватутин.
Полковник через переводчика предложил им взять свои вещи. Генералы удивленно переглянулись, но пошли за чемоданами.
И тут Силантьев вдруг вспомнил, что с капитаном у него еще не сведены счеты. Он нашел его в толпе офицеров и поманил к себе. Тот подошел, обреченно глядя на Силантьева. Куда девались его наглость, развязность? В глазах не видно ничего, кроме тупой покорности.
– Верни пистолет, слышишь! – строго сказал Силантьев, когда капитан подошел поближе.
Капитан с готовностью распахнул полы шинели и вытащил из заднего кармана знакомый Силантьеву ТТ. Пистолет тускло сверкнул вороненой сталью.
Силантьев взял пистолет, дунул в ствол и привычным движением засунул в карман. Потом повернулся и, уже не чувствуя к капитану прежней злобы, пошел на КП.
Вечером Силантьев в штабе дивизии у Кудрявцева узнал, что было в той телеграмме, которую при нем получил генерал Ласкер и которая в один миг сорвала успех его миссии.
Это был приказ генерала Вейхса держаться и ждать помощи. Он заверял союзников, что в ближайшие сутки кольцо окружения будет прорвано и они будут освобождены.
В тот час, когда, по словам Вейхса, советские войска на этом участке должны были быть разгромлены, от Распопинской к северу потянулись длинные колонны румынских солдат.
5
Складывая вещи Марьям, для того чтобы переслать их ее матери, Ольга Михайловна нашла в вещевом мешке старое запечатанное письмо. Конверт был сильно смят, но адрес, написанный лиловыми чернилами, все же после некоторого труда можно было разобрать. Это давно написанное письмо предназначалось Федору. Может быть, Марьям решила его не посылать, а возможно, в этом отпала и необходимость. Ведь она сама приехала на фронт, а письма идут так долго.
Но так или иначе, письмо предназначалось Федору, и оно принадлежит ему. Последняя, запоздалая весточка…
Федора Ольга Михайловна нашла в большой избе, в центре станицы, в этой избе расположились разведчики, и подозвала его к себе.
Увидев ее, Яковенко застегнул на груди ватник, соскочил с ящика, сидя на котором о чем-то беседовал с Терентьевым, и быстро пошел к ней. Он был удивлен и взволнован ее неожиданным приходом.
– Выйдем-ка на минутку, Федя, – сказала Ольга Михайловна, – мне нужно тебе кое-что сказать…
Он пошел вперед, спустился с крыльца и остановился на тропинке. Ольга Михайловна увидела, что лицо его покрывается красными пятнами, и вдруг ей показалось, что, может быть, и не нужно было ей сюда приходить. Но уже было поздно.
– Федя! Мне хочется передать тебе одну вещь, – сказала она. – Я нашла ее у Марьям… Мне думается… В общем, возьми… – И она протянула ему письмо.
Руки Федора дрогнули. Он расправил конверт и долго всматривался в почерк, которым был написан адрес, разбирая букву за буквой… Да, письмо это написано давно. Номер полевой почты с тех пор сменился уже несколько раз… Что в этом письме? О чем писала ему Марьям? Раз она не отослала его, может быть, и читать не следует.
И в то же время здесь вот, внутри этого конверта, ее голос, ее думы, возможно, даже ее последняя воля…
Он не заметил, как Ольга Михайловна ушла. Присел на ступеньку крыльца и осторожно, кончиком ножа разрезав край конверта, вынул из него несколько небольших, густо исписанных листков. Крупные, четкие буквы, твердый, почти мужской почерк. Если бы они не были смяты, казалось бы, что Марьям написала только сейчас.
Он стал читать…
Марьям писала:
«15 сентября 1942 г.
Ф е д е н ь к а, д о р о г о й!
Иногда я совершенно серьезно задумываюсь над тем, чтобы сбежать отсюда туда, где гудят бои, тем более что из-за моего побега ничего страшного не получится…
Мне страшно обидно от мысли, что я, современница такой великой войны, не могу увидеть, узнать все, что связано с ней… Я не хочу, чтобы эти годы ушли, а я так и не пережила бы самого трудного, так и не узнала бы по-настоящему, что такое война… Ведь хоть сейчас смерть идет рядом и мысль о ней стала привычной, а все же это жизнь… Так вот я хочу, чтобы она была настоящей жизнью. Разве она может вполне удовлетворить меня, если один мой день, как другой, если бредут они незаметно, до тошноты похожие друг на дружку, без тревог и событий…
Мне противно так жить. Грустно, тягостно, хочется реветь без причины, а ведь это стыдно…
Вот ты думаешь, что я хочу туда, на передовую, потому что вижу в этом свой долг.
Да, это так. Но при этом меня не подхлестывает ни сознание того, что я комсомолка, ни то, что я хочу быть «передовой», получить ордена, прославиться и т. д. (хотя это тоже играет какую-то роль, но не главную)… Понимаешь, я не могу! Говорю тебе серьезно: сердце рвется туда, к вам, словно тянет что-то. Это чувство громадной силы…
Что-то сидит внутри и не дает мне покоя: тянет, тянет… и места не могу себе найти…
Вот ты пишешь: «Если я для тебя что-нибудь значу, не делай этого». Мама говорит, что, если со мной случится несчастье, это убьет ее. Наверно, так и есть. Если она будет знать, что я подвергаюсь большой опасности, это будет для нее такой мукой… Но меня не удержало бы все это – только бы разрешили…
Честное слово, если бы сейчас меня вызвали и сказали, что мое желание наконец исполняется, то я не остановилась бы ни перед чем: бросила бы вещи, ушла бы в какую угодно вьюгу, даже раздетая…
Я бы не испугалась ни смерти, ни ранения, ни уродства…
Может быть, это потому, что я уверена в том, что останусь живой, целой и невредимой…
Ты давно не пишешь мне, верно, обиделся. Но я пишу редко только потому, что занята. Пиши, родной. Мне большую радость приносят твои письма. Как живешь, что делаешь, как твое здоровье.
Крепко целую.
М а р ь я м».
Ветер трепал листки, словно стремясь вырвать их из рук Федора и унести с собой, чтобы все, что в них сказано, прочитали и другие люди…
Федор долго сидел, читая и вновь перечитывая обращенные к нему слова. Потом медленно сложил листки, вложил их в конверт и спрятал в карман гимнастерки.
В хату он вернулся каким-то другим. Терентьев взглянул на него и удивился. Лицо Федора было вновь спокойным, и в глазах пропал лихорадочный блеск. «Наверное, врачиха дала ему какого-нибудь лекарства», – подумал он.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
1
На степь спускался вечер. Четвертый день наступления шел к концу.
Сумерки скрадывали очертания дальних холмов. Свинцовое небо нависло над землей. Где-то в вышине глухо выли «юнкерсы»: «И-ду, и-ду, и-ду…» Машина Дзюбы двигалась прямо по бездорожному полю, и шофер Петя изредка включал свет фар. Это было строго запрещено, но в темноте можно было сорваться с кручи на дно какой-нибудь занесенной снегом балки, и Дзюба не упрекал шофера.
Рядом с Дзюбой сидел Силантьев. Они долго ехали молча, каждый занятый своими мыслями. Петя вел машину медленно, чтобы не отрываться от полка, который следовал в пешем строю. Иногда машина останавливалась, и они поджидали, когда колонна подойдет поближе.
– Дзюба, ты помнишь лейтенанта Серегина из третьей роты? – вдруг сказал Силантьев.
Дзюба повернул к нему голову.
– Это какой Серегин? Дай-кось вспомнить! – спросил он. – Тот горьковчанин, которого сегодня поранило, что ли?
– Ну да… Ты что о нем думаешь?
– Да по правде сказать, еще и думки нет. Ведь он только вчера к нам прибыл.
– Я к тому и говорю… Ты знаешь, сколько он всего провоевал с начала войны?
– Он мне говорил, что на фронте с первого дня, – ответил Дзюба.
– Да, это верно. Двадцать второго июня он был на границе. В первом же бою получил тяжелое ранение. Четыре месяца пробыл в госпитале во Владимире. Потом попал под Ленинград. Ночью разгрузились из эшелона, пошли в бой, и через час опять был ранен в грудь. Опять много месяцев провалялся в госпитале, и вот – снова… В сумме на фронте – три дня…
– А ведь храбрый парняга, – сказал Дзюба. – Первый свой взвод поднял…
– Наградить его надо, – хмуро сказал Силантьев. – А то пойдет опять по госпиталям, так про него и забудут. Человек он, видно, скромный, сам про себя напоминать не станет. Жаловался он мне вчера: пули, говорит, меня любят. И действительно, любят…
– Правильно. Наградить надо. Сегодня же представлю, – сказал Дзюба, подымая воротник полушубка.
Помолчали. Вдруг Петя резко затормозил машину и потянулся к лежавшему рядом на сиденье автомату.
– В чем дело? – спросил Дзюба.
– Заяц, товарищ командир, – прошептал Петя.
– Где? – оживился Дзюба.
Силантьев стал быстро осматриваться по сторонам.
– Вон, на пригорке! – Петя ткнул пальцем в сторону.
Шагах в двадцати пяти, насторожив уши, сидел большой заяц. Он удивленно смотрел на машину и не убегал.
– Стреляй, – с охотничьим азартом сказал Дзюба.
Но Силантьев уже вынул пистолет и стал не спеша целиться в зайца.
– Товарищ замполит, – взмолился Петя шепотом – он боялся спугнуть зайца, – не стреляйте! Ведь убегет, убегет! Дайте мне! Я его из автомата!
Силантьев выстрелил, промазал, а заяц, не будь дурак, схватился и мигом исчез за кустами.
– Убег!.. Эх вы, товарищ замполит… – В отчаянии Петя запутался в скоростях и дал задний ход. – Ну разве можно так! Не умеете стрелять, не беритесь. Я бы его сразу снял…
– Виноват, Петя, – засмеялся Силантьев. – Охотник я плохой!.. Следующего зайца дарю тебе…
Петя промолчал. Как-никак он был не охотником, гуляющим по осенней степи с дробовиком в руках, а водителем командирской машины. И он вел ее, устремив взгляд вперед и старательно объезжая все кочки, но лицо у него было такое огорченное и злое, что Дзюба, заметив это, засмеялся.
– Ты что ж это, Силантьев, зайцев пугаешь! – сказал он. – Петя вовек тебе этого не простит. Ты знаешь, какой он знаменитый охотник? Первый на все Брянские леса…
Дальше ехали молча. Маленькая история с зайцем вдруг повернула мысли Дзюбы к тем, почти забытым, дням, когда война казалась далекой и невозможной…
Ведь и женился он перед самой войной, прожил с женой всего лишь полгода, и на тебе… Силантьеву что – молод и холост. Он, возможно, и любви-то еще настоящей не понимает…
Дзюба скосил глаза на Силантьева, который также думал о чем-то своем, и вздохнул. «Странно устроен мир. Казалось бы, какая страшная война, каждый день, каждый час может быть последним. А все же все думают о счастье, о будущем…» И Дзюба вдруг задал себе вопрос: ну, а чего все же хочет он? Остаться живым? Конечно… Кому хочется помирать! Победить?.. Безусловно! Какая жизнь, если победят гитлеровцы… Да, но этого хотят все – и Силантьев, который сидит рядом, и Петя, огорченный тем, что убежал заяц… Да, этого хотят все. А чего же хочет он сам?.. Для самого себя… Орденов? Их и так у него уже четыре. Будет жив – дадут еще. Стать командиром дивизии? Что ж, это неплохо. Уж наверняка он не слабее Чураева. Но и это, рано или поздно, придет само собой… Так чего же?.. Вдруг он закрыл глаза и усмехнулся. Откуда-то издалека на него взглянули серые глаза… Ах, вот что ему хочется!.. Он представил себе солнечный, яркий день… Война окончена… Он подъезжает на машине к своему дому, вихрем взлетает на третий этаж, звонит два раза, распахивается дверь… И…
Петя наехал на какой-то бугор, и машину сильно тряхнуло. Дзюба судорожно ухватился рукой за борт и выругался.
– Побережней! Думать не даешь…
– А о чем ты думаешь? – обернулся к нему Силантьев.
– Да вот куда повернуть, – пробормотал Дзюба. – Станица где-то близко!.. Ты глянь на карту, правильно ли едем…
2
Вечером к Коробову зашел Дружинин.
– Ну, Михаил Иваныч, дело-то к концу идет! – сказал он, присаживаясь к столу.
– Не к концу, а к середине, – улыбнулся Коробов.
Дружинин закурил папиросу и взглянул на лохматую голову Коробова. Густые волосы упорно вились и, сколько он с ними ни боролся, не желали ложиться ровным пробором.
– Поседел ты за эти дни, Михаил Иваныч.
Коробов взглянул на него из-под бровей:
– Волосы – бог с ними… Вот в душу седину пускать нельзя…
Дружинин мрачно помолчал, глубоко затягиваясь дымом.
– Забирают меня от тебя, Михаил Иванович, – вдруг сказал он. – Уже приказ получил…
Коробов встрепенулся:
– Забирают!.. И меня не спросили!..
Дружинин развел руками:
– Решили назначить начальником курсов политруков.
– Что они там, с ума сошли! – Коробов вскочил и обрушил кулак на стол с такой силой, что бумаги полетели в разные стороны. – Не пущу!.. Какие курсы!.. Пусть назначают туда каких-нибудь тыловых крыс!..
– Да я уже убеждал, – вздохнул Дружинин. – Говорят, боевой опыт надо…
– «Опыт!.. Опыт!..» – продолжал бушевать Коробов. – Я Сталину позвоню, а тебя не отдам… Понятно?..
– Чего уж понятней! – сказал Дружинин. – Посмотри, кем подписана радиограмма…
Он протянул ему через стол листок. Коробов прочитал и досадливо махнул рукой.
– Подсунули!.. А если разберется – отменит!.. Такие события… Нельзя, нельзя… Не согласен…
Вот она когда пришла, проверка! Дружинин смотрел в порозовевшее лицо Коробова и невольно радовался. Не ожидал он этого. Не думал, что завоевал сердце этого большого, умного человека. А он-то был уверен, что Коробов им тяготится, ведь не раз спорили, и однажды в сердцах командарм так обозвал его, что целый день они не разговаривали, а потом сам первый пришел и попросил извинения…
Оба понимали, что приказ отменен не будет и расставаться надо.
– Ну ты не сразу уезжай, – сказал Коробов, – подожди пару дней, а я сообщу, что без члена Военного совета оставаться не могу… Когда пришлют нового, тогда и поедешь.
– Ладно, – согласился Дружинин, – позвоню Соломатину, как он скажет…
Коробов пристально взглянул на Дружинина, словно проверяя, действительно ли тот хочет остаться или просто не желает его огорчать. Дружинин понял его взгляд и кивнул головой.
– Останусь, останусь, Михаил Иванович. Хочешь, сам поговори с Соломатиным… А то получится, что я сам напрашиваюсь…
Коробов тут же позвонил Соломатину, но дело обернулось совсем не так, как он ожидал. Новый член Военного совета уже в пути, а Дружинину нужно немедленно выезжать в Куйбышев.
Коробов бросил трубку и с ненавистью взглянул на телефон.
– Ну, значит, не судьба, – сказал он, – иди собирайся…
Он вдруг тяжело поднялся, обошел вокруг стола и обнял Дружинина.
– Хороший ты человек, Максим. – Он впервые назвал его просто по имени. – Жаль, жаль, что мы расстаемся… Впрочем, жизнь большая… Будем живы, встретимся… Я почему-то убежден, что долго ты там не усидишь, не такая у тебя натура…
Дружинин смущенно и растроганно взглянул на Коробова. Не привык он к тому, чтобы ему говорили теплые слова. Сам говорил, когда вручал ордена. Но ведь это относилось к другим. Он никак не предполагал, что простые слова могут так глубоко задеть и его сердце. Считал себя человеком бывалым, ко всему привычным… А выходит, не ко всему!
Когда Дружинин вышел, Коробов присел за стол и задумчиво подпер рукой щеку. Если бы его спросили, кого он хотел на место Дружинина, он тут же, не задумываясь, предложил бы Кудрявцева. Хороший человек, умница…
– Товарищ командарм, вам личная телеграмма!..
В дверях стоял секретарь Военного совета майор Куликов и держал в руках обычный сиреневый бланк. Но на выбритом загорелом лице секретаря какая-то широкая улыбка. Видно, пришел с хорошей вестью.
Коробов сразу успокоился. Он было подумал, не стряслось ли что-нибудь с Варварой. Она далеко, на Урале, пишет, что живется трудно.
– Откуда?
– Из Уфы… Вас можно поздравить с внуком, товарищ командующий.
– Меня, с внуком? – удивился Коробов. – А ну-ка, дай телеграмму сюда…
Он взял листок, прочитал и громко расхохотался.
– Так я уже дедушка… Вот те на!.. А я считал себя еще совсем молодым. – Он с веселой досадой потряс телеграммой в воздухе. – И надо же было моему сыну жениться!.. Ах, негодяй!.. Что он со мной сделал!
– А где ваш сын, товарищ командующий? – вежливо осведомился Куликов.
– Да там же, в Уфе, на военном заводе работает! Инженер!.. А Дружинин спрашивает, почему у меня волосы седые, – вернулся он к прежней теме. – Теперь понятно, почему они седые. – Он ткнул себя в грудь: – Я же ведь дед!.. Подожди, товарищ Куликов, я сейчас напишу ответ… Пошли им, пожалуйста, всю мою зарплату… Ах, черт подери, – он замотал головой, – ведь почти все деньги получает по аттестату моя жена… А мне только и остается на папиросы… Что же делать?.. Придется и ей написать…
Он быстро написал телеграмму в Уфу, поздравил сына и невестку, которую никогда не видел. Сын прислал фото, но такое плохое, что лучше бы не посылал. Невестке на ней, по крайней мере, лет сорок, хотя в письмах сын уверяет, что всего двадцать один.
Он протянул телеграмму Куликову и полусерьезно сказал:
– Ты смотри, о том, что я дед, особенно не распространяйся… А то еще смеяться будут…
Отступая к двери, Куликов шутливо пожал плечами:
– Я-то промолчу, товарищ командующий! А как быть с девушками на телеграфе? Они об этом уже передали по «солдатскому вестнику».
– Раз так, – махнул рукой Коробов, – отпускаю себе бороду!.. Иди!..
Куликов вышел, прикрыв за собой дверь. «Развеселился старик! Никогда не видел его на таком подъеме».
А когда дверь закрылась, Коробов встал и озабоченно прошелся по комнате.
«Действительно, а где же достать денег? Трудно ведь будет с новорожденным. А Варвара скуповата. Вряд ли пошлет им много. Надо будет договориться с финчастью, может быть, поделят теперь аттестат… Часть денег Варваре, часть Антоше».
На столе загудел телефон. Коробов снял трубку, послушал и вдруг сердито приказал:
– Пошлите радиограмму Кравченко!.. Жду сообщений… Да, пункт встречи остается прежний. У хутора Советского…
И опять закрутилась машина. Приходили и уходили люди, докладывали и получали приказания. Битва шла не только на полях, но и у его стола. Армия наступала по широким просторам. Наступал пятый день…







