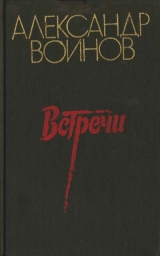
Текст книги "Встречи"
Автор книги: Александр Воинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Генерал Рыкачев сердито посасывал потухшую папиросу и, насупившись, смотрел в одну точку перед собой. Сухощавый, прямой, с чуть вздернутыми кверху плечами, он выглядел моложе своих пятидесяти пяти лет. И очевидно, знал это. Во всей его осанке, в быстроте и четкости движений, в тщательности, с которой были расчесаны начавшие редеть черные виски, даже в манере держать папиросу – небрежно и картинно, – во всем чувствовалось желание если уж не быть, то, по крайней мере, казаться молодым.
Судя по груде окурков, которые лежали в пепельнице, стоявшей на краю стола перед Рыкачевым, разговор затянулся.
Ватутин усталым движением расстегнул верхние пуговицы кителя и откинулся на спинку скрипучего стула.
– Что вы все время киваете на Воронежский фронт, – сказал он с затаенным раздражением. – Там были одни условия, здесь другие. Там мы главным образом сдерживали противника, теперь же у нас совсем иная задача. Я пока еще не могу говорить обо всем подробно… Но думаю, вы и сами догадываетесь…
Рыкачев кивнул головой и сухо улыбнулся.
– Отчасти догадываюсь, товарищ командующий. Так, зазря, меня в это растреклятое место, где ни дорог, ни мостов, с армией бы не послали. Но разговор наш имеет для меня важное значение. Я продолжаю считать, что ослаблять фланги в большом сражении и собирать все силы на одном участке за счет других – очень рискованное дело…
– Не спорю, рискованное. – Ватутин сердито прищурил глаза. – Но чего же вы-то хотите? Вы хотите, чтобы мы везде были одинаково сильны? Это невозможно и совсем необязательно, товарищ генерал. Да, совсем необязательно, – повторил он. – Могу сказать наверное, что к началу сражения мы еще не будем иметь преобладающего перевеса в силах. Но даже самый незначительный крен в нашу сторону надо уловить и разумно использовать. – Он нетерпеливо передернул плечами. – А вы требуете каких-то идеальных, несбыточных условий. Их нам никто не создаст. И требовать ничего лишнего мы не должны… Риск, вы говорите… Да, конечно. Но риск естественный, оправданный, необходимый… Не забывайте, что мы с вами и направлены-то для того, чтобы взять на себя всю ответственность. И решать. Решать не только за себя, но и за противника. Не подчиняться обстановке, а создавать ее. Навязывать противнику свою волю…
Ватутин не сдержался и слегка стукнул кулаком по столу.
Он прекрасно понимал, что в основе этого нескончаемого спора лежит вовсе не какая-то особая стратегическая концепция, а просто-напросто самолюбивое желание его собеседника доказать во что бы то ни стало, что и у него тоже есть свои собственные взгляды, принципы, установки и что, если бы его оценили как следует, по заслугам, он, Рыкачев, должен был бы занять в армии гораздо более видное положение… А кем был тогда, когда Рыкачев командовал дивизией, этот нынешний командующий фронтом? Мальчишкой! Курсантом! Если бы Ватутин утверждал, что фланги ослаблять нельзя, то Рыкачев всеми способами отстаивал бы то, против чего сейчас так яростно возражает…
Этот затянувшийся бесплодный спор все больше и больше раздражал Ватутина. В конце концов хватит переливать из пустого в порожнее. Если Рыкачев считает, что должность командарма ему мала, пусть обращается в Ставку и требует повышения. А здесь надо не болтать, а работать.
Чтобы Рыкачев как-нибудь ненароком не угадал, о чем он думает, Ватутин отвел в сторону глаза и стал пристально и напряженно смотреть куда-то в угол. И тут-то Рыкачев угадал. Он вдруг заметил и этот странный, как будто невидящий взгляд, и прикушенную губу, и желваки, которые остро выдавались на скулах под туго натянутой кожей. Заметил и неожиданно для самого себя испугался.
Мысль о том, что Ватутин понял подоплеку их спора, была ему мучительно неприятна.
«Прекратить! Прекратить немедленно!» – твердил себе Рыкачев. А сам против воли тянул все ту же канитель, с каждой минутой теряя последний задор и не находя способа отступить с честью.
Помощь пришла неожиданно. Хлопнула дверь, и на пороге появился Бобырев, уставный, с бледным от ночной работы лицом и как будто испуганный. В руках он держал какой-то листок бумаги.
– Разрешите доложить, товарищ командующий, – сказал он, подходя к столу. – Серьезное упущение… Прошу посмотреть!..
– Что это? – сердито спросил Ватутин, беря листок в руки. – Что это?! – Вдруг его лицо и шея стали наливаться краской. – Откуда это у вас? – крикнул он и вскочил с места.
Рыкачев облегченно вздохнул. Бобырев появился как раз в самую нужную минуту и отвлек внимание Ватутина.
– Где вы это взяли, черт подери? Ведь этому названия нет!
Бобырев указал в сторону занавешенного окна.
– На полевой почте, товарищ командующий, у писаря!
– У писаря!.. – воскликнул Ватутин. – Список всех прибывших частей – у писаря? Где он его взял?
– Понимаете, какое дело, товарищ командующий… – сказал Бобырев. – Как только часть прибывает, она сразу же регистрируется на полевой почте! Таков порядок!..
Ватутин зло взглянул на Рыкачева.
– Ничего себе порядочки! Мы голову ломаем, как скрыть от противника создающуюся группировку. А простой писарь знает больше, чем весь штаб…
– Виноват, товарищ командующий, – сказал Бобырев, мрачнея, – я только вчера приехал. Просто не предполагал, что такая щель может оказаться.
– Да ведь это же преступление! – Ватутин еще раз пробежал глазами листок, густо покрытый лиловыми кудрявыми строчками. – Ну где у нас гарантия, что подобный список не попал в руки противника?
– Писарь утверждает, что это единственный документ, который он составил.
– Проверьте! Самым строгим образом!
– Слушаюсь, – сказал Бобырев.
– Ну а вы, товарищ Рыкачев, – повернулся Ватутин к командарму, – вы уверены, что на вашей армейской почте такое не происходит?
– Не уверен, товарищ командующий, – признался Рыкачев. – Это ведь не нами заведено. Все почты работают по одной инструкции.
– Так скорее поезжайте к себе и наведите порядок! Изымите все списки. Полевая почта не должна ничего знать! Никакой переписки. Все, что касается подготовки операции, осуществлять лишь путем личных приказов. В части посылайте особо доверенных людей. И строго следите за тем, чтобы они не знали больше того, что им положено по должности. Идите. Завтра же доложите мне о принятых мерах!
Рыкачев быстро попрощался и вышел вслед за Бобыревым.
Ватутин некоторое время сидел задумавшись. Всего неделя, как он приехал на эту затерявшуюся в донской степи станцию, а кажется, будто прошел год. Так много трудностей, неприятных неожиданностей, тяжелых забот. Кажется, все до мелочей продумано и учтено, и вдруг прорыв там, где его и не ждали.
Ватутин глухо, с надрывом закашлялся. Его знобило. Никто не знал, что он вот уже третий день болен. А он не хотел, просто не мог об этом сказать. Он встал и открыл дверь в небольшую комнатку.
Вся обстановка этой комнаты состояла из длинного стола, на нем лежала широкая, примятая на углах карта местности. Тот участок фронта, которым командовал Ватутин, был нанесен на карту особенно тщательно до стыка с Воронежским фронтом у Новой Калитвы. Местами красно-синяя черта линии фронта проходила вдоль восточного берега Дона, то как бы вдаваясь в глубину расположения противника, то отходя назад.
Кроме стола в комнате стояли два старых скрипучих стула. На одном из них лежал толстый, видавший виды кожаный портфель. Вот и все, что было в крошечной боковушке этой деревенской хаты, на вид точно такой же, как и тысячи других. Стены давно не белены, окна маленькие, из обрезков стекла. Но знал бы противник, что делается в этом неприглядном на вид домике, пошел бы на любые жертвы, только бы стереть его с лица земли.
О том, что происходило в этой комнате, кроме Ватутина, члена Военного совета и начальника штаба знали считанные люди. Здесь отрабатывался план наступления фронта с севера на юг.
Ватутин прикрыл за собой дверь и подошел к столу, за которым, согнувшись, работал Иванов, теперь начальник оперативного отдела.
– Ну как? Идет работа? – спросил Ватутин, стараясь подавить в себе глухое раздражение, вызванное утомительным разговором с Рыкачевым и этой дурацкой историей с полевой почтой.
– Да не очень, товарищ командующий, – ответил Иванов.
– Так, так, – сказал Ватутин, низко склоняясь над столом. – Что же тут получается?
– Здесь все, как вы приказали, товарищ командующий. Полная расстановка сил для удара левым крылом фронта.
Работа, которую выполнял Иванов, была не только важна сама по себе, она была своеобразным экзаменом на зрелость. Иванов внимательно посмотрел на. Ватутина: доволен ли командующий? Тот стоял, бессильно опираясь на стол, и медленно вытирал платком выступившую на лбу испарину.
– Товарищ командующий, вы больны?
Ватутин, словно его поймали на чем-то нехорошем, быстро сунул платок в карман и рассердился:
– Этот вопрос не по существу, товарищ Иванов. Давайте докладывайте!..
Иванов вздохнул и расправил карту.
– Положение таково, товарищ командующий. Начальник артиллерии фронта доложил, что для осуществления вашего замысла требуется направить на левый фланг армии Коробова всю артиллерию, которая выделена нам из резерва Главного командования, и забрать артбригаду из соседней армии.
– Дальше!..
– Затем, так как тут особенно плохо с дорогами, нам придется для переброски грузов использовать автотранспорт двух соседних армий. Я предлагаю взять три автобатальона у Гапоненко.
– У Гапоненко! – усмехнулся Ватутин. – Да ведь он же взвоет! И прав будет. Как можно оставить целую армию почти без машин!
Он поднял глаза от карты и в упор взглянул на Иванова. Он прекрасно понимал, куда клонит начальник оперативного отдела. Хитер мужик! Такт ему не позволяет прямо сказать: «Товарищ командующий, в вашем замысле есть серьезные погрешности».
– Да, – произнес Ватутин задумчиво, – надо думать, товарищ Иванов, надо еще думать!..
Он тяжело опустился на стул. Неудержимо тянуло лечь. Болело горло. В висках стучало. Но он справился с недомоганием и, подперев рукой налитую болью голову, стал рассматривать пеструю вязь линий, значков, стрелок…
Он долго молчал. Молчал и Иванов, выжидая. Ватутин снова закашлялся, болезненно поморщился. Иванов теперь окончательно убедился в том, что командующий болен, и не на шутку, и про себя решил, что, как только выйдет отсюда, сразу же вызовет врача.
– Какие данные о сосредоточении войск? – спросил Ватутин, когда кашель его наконец отпустил.
– Получено донесение от командира танкового соединения Родина, он начал разгрузку танков.
– Хорошо, – сказал Ватутин и вдруг зябко повел плечами. – А не кажется ли вам, что у нас здесь холодновато? Печку бы затопить, что ли…
– Да, верно, товарищ командующий, – быстро согласился Иванов, хотя самому ему было жарко и он полчаса тому назад сказал ординарцу, что можно прекратить топить. – Я сейчас распоряжусь…
«Черт подери! Что же это я расклеился, – выругался Ватутин про себя, когда Иванов вышел. – Лучшего времени не нашел. Этакая напасть!..»
Он закрыл лицо руками и так сидел до тех пор, пока не услышал в соседней комнате шаги.
– Приказал, товарищ командующий, – сказал Иванов, входя. – Сейчас затопят. Я и чайку погорячей распорядился принести…
– Вот за это спасибо. Что я хотел сказать вам? Да, предупредите Родина, что передвигаться он должен только по ночам. Эх, метель бы сейчас! Да только солдатам пришлось бы совсем туго! Такое бездорожье, хуже, пожалуй, во всей стране не встретишь! Ну, вернемся к главному. Итак, мы нанесем сразу основной удар двумя кулаками. Одним на участке Распопинская – Клетская. Здесь ширина прорыва будет километров двенадцать. Другим – со стороны Большой – высоты «219,5». Тут также километров десять. Мы прорвемся на большую глубину. Расчленим противника расходящимися ударами и сразу же поставим его в самые невыгодные условия. Он вынужден будет драться без связи с соседями, каждая часть в одиночку. Попробуем-ка! Мне кажется, это хорошо!
– Слушаю, товарищ командующий, – сказал Иванов. – Но не прикажете ли повернуть армию, которая у нас на правом фланге, на случай контрудара с запада? Ведь наверняка, когда мы замкнем окружение, гитлеровское командование будет пытаться прорваться к Паулюсу!
Ватутин кивнул головой.
– Да, вы правы. Но одной армии нам в этом случае будет маловато. Когда окружение замкнется, нам придется значительные силы рокировать на правый фланг, вот сюда, в сторону Верхнего Мамона, с тем чтобы нанести новый удар и отбросить противника еще дальше. – Он взял карандаш. – Ну, давайте трудиться. Надо продумать все до конца. Ставка ждет нашего доклада…
За тонкой стенкой раздались чьи-то громкие голоса. Там как будто спорили. Иванов встал и быстро пошел к двери.
– Это к вам, товарищ командующий. Врач! Ольга Михайловна.
– Кто ее вызвал?
Иванов усмехнулся, но прямо на вопрос не ответил.
– Все интриги, интриги, – шутливо махнул рукой Ватутин и поднялся. – Ну ладно! Все равно мне от нее не избавиться. Иду.
Он поднялся и пошел к двери, как-то неуверенно ступая.
2
– Вот вы в моей власти!
Ватутин оглянулся. Ольга Михайловна стояла слева от него, между распахнутой дверью и окном. Он сразу ее не заметил. В туго подпоясанной гимнастерке она казалась гораздо моложе своих лет, а ей было уже за сорок. Черты ее лица нельзя было назвать правильными – узкий овал, небольшой, короткий нос, который она непроизвольно морщила, когда о чем-нибудь думала. Все дело было в глазах – темных и блестящих. Они смотрели как-то удивительно прямо, освещая лицо и делая его красивым. Глаза часто меняли свое выражение, они смотрели то беспокойно, то ласково, то сурово. Ватутину нравилась в Ольге Михайловне та, подчас резкая, прямота, которую он называл про себя мужской… И все же в этой женщине было что-то, находившееся за пределами его понимания. Когда ему сказали, что Ольга Михайловна – жена Рыкачева и у них уже двадцатилетний сын, танкист, он поразился. Как могла эта живая, умная женщина полюбить этакого самоуверенного сухаря? И невольно он перенес на нее часть той настороженности, с которой относился к Рыкачеву. Друзья в генштабе однажды намекнули ему, что Рыкачев интригует против него, но так ничего толком не сказали, а он не поинтересовался. Однако сегодня он так явно почувствовал беспокойство командарма, его тайную тревогу, тщательно скрываемую смятенность, что невольно вспомнил о предупреждении. Смутное недовольство Рыкачевым еще больше укрепилось, когда он увидел Ольгу Михайловну, державшую в руках небольшую медицинскую сумку. «Сначала муж, а потом жена, – зло подумал он. – Тут у меня прямо засилье Рыкачевых». Но, сдержанный от природы, ничем не выдал своих мыслей.
– Ну вот я в вашей власти, Ольга Михайловна, – сказал он, улыбнувшись. – Не велите казнить, велите правду говорить.
– Что с вами? – спросила она, и, посмотрев в ее напряженные, серьезные глаза, Ватутин невольно перевел взгляд на Семенчука, который тревожно ждал, что ему прикажут делать, мало ли что может понадобиться при осмотре.
– Знобит что-то! Очевидно, простудился, – сказал Ватутин. – Наверно, ничего серьезного!..
– Это уже не вам решать, Николай Федорович.
Рыкачева выразительно повернулась к Семенчуку.
– Есть! – мгновенно понял тот и вышел отдать распоряжение часовому никого не впускать в дом, а Ольга Михайловна, неторопливо раскрыв на столе сумку, вынула из нее трубку.
– Ну, больной, снимите гимнастерку…
Ватутин вздохнул и стал покорно стягивать гимнастерку.
– Повернитесь ко мне спиной, дышите…
И Ватутин почувствовал, как пониже левой лопатки тупо уперся прохладный железный раструб, и от этого по спине пробежала изморозь. «Наверное, температура», – подумал он и вдруг спросил:
– А мужа видели?
– Дышите глубже, – проговорила Ольга Михайловна. – Еще раз… еще… Теперь повернитесь… А он был здесь? Когда?
– Час тому назад, – сказал Ватутин, – был у меня…
– Хорошо… Вздохните глубоко… Еще раз… Теперь затаите дыхание… – Она долго слушала его сердце, а Ватутин, боясь передохнуть, смотрел на светлую прядь, лежащую среди ее иссиня-черных волос. Как-то он подумал, что прядь специально выкрашена, но теперь он ясно видел, что это седые волосы.
Наконец Ольга Михайловна разрешила ему одеться. Пока он натягивал гимнастерку, она что-то записывала в свою книжечку.
– Вам надо немедленно лечь, Николай Федорович, – сказала она. – У вас может начаться воспаление легких…
Ватутин рассердился:
– Может!.. А я должен ехать в армию.
– Вам никуда ехать нельзя. – Она говорила так спокойно и так независимо, что Ватутин вдруг почувствовал себя просто рядовым пациентом, с которым у врача разговоры коротки.
– Ну, Ольга Михайловна, – взмолился он, – я не могу сейчас лежать!.. У меня каждая минута на учете.
– У всех на учете, – спокойно сказала она. – Нам спорить не о чем. Вы сейчас же ляжете!
– Это надолго?
– Если сейчас – дня на три… А не послушаетесь – месяц.
– Но делами мне можно заниматься?
– Только самыми неотложными.
– Я прикажу поставить около кровати телефон.
– Ставьте…
Она забрала сумку и вышла. За дверью ее ждал Семенчук. Ватутин слышал, как они о чем-то тихо посовещались. Потом хлопнула дверь, и, взглянув в окно, он увидел, как докторша спускается с крыльца.
ГЛАВА ПЯТАЯ
До войны Марьям хотела стать летчицей. Но ей было только семнадцать лет, и в аэроклуб ее не взяли. А потом война, тяжкие дни отступления, эшелон с женщинами и детьми, который пять раз нещадно бомбили немцы, гибель отца, убитого в бою под Житомиром, маленький уральский городок, где тесно, голодно и неуютно.
Марьям с матерью поселились в крошечной комнатушке, вернее, в углу, отрезанном от жилья хозяев фанерной, не доходящей до потолка перегородкой. Мать все время болела и считала, что жить ей осталось уже немного. Она уговаривала Марьям положить ее в больницу, а самой уехать в Куйбышев, поступить в медицинский институт. Но Марьям и слышать об этом не хотела. На окраине города начал строиться танковый завод, эвакуировавшийся откуда-то из центра, и она решила пойти туда работать. Ее поставили на бетон, в девичью бригаду под начало рябого, угрюмого, демобилизованного по случаю тяжелой контузии бетонщика. Бетонщик сильно заикался, некстати мигал и тряс головой, но работал как зверь, не давая пощады ни себе, ни своим подручным. С девчатами он никогда не разговаривал, только бранился и страшно выкатывал глаза, когда что-нибудь получалось не так.
Впрочем, про Марьям он говорил, что она девчонка принципиальная, и уважал ее. Уважал за то, что она была сурова, как он, честна, упряма и ни разу не позволила себе уклониться от трудного дела.
У бетонщика Марьям училась смешивать цемент и песок. Выяснилось, что это как будто несложное дело не так-то легко дается в руки. У него есть свои тайны. Надо быть очень умелым и искусным мастером, чтобы серый и вязкий раствор стал крепок и надежен.
В эту осень и зиму Марьям почти всегда ходила в ватных штанах и стеганой куртке. Волосы она остригла коротко, почти по-мужски. Незнакомые шоферы часто принимали ее за мальчишку и кричали: «Эй, паренек! Как здесь проехать к четвертому цеху?»
Она оборачивалась, и машина вдруг начинала буксовать: шоферы почему-то никак не могли сдвинуть ее с места.
Марьям не обращала на это ни малейшего внимания. Ей и в голову не приходило, что на нее можно заглядеться. А между тем это было так. Лицо у нее было правильное, овальное, с каким-то удивительно чистым румянцем, который не мог скрыть даже слой цементной пыли. Карие глаза смотрели прямо и открыто и лишь изредка улыбались, но в этой улыбке было что-то задумчивое, простодушное и щедрое. Высокая, крепкая, она была бы отличной физкультурницей, если бы занималась спортом постоянно. Но даже и теперь, в эту трудную зиму, достав у кого-нибудь лыжи, она бегала на них по пустынным холмам, постепенно переходившим в отроги гор, видневшихся на горизонте. Были причины, по которым она считала необходимым хоть изредка тренироваться…
Марьям много работала, и постепенно руки ее привыкли к тяжелому труду. Вскоре ее сделали бригадиром. Теперь она стала старшей на бетономешалке. В подчинении у нее оказалось пять девушек и трое парней. Все комсомольцы, но по возрасту Марьям была среди них самой младшей. Ей еще не исполнилось и девятнадцати лет.
Летом Марьям хотели забрать из бригады и сделать секретарем комсомольского бюро завода. Она отказалась. «Пока не достроим завод, никуда не уйду». И вот наконец цехи были построены, танки начали сходить с конвейера. Бригада распалась сама собой. Марьям поступила на курсы и вскоре встала к токарному станку.
Но мысль – все та же, настойчивая, постоянная мысль – жила в ней… Она списалась с теткой, которая жила в Красноуфимске, и отвезла к ней мать, а сама перешла в общежитие. Теперь ей не надо было заниматься хозяйством, стоять в очереди у булочной, торопиться по вечерам домой. Она поступила, как и многие девушки, на курсы медсестер, стала посещать стрелковый кружок.
Впрочем, это не мешало ей заботиться о матери. Каждые две недели она относила на почту почти все заработанные деньги, оставляя себе только на самое необходимое. А когда завком вручил ей премию за перевыполнение плана, эта премия вся целиком – и отрез на юбку, и две рубашки, и полотенца, и хорошие конфеты – при первой же оказии была отправлена в Красноуфимск.
Девчата в общежитии говорили, что Марьям совершенно невозможно понять. Она никогда не рассказывала о своих переживаниях, и трудно было себе представить, что у нее на сердце: печаль или радость. Даже ближайшая ее подруга, Валя Кузнецова, часто становилась в тупик. «Ну и характер у тебя, Марьям, – говорила она, – железный!» И только однажды Валя застала ее плачущей. Марьям лежала в общежитии, на своей узкой койке, а рядом на полу валялось письмо – скомканный солдатский треугольник. Валя подняла его, но успела прочитать лишь последние строки и подпись. Но и этого оказалось достаточно. Так вот, значит, какое дело! Марьям любит. Она дала слово Феде Яковенко, а он теперь упрекает ее в неверности. Если бы только знал этот долговязый и глупый детина, как она тут живет! Коротка же у него память! Ведь и года еще нет, как он уехал отсюда, где на месте завода лежал пустырь, на котором по ночам посвистывали суслики. И что Марьям нашла в этом Феде: тощий, бровастый, кадык выдается чуть ли не на версту, голова маленькая, а руки длинные. И он еще смеет писать такие письма!..
– Да что, в самом деле! Есть о чем реветь! – сказала Валя, протягивая Марьям желтоватый, крупно исписанный листок, и в ту же минуту осеклась. Она увидела разъяренное, искаженное болью лицо Марьям, и все слова, которыми она хотела утешить подругу, мгновенно куда-то исчезли.
– Отдай! – Марьям вырвала письмо из ее рук и выбежала за дверь.
А через час она вернулась совершенно спокойная, и глаза у нее были такие холодные, суровые и отчужденные, что Валя до самого вечера не набралась духа заговорить с ней. А наутро было уже не до того – много дел, много разных забот и хлопот…
Шли дни, они слагались в недели и месяцы. После случая с письмом Марьям стала еще строже, и никто из парней не мог сказать, что ему удалось добиться у нее хоть какого-нибудь успеха. А добивались многие.
В октябре директора завода Антона Никаноровича Нефедьева вызвали в Москву. Когда он вернулся, работы стало еще больше. Танкисты приходили прямо в цехи, садились в машины и уезжали на железнодорожную станцию грузить танки на платформы, уже готовые к отправке.
И вдруг по заводу разнеслась неожиданная весть. Делегация рабочих повезет эшелон танков под Сталинград. Марьям оживилась. Она сразу же пошла к парторгу и сказала прямо и просто, что непременно хочет ехать. Ее включили в список без разговоров. Это право она завоевала своим трудом.
Но за два дня до отъезда ее вызвал начальник цеха. Заболели двое рабочих, ей нужно встать на конвейер. Марьям побледнела, откинула голову и так стояла несколько секунд, словно окаменев. Начальник решил, что ей дурно, бросился к шкафчику с лекарствами. Но она отвела его руку со стаканом воды и сухо усмехнулась:
– Что вы, пустяки какие! Но мне надо ехать. Я должна. И я все равно уеду, слышите?
Он взглянул ей в глаза и отступил. Такая прямая и страстная сила желания была в этих ясных, по-детски чистых глазах с голубоватыми белками… Нет, такую не сломишь. Знает, чего хочет, и умеет хотеть. Он для порядка поворчал немного, сказав, что ей следует побольше думать о матери и о работе, а на фронте вполне обойдутся и без нее. Но раз уж ей так захотелось, ладно, пусть едет. Тем более, что заслужила…
Делегатов провожали речами и музыкой. Новенькие зеленые «тридцатьчетверки» стояли на уходящих вдаль платформах. На каждом танке большими белыми буквами было написано, на чьи средства он построен. Перед отъездом Валя Кузнецова долго обнимала Марьям и плакала. «Ты не вернешься, – говорила она, – я знаю, ты останешься там».
Марьям молчала. Она смотрела через головы людей на крыши поселка, на высокое здание цеха, поблескивавшего множеством стекол в лучах холодного солнца, смотрела, словно навсегда прощалась со всем, что стало ей здесь так дорого за эти трудные годы.
– Я буду тебе писать, Валечка, – сказала она, – а когда выйдешь замуж за Васю, обязательно сообщи.
В этом ответе было ее решение.
Эшелон двигался к фронту медленнее, чем этого хотелось делегации. Директор, Антон Никанорович, с каждой станции посылал тревожные телеграммы в Москву, требовал «зеленой улицы». Но к Сталинграду двигались сотни эшелонов с артиллерией, танками, войсками. В этом огромном движении был свой порядок, и никакой «зеленой улицы» эшелону не давали. Антон Никанорович наконец смирился.
Когда эшелон достиг Куйбышева, из Государственного Комитета Обороны пришла телеграмма с уточнением участка фронта, куда должны быть направлены танки. Эшелон направлялся через Саратов на Юго-Западный фронт. Кто командует этим фронтом, Нефедьев еще не знал. Однако он огорчился. Ему хотелось, чтобы его танки пошли прямо в Сталинград. Такой наказ он получил от рабочих.
Делегация, сопровождавшая танки, была невелика – всего десять человек. В нее входили главным образом пожилые рабочие – заводские кадровики. Марьям была единственной представительницей молодежи и единственной на всю делегацию женщиной. Ее берегли и заботились о ней наперебой. Молодой майор, командовавший танкистами, которые ехали в том же эшелоне и должны были сразу же по прибытии сесть на машины, подарил ей старый, но еще вполне годный ребристый шлем. Она надела его, и майор с восторгом заявил, что теперь она совсем похожа на танкиста. Все в вагоне звали майора попросту Колей и снисходительно относились к тому, что он ухаживает за Марьям. А ей с ним было весело, хорошо и просто.
После Куйбышева началась полоса затемнения. С непривычки странно было видеть темные окна и синие лампочки на станционных платформах.
Когда эшелон миновал Саратов и повернул на юг, поезд попал под бомбежку. Это было ночью. Сначала вражеские самолеты сбросили ракеты, осветившие все вокруг мертвенно-белым светом. Потом ухнула одна бомба, за ней – другая. В соседнем купе зазвенели стекла, и в вагон ворвался холодный ветер. Часто забили зенитки, установленные в начале и в конце состава. Марьям бросилась к разбитому окну и выглянула наружу. Откуда-то из-за угла вагона в темное небо неслась огненная цепочка разноцветных огней. Это было страшно и красиво.
– Почему не остановят поезд? – испуганно сказал в темноте чей-то голос.
Кто-то сжал ее локоть.
– Ложись на пол! Убить могут!..
Но она продолжала стоять у окна. Ее – убить! Это невозможно. Она не чувствовала ни малейшего страха. Только сердце стучало часто-часто и дышать было трудно. В душе закипала обида и даже злость. Что же это? Стреляют зенитки, рвутся бомбы. А ты покорно и беспомощно жди. Нет, она так не хочет! Не согласна – и все тут! А поезд между тем то набирал скорость, то сбавлял ее, очевидно обманывая вражеских пилотов. Эх, быть бы сейчас машинистом или хоть кочегаром, который подбрасывает уголь в топку!..
Стрельба кончилась так же быстро и внезапно, как началась. Самолеты улетели. Состав продолжал громыхать. Казалось, ничто не могло его остановить.
В вагоне зажгли синий фонарь. Пострадавших как будто не было. Осколок бомбы пробил раму окна и застрял в потолке. К счастью, оказалось, что разлетелось в куски лишь одно стекло. Антон Никанорович при помощи старого слесаря вытащил из пазов вторую раму, и в вагоне опять стало тепло.
А через несколько минут в вагон принесли на руках командира танкистов – молодого майора. Он был тяжело ранен из пулемета, которым вражеский летчик обстреливал эшелон. Военный врач, пожилой полный человек, при свете карманных фонарей и «летучей мыши», расстегнул его шинель, разрезал гимнастерку. Марьям стояла рядом и видела, как у врача дрожали руки. В самом деле, было что-то удивительно нелепое в том, что этот, еще недавно полный жизни веселый человек беспомощно лежал на узкой скамейке, запрокинув голову.
– Я его перевяжу, – тихо сказала Марьям. – Я умею.
Врач склонился над майором и прижался ухом к его худой, почти мальчишеской груди. Он слушал долго-долго, потом поднялся и тяжело сел на противоположную скамейку.
Марьям все поняла и в темноте одела майора. Руки у него были еще теплые и удивительно покорные. Казалось, он просто притворяется, чтобы почувствовать ласковую заботу девушки, которая ему так нравилась…
На ближайшей станции поезд остановился, и майора похоронили недалеко от насыпи. Делегаты и танкисты тихо стояли вокруг могилы. Ветер осторожно перебирал волосы на голове лежавшего перед ними майора. Гроба не было. Тело завернули в брезент. Потом десять танкистов выстроились в ряд и дали залп из пистолетов.
Могилу зарыли, постояли еще немного и вернулись в эшелон.
Через десять минут поезд двинулся дальше. Марьям сидела у окна и не отрываясь смотрела на новую для нее, как будто одичавшую от войны землю. Рука сама собой поглаживала старый ребристый шлем, который лежал у нее на коленях.







