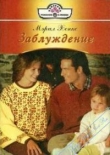Текст книги "Невеста"
Автор книги: Александр Чаковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Чем ближе Валя подходила к своему дому, тем медленнее становился ее шаг. Она замедляла его незаметно для самой себя, но, войдя в переулок, в котором жила, уже сознательно свернула в другую сторону.
Если бы кто-нибудь спросил Валю, почему она это сделала, она ответила бы, что хочет еще немного побыть одна, наедине со своими мыслями о Володе.
Но ей трудно было вернуться домой еще и по другой причине. Она не хотела сейчас думать об этом. Она просто не в состоянии была одновременно думать о Володе и о том, почему ей так трудно, почти невозможно вернуться домой…
Стемнело. Зажглись фонари дневного света – их установили совсем недавно, и жители говорили, что теперь улицы их родного города стали совсем как московские.
А Валя все шла и шла.
Ей казалось, что если она будет вот так идти и идти, то в конце концов уйдет от всего того, что по-прежнему стояло перед ее глазами, преодолеет коричневый барьер, отделяющий ее от Володи, и окажется рядом с ним, совсем рядом. И тогда все исчезнет: и судейский стол, и стулья с высокими спинками, и тюремная машина, которая, казалось ей, все еще маячила где-то впереди. И они будут вместе, вместе навсегда.
«Что-то со мной происходит неладное», – подумала она и вдруг всем своим существом ощутила, что сегодняшний день резко разделил ее жизнь на две части: то, что было раньше, и то, что наступило теперь. Та жизнь, которой она жила до сих пор, – ясная, понятная, легкая, без непреодолимого горя, без мучительной необходимости выбирать единственно верные решения, – кончилась, бесповоротно и навсегда. Для нее началась новая, трудная и тревожная жизнь. Сколько бы она ни шла, пытаясь убежать от всего того, что видела и пережила сегодня, ей все равно никуда не уйти. Вернуться в прошлое все равно невозможно.
На мгновение Вале стало жалко себя и жутко от охвативших ее смятения и тревоги. Но уже в следующую минуту она сказала себе: «Ничего! Выдержу. Все выдержу. Не бойся, Володя. Ты не один».
Она резко повернулась и направилась к своему дому.
Теперь Валя шла быстро, почти бежала, стремясь уже не отдалить, а приблизить встречу, которой боялась с того самого момента, как рассталась с Митрохиным.
Встречу с отцом.
5. Кудрявцев
Николай Константинович Кудрявцев был убежден, что смысл его жизни – забота о благе людей и он лучше их самих знает, что им на пользу и что во вред.
Это убеждение возникло в нем еще в школьные годы. Он был попеременно то секретарем комсомольской организации, то председателем учкома. Его выбирали всегда. Без любви, но подавляющим большинством голосов. Этим как бы признавалось бесспорное превосходство Коли Кудрявцева, которое состояло в том, что Коля был начисто лишен слабостей, естественных для ребят его возраста. Почти каждый из его сверстников мог не выполнить общественного поручения, опоздать с очередным номером стенной газеты, предпочесть футбол или каток комсомольскому собранию, покривить душой, чтобы выгородить провинившегося товарища. Ничто подобное не было свойственно Коле.
Он учился в годы, когда вся страна была охвачена борьбой и ее фронты проходили повсюду: в городе и в деревне, в партии и в комсомоле, в школе и в семье, в человеческих умах и сердцах.
Общественная жизнь ребят точно воспроизводила тогда общественную жизнь взрослых. Слова «классовая борьба», «оппортунизм», «хвостизм», «авангард», «уклон», «бурный рост», «лишенец», «кулак», «подкулачник», «темпы», «коллективизация», «индустриализация» раздавались на собраниях школьников не реже, чем на пленумах и съездах их отцов.
Коля Кудрявцев произносил эти слова не так, как остальные ребята. Он говорил веско, рассудительно, уверенно и благодаря этому сразу занял среди своих сверстников особое положение.
Ребята невольно уважали его за то, что ему были чужды их слабости, и он нередко брал на свои плечи чужой груз. В то же время они питали к нему безотчетную неприязнь, подобную той, которую должники питают к дающим в долг.
Отец его умер, когда мальчик учился в восьмом классе. Коля мечтал стать машиностроителем. Но теперь он решил, что после школы пойдет не в институт, а на завод, чтобы помогать матери – немолодой болезненной женщине, которая никогда нигде не работала.
Это тоже поставило Колю в особое положение без всяких, впрочем, усилий с его стороны.
Педагоги и раньше снисходительно относились к комсомольскому активисту, вынужденному пропускать уроки из-за своих общественных обязанностей. Теперь они с чистой совестью «натягивали» ему высокие отметки. А те его товарищи, которые решили поступать в вузы, чувствовали себя в присутствии Коли так, будто собирались занять место, по праву предназначенное ему.
Все это привело к тому, что Коля стал кем-то вроде бессменного школьного руководителя.
Со временем он стал считать, что принадлежит к числу людей, призванием которых является руководство другими людьми.
Но не только эта мысль постепенно формировалась в сознании Коли. Вместе с ней крепла уверенность, что он, Коля, гораздо лучше своих товарищей знает, каковы их подлинные нужды, как им следует вести себя в различных случаях жизни, чего добиваться и от чего отказываться, – короче говоря, в чем состоит их действительное благо.
Его нельзя было назвать самовлюбленным или самоуверенным, поскольку он считал, что и над ним есть люди, которые гораздо лучше его самого знают, что ему на пользу, а что во вред. Он руководит, но им тоже, разумеется, руководят. Сознавать это – значит быть скромным.
После школы он пошел все же не на завод, а в институт. Так сложились обстоятельства. Было бы противоестественным, если бы секретарь комсомольской организации, постоянный член всех школьных и городских комсомольских президиумов, почти круглый отличник, сын рабочего Николай Кудрявцев не пошел бы в высшее учебное заведение. Его уговаривали. Сулили самую высокую стипендию.
В институте все началось сначала, вернее, все шло по-прежнему. Всем своим видом, походкой, манерой разговаривать и по-особому сдержанно, почти беззвучно смеяться Николай как бы говорил окружающим: «Да, я тот самый. Кудрявцев. Который умеет вами руководить. Который все знает лучше вас».
Вместе с тем он не был высокомерным, не подчеркивал свое превосходство – в этом случае его просто отвергли бы. Нет, руководство людьми Николай рассматривал как тяжкое бремя, как своего рода крест, нести который нелегко, но необходимо. На первых же комсомольских выборах Кудрявцев единогласно прошел в факультетское бюро, а через год стал уже секретарем комсомольской организации машиностроительного института.
Был ли Кудрявцев плохим человеком? Трудно сказать.
Время, в которое он формировался, то самое неповторимое в истории время рождало бескорыстных романтиков, убежденных солдат революции, готовых по первому зову партии отдать ей себя. Участие в строительстве коммунизма заменяло этим людям все: личную жизнь, материальное благополучие, крышу над головой.
Но не только таких людей рождало то время. Сложная классовая обстановка в стране, раны, нанесенные гражданской войной и еще не зажившие до конца, капиталистическое окружение, бесконечные внутрипартийные бои – все это усиливало в людях чувство бдительности, порой переходившее в сосредоточенную, подчас болезненную подозрительность. Требования идейной чистоты, случалось, перерастали в догматизм, стремление к железной дисциплине – в жестокость и пренебрежение к нуждам людей, понятие «коллектив» прямолинейно противопоставлялось понятию «индивидуальность».
Николай Кудрявцев был одним из тех людей, что выросли на этой почве, которую история обильно насытила таинственными, никогда не применявшимися ранее удобрениями, засеяла еще никогда не дававшими всходов семенами.
Его нельзя было назвать ни карьеристом, ни жестоким человеком, ни фанатиком. Но в характере его было нечто и от карьеризма, и от жестокости, и от фанатизма. Вместе с тем он оставался человеком честным, безоговорочно дисциплинированным, всегда готовым без всяких колебаний выполнить волю партии. Он сознавал, что принадлежность к тем, кто «руководит», возлагает на него неизмеримо большую ответственность, чем та, которую несут «руководимые».
К тому времени, когда Николай Кудрявцев стал окончательно взрослым человеком, всю его жизнь и всю логику его поведения стали определять два принципа: «пользы делу» и «наименьшего зла».
«Польза делу» была высшим принципом. Перед ним отступали все остальные. Никаких сомнений в том, что представляет собой «польза делу», у Кудрявцева не было и не могло быть. Это было для него понятие, существующее объективно, вытекающее из партийных документов, ежедневных материалов прессы и всей логики повседневной государственной жизни. Кудрявцеву оставалось лишь решать, какие поступки диктует ему «польза дела» в каждом конкретном случае.
Принцип «наименьшего зла» прямо вытекал из предыдущего. Интересы будущего предпочтительнее интересов сегодняшнего дня, о благополучии одиночки думали редко, в расчет принимались только интересы коллектива.
Поскольку в то время подобных взглядов придерживался отнюдь не только один Кудрявцев, течение несло его вперед и вперед.
Окончив институт, Николай Константинович стал сменным инженером, затем главным инженером завода, а в тридцать седьмом году – начальником главка.
В военные годы он был начальником политотдела дивизии, а после войны оказался на партийной работе.
Ко времени Двадцатого съезда Кудрявцеву было уже за пятьдесят. Прошло шесть лет с тех пор, как умерла его тихая, молчаливая жена, оставив ему родившуюся во время войны шестилетнюю Валю. Мысль о второй женитьбе и в голову ему не приходила.
Двадцатый съезд застал Кудрявцева на посту секретаря Зареченского обкома партии. Все шло, казалось, хорошо, но через два года на областной партийной конференции его не выбрали в обком. Его фамилии просто не оказалось в списке. Больше всего поразило Кудрявцева то, что никто из делегатов конференции не предложил включить его кандидатуру дополнительно. Все произошло тихо, спокойно и как-то само собой. Кудрявцев вошел в зал секретарем обкома, а возвращался домой рядовым и пока что безработным коммунистом.
Всю сознательную жизнь Кудрявцев был уверен в своем праве руководить. Если его не избирали вновь на какой-нибудь пост или освобождали от занимаемой должности, то только для того, чтобы избрать на новый пост или назначить на другую должность.
Сейчас все изменилось. Его не выбрали, но никто ему ничего не предлагал.
Если бы кто-нибудь сказал Николаю Константиновичу, что любовь к дочери внезапно вспыхнула в нем главным образом из-за перемены в его общественном положении, он с недоумением пожал бы плечами. С тех пор как умерла жена, Валя осталась единственным близким ему человеком. Еще на кладбище, придерживая за плечи рвущуюся к могиле девочку, Николай Константинович дал себе слово сделать все, чтобы дочь была счастлива. Между чувством к дочери и переменой в его общественном положении, если рассуждать логически, не существовало никакой отчетливой связи.
Но эта связь все-таки была. Именно дочь, мысли о ней, заботы о ней, любовь к ней должны были заполнить пустоту, которая образовалась теперь вокруг Николая Константиновича.
Некоторое время спустя Кудрявцева вызвали в обком партии и предложили работу в совнархозе. Он с радостью согласился. Значит, о нем вспомнили. Кудрявцев увидел в этом обнадеживающий симптом.
Но – странное дело! – даже в тех случаях, когда ему удавалось убедить себя в том, что все вернется «на круги своя», он не мог избавиться от ощущения, что для него лично самое главное безвозвратно потеряно.
Нет, Кудрявцев думал не о прежних своих высоких постах. Он думал о навсегда покинувшем его ощущении своего незыблемого права на руководство людьми.
Что-то кончилось, сломалось, ушло. Все вокруг него было так, как прежде, и вместе с тем вовсе не так.
В прежние годы нередко бывало, что то или иное обещание оставалось невыполненным, тот или иной прогноз не сбывался. Обычно люди старались этого не замечать, не думать об этом даже наедине с собой.
Теперь все изменилось. О просчетах и неудачах говорили вслух. Никто никого и ничего не боялся. Кудрявцеву казалось, что теперь его окружают совсем другие, новые люди. Эти, новые, никогда не примирились бы с мыслью, что Кудрявцев лучше их самих знает, что им на пользу и что во вред.
Да и Кудрявцеву уже не хотелось руководить этими людьми. Говоря откровенно, он их побаивался. С того памятного вечера, когда он вошел в зал секретарем обкома и вышел рядовым коммунистом.
Теперь Кудрявцев считал, что в мире есть, по крайней мере, один человек, который признает его право на руководство. Это Валя, его любимая дочь.
Когда прошлой зимой Валя стала поздно возвращаться домой, Николай Константинович с большим трудом заставил себя заговорить с ней об этом. Он считал, что Валя все равно ничего ему не скажет, как, наверное, ничего не говорили родителям те девушки, за которыми он сам в молодости ухаживал.
Но, к его удивлению, дочь прямо сказала ему, что встречается с парнем по имени Володя.
Кудрявцев все «это» представлял себе иначе. Он был уверен, что узнает об «этом» случайно. Например, подойдет вечером к окну и увидит, что Валя возвращается домой не одна.
Когда дочь, ничуть не смущаясь, сказала ему о Володе, Кудрявцев растерялся и спросил первое, что пришло в голову: сколько Володе лет, где он учится или работает и кто его родители.
Ответы прозвучали по меньшей мере неутешительно. Володе уже двадцать три года, однако после окончания школы он нигде толком не учился, работает электриком, точнее, электромонтером, родителей у него нет, он сирота.
Кудрявцев пытался шутить, но Валя не приняла его шутливого тона, и он понял, что все это серьезнее, чем могло показаться с первого взгляда.
Через несколько дней Валя снова пришла домой поздно. Кудрявцев как бы невзначай спросил:
– Опять Володя?
– Да, – ответила Валя.
Она обезоруживала отца своей искренностью. Может быть, именно поэтому разговора не получалось. Кудрявцев спрашивал, Валя односложно отвечала. Вот и все.
Разумеется, Николай Константинович понимал, что Валя уже не девочка и что когда-нибудь настанет день…
Но этот день мог настать раньше, а мог и позже. Уже одно то, что именно из-за Володи он настал раньше, настраивало Кудрявцева против этого парня.
Тем не менее он предложил дочери привести Володю к ним в дом. Однако встреча с юношей убедила его, что Валя готова совершить непоправимую ошибку.
Раньше Володя был заочно несимпатичен Кудрявцеву. Теперь он уже испытывал к этому парню открытую неприязнь. Назвать Володю стилягой он не мог: парень был для этого слишком скромно одет и вообще ничем не напоминал стилягу. Но Николай Константинович нашел для него другое определение – нигилист! Конечно, нигилист! Все они ведут себя вызывающе, даже грубо. Когда Кудрявцев, не замечая, что слова его звучат с обидной снисходительностью, спросил Володю, что тот думает о своем будущем, Володя ответил, что вполне доволен настоящим. Кудрявцев усмехнулся, а Володя вспылил, заявив, что он рабочий человек и презирает лицемеров, которые поют славословия рабочему классу, а людьми считают только тех, кто носит портфели…
Кудрявцев нахмурился и ушел в другую комнату.
– Я не хочу больше видеть этого человека у нас в доме, – сказал он дочери, когда за Володей захлопнулась дверь.
В ту ночь Николай Константинович долго не мог заснуть.
«Что же делать? – без конца спрашивал он себя. – Что делать?»
С тех пор как умерла жена, у него не было ничего того, что привычно именуется «личной жизнью».
Он быстро старел. И не только физически. Каждый раз, когда в технических документах, относившихся к станкам и машинам, ему приходилось читать про «моральный износ», он внутренне усмехался. Это была горькая усмешка. Кудрявцев думал о себе.
С мыслью о том, что жизнь уже не сулит ему никаких неожиданностей, он давно примирился. У него не было никаких развлечений, никаких привязанностей. Настоящими друзьями он за всю свою жизнь так и не успел обзавестись. С людьми его связывали лишь служебные отношения.
В юности он очень любил шахматы и постоянно участвовал в студенческих турнирах. Работники учреждений, которые Кудрявцеву приходилось возглавлять, знали, что начинать разговор о каком-нибудь международном шахматном турнире значило привести начальника в хорошее расположение духа.
В последние годы Кудрявцев вновь увлекся шахматами. Но у него не было постоянных партнеров. Он попытался научить Валю, но из этого ничего не вышло.
Постепенно Николай Константинович пристрастился к решению шахматных задач, подолгу разбирал партии, печатавшиеся в газетах во время больших турниров, и даже сам пробовал сочинять шахматные этюды.
Теперь, когда Вали, как правило, вечерами не было дома, он все чаще и чаще склонялся над шахматной доской.
Но это занятие скоро опротивело Кудрявцеву. Шахматы напоминали ему, что Вали снова нет дома. Тогда Николай Константинович стал задерживаться на работе, чтобы приходить домой позже дочери.
Когда повода задержаться не было, Кудрявцев бродил по городу или допоздна сидел в сквере, наблюдая за игравшими в домино пенсионерами.
Особенно же внимательно он посматривал на юношей и девушек с гитарами или транзисторами, тех, что беспечно прогуливались по аллеям или сидели на скамейках, отрешенные от всего, что их окружало.
Кудрявцев ревниво следил за ними, словно хотел убедиться, что эти девушки сделали лучший выбор, чем его дочь.
«Если бы Валя влюбилась в хорошего, дельного юношу, – думал Кудрявцев, – что ж, я все сделал бы для счастья дочери, пусть это и обрекло бы меня на безрадостное одиночество. Но отдать Валю этому нигилисту?!»
В острой неприязни к Володе как бы соединилось все: и любовь к дочери, и жалость к самому себе, и многое другое, чего Кудрявцев не мог бы выразить словами.
Он твердо решил спасти дочь от грозившей ей опасности. К нему вернулось ощущение своего права судить, что человеку на пользу и что во вред. Этим человеком была его дочь, но она не хотела признавать за ним это право.
«Что делать, что же делать?!» – с мучительной болью повторял Кудрявцев.
После того как Володя побывал у них в доме, Кудрявцев ни разу не спрашивал, продолжает ли Валя встречаться с ним.
Разговор о Володе не возобновлялся. Этой темы просто не существовало. Конечно, Кудрявцев понимал, что они продолжают встречаться. Возвращаясь домой поздно, Валя видела, что отец страдает. Ей было мучительно сознавать, что она причиняет ему горе, но разве можно было его переубедить? Она и не пыталась снова заговорить с ним о Володе. Но сегодня!.. После всего того, что она сегодня пережила, Валя чувствовала, что больше молчать не может.
Она расскажет отцу о несчастье, которое постигло Володю, сумеет тронуть его, заинтересовать Володиной судьбой. Может быть, несмотря ни на что, уговорит его помочь Володе…
Валя открыла дверь своим ключом, но отец услышал ее шаги по коридору и вышел навстречу. Он, видимо, только что пришел с работы и еще не успел переодеться. Валя скользнула взглядом по белой сорочке и коричневым брюкам отца, – вчера вечером она гладила ему все это.
Едва взглянув на дочь, Кудрявцев спросил встревоженно:
– Что-нибудь случилось, Валюша?
Валя надеялась, что у нее хватит сил рассказать отцу все по порядку, но, увидев его заботливый взгляд, разрыдалась.
– Его осудили, – едва произнесла она сквозь слезы.
– Валюша, родная, что с тобой? Что случилось? Кого осудили?! – торопливо спрашивал Кудрявцев, обнимая дочь, но Валя не могла выдавить из себя ни слова.
Наконец она успокоилась и, стараясь говорить твердо и решительно, сказала:
– Пойдем, папа! Мне нужно с тобой поговорить.
Она вошла в свою маленькую комнату, оклеенную желтыми, цветастыми обоями, и села на кровать.
Отец сел рядом с ней.
– Папа, речь идет о Володе, – сказала Валя. – Я знаю, ты его не любишь, но сейчас речь идет о судьбе человека.
С трудом подавляя слезы, Валя рассказала о суде. Закончив свой рассказ, она долго не решалась взглянуть на отца.
Кудрявцев положил ей руку на плечо.
– Я предвидел все это, – тихо произнес он.
– Что, что ты мог предвидеть?! – удивленно воскликнула Валя. – Этот суд? Этот жестокий приговор?!
– Нет, Валюша, – медленно покачал головой Кудрявцев, – разумеется, не это. Но я был убежден, что парень плохо кончит.
– Почему?! – вскричала Валя. – Как ты можешь…
– Валя, девочка, успокойся, – прервал ее Кудрявцев. – Поговорим об этом потом… позже.
– Нет, нет! Я хочу говорить сейчас! Неужели ты не понимаешь, что ни о чем другом я не могу говорить?
– Хорошо, – мягко согласился Кудрявцев, – давай сейчас. – Он встал, сделал несколько шагов по комнате и остановился, прислонившись к косяку двери. – Видишь ли, – продолжал Кудрявцев, – все эти месяцы я молчал. Мне было тяжело молчать, Валюша. Знать, что ты встречаешься с этим… – он едва удержал уже готовое сорваться с губ резкое слово… – с этим человеком, знать и чувствовать свое бессилие – это очень, очень тяжело.
Он глубоко вздохнул. Валя молчала.
– Теперь наступила развязка, – продолжал Кудрявцев. – То, что не сумел доказать тебе я, доказал суд.
– Нет, папа, – сказала Валя, – суд ничего не доказал.
– Почему?! Следователь, судья, прокурор – все они, по твоим же словам, считают его преступником…
Валя вздрогнула, и Кудрявцев умолк, оборвав себя на полуслове.
– Никогда, – медленно произнесла Валя, – никогда не смей называть Володю преступником.
Кудрявцев подошел к Вале и снова тяжело опустился рядом с ней на кровать.
– Я понимаю, – сказал он. – Тебе неприятно и стыдно говорить о том, что случилось. Хорошо. Будем считать всю эту историю ошибкой. Так сказать, ошибкой молодости. Одной из тех, на которых учатся.
Он обнял Валю и слегка притянул к себе.
– Забудем обо всем этом, Валюша. Лучше поздно, чем никогда. Ну? Договорились?
– Нет, – тихо ответила Валя.
Кудрявцев отодвинулся и недоуменно переспросил:
– То есть как это «нет»? Что ты хочешь этим сказать?
– Приговор несправедлив. Я не могу с ним согласиться.
– Ах, вот как? – медленно произнес Кудрявцев. – Ин-те-рес-но. – Теперь он уже с трудом сдерживал раздражение. – «Не можешь согласиться»! Что же ты, скажи на милость, намерена делать?
– Не знаю, – устало ответила Валя. – Буду бороться.
Кудрявцев резко поднялся.
– Ты… сошла с ума!
Валя покачала головой.
– С Володей случилось несчастье, и я должна ему помочь. Вообще я уверена…
– В чем ты можешь быть уверена? – уже едва сдерживаясь, воскликнул Кудрявцев. – Что ты знаешь о жизни?
– Ты прав, – все тем же усталым голосом ответила Валя. – До сих пор я совсем не знала жизни. Не представляла себе, что такое может случиться.
– Перестань, – нетерпеливо взмахнул рукой Кудрявцев. – Это я во всем виноват! Простить себе не могу! Я должен был заставить тебя расстаться с этим парнем. Но я переоценил твой ум, твою способность разбираться в людях! Я виноват во всем, я, я!..
Он замолчал, задохнувшись от гнева.
Если бы дочь закричала, заплакала, стала бы защищать этого парня, Кудрявцеву было бы легче.
Но Валя сидела молча, как бы задумавшись. Его испугала ее внезапная отрешенность, явное безразличие к его словам, странная сосредоточенность. Кудрявцев вдруг почувствовал, что, по существу, Вали уже здесь нет, и чем дольше будет продолжаться этот разговор, тем дальше она будет уходить…
С новой силой он ощутил страх неотвратимо надвигающегося одиночества.
Валя поняла, о чем думает сейчас отец. Ей стало жалко его. Она встала с кровати, провела рукой по его редким, седеющим волосам и сказала:
– Не надо, папа! Ты ни в чем не должен обвинять себя. Но я ничего не могу поделать с собой. Я люблю Володю. Понимаешь, люблю! И тебя я тоже люблю.
– Валя, родная, разве обо мне речь! Но подумай о себе. Опомнись, постарайся увидеть вещи такими, каковы они на самом деле.
Кудрявцев лихорадочно подбирал слова, надеясь, что он еще сумеет переубедить дочь.
– Поверь мне, Валя, – продолжал Кудрявцев, – мне, отцу, человеку, который в три раза старше тебя! Ты придумала себе все это. Понимаешь, придумала! Я не могу желать тебе плохого. У меня ничего не осталось в жизни, кроме тебя. Настанет день, и ты уйдешь от меня. Но я хочу, чтобы ты ушла с человеком, который достоин тебя…
– Он достоин! – воскликнула Валя.
– Нет! – крикнул Кудрявцев, делая резкий жест рукой. – Я больше не хочу слышать об этом! Тебе просто жалко этого неудачника. Он сам виноват во всех своих несчастьях. Мне достаточно было поговорить с ним полчаса, чтобы увидеть его насквозь. Он озлоблен, во всем ищет плохое, не любит нашу жизнь…
– Нет! – перебила его Валя. – Он любит нашу жизнь! Но он хочет, чтобы она стала лучше, еще лучше!
– Он нигилист! – с негодованием крикнул Кудрявцев. – Скажите пожалуйста! Молокосос! Он хочет, чтобы наша жизнь стала лучше! И ты всерьез это повторяешь?
– Я верю в Володю! Верю вопреки всему, что о нем говорят!
«Все напрасно, – сказал себе Кудрявцев. – Этот разговор ни к чему не приведет. Переубедить ее невозможно. Если не пресечь все это, она наделает глупостей. Потом я никогда не прощу себе, что не проявил характера».
– Ну вот что, Валя, – твердо сказал Кудрявцев. – Я перестал бы уважать себя, если бы не позаботился о судьбе единственной дочери. Я требую, чтобы ты прекратила всякие отношения с этим человеком. Ясно? Ты должна дать мне слово…
– Нет! – твердо сказала Валя. – Пойми меня, папа! – добавила она уже спокойнее. – Я не могу. Я должна увидеть его.
– Но он же в тюрьме!
– Пусть. Я пойду к следователю и буду просить…
– Ты… моя дочь, – задыхаясь, проговорил Кудрявцев, – будешь просить свидания с этим… уголовником?
– Я должна это сделать.
– Ты сделаешь это вопреки моей воле? – спросил Кудрявцев.
– Я должна увидеть Володю. Я хочу поговорить с ним. Они обвинили его в том, что он сбил человека и не оказал ему помощи. Я должна увидеться с ним. И я добьюсь этого. Обязательно добьюсь! – твердо повторила Валя.
– Хорошо, – глухо сказал Кудрявцев. – Я сам поговорю с прокурором. Увижу его во вторник на партийном активе. Попрошу разрешить тебе свидание. Знать, что моя дочь обивает пороги милиции…
Он безнадежно махнул рукой и вышел из комнаты.
Во вторник Валя с нетерпением ждала отца, чтобы узнать, чем окончился его разговор с прокурором.
Но Кудрявцев сказал, что прокурора на активе не было и что завтра он постарается договориться с ним по телефону.
На следующий день отец, уже не ожидая вопроса дочери, сказал, что много раз звонил прокурору, но не мог застать его на работе. Еще днем позже сказал, что видел прокурора, но только мельком и они условились поговорить завтра. Но и завтра, по словам отца, разговор не состоялся, так как прокурора срочно вызвали в район. Он твердо обещал вернуться на другой день. Однако он не вернулся ни на другой день, ни через два дня…
Когда отец сказал Вале об этом, она пошла в свою комнату, села на кровать и заплакала.
Она плакала тихо, уткнувшись в подушку, чтобы отец не слышал. Потом встала, вытерла слезы. «Хватит! – сказала она себе. – Слезами делу не поможешь. Володя столько времени сидит в тюрьме, не имея от меня ни одной весточки. Наверное, он думает, что я всему поверила. Отшатнулась. Бросила его…»
Боже мой, как она могла жить все эти дни в полном бездействии!
На другой день, в девять часов утра, Валя вошла в кабинет следователя Пивоварова.