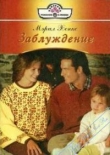Текст книги "Невеста"
Автор книги: Александр Чаковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
20. Непредвиденный вызов
Случилось так, что именно в те дни, когда Кудрявцев не находил себе места от отчаяния, от сознания своего бессилия, когда он окончательно понял, что не может воздействовать на Валю, оторвать ее от Харламова, ему неожиданно позвонил помощник секретаря обкома партии.
Он передал Кудрявцеву просьбу Комарова зайти к нему завтра в девять часов утра.
Николай Константинович с некоторым замешательством спросил, по какому вопросу вызывает его секретарь обкома и какие материалы необходимо подготовить. Помощник ответил, что ничего не знает и никаких материалов готовить не нужно.
Положив трубку, Кудрявцев долго размышлял, стараясь понять, зачем он понадобился секретарю обкома.
Разумеется, Комаров вызвал по делам совнархоза. Но почему именно его? Связь с обкомом обычно поддерживал председатель совнархоза или его заместитель. Почему же теперь Комарову понадобился именно он, Кудрявцев, скромный заместитель начальника одного из отделов?
Может быть, этот вызов предвещает перемену в его положении, неожиданный поворот его дальнейшей судьбы?
Недоверчиво усмехнувшись, Кудрявцев отбросил эту пьянящую мысль. «Кому я теперь нужен? Зачем?..» Только месяц назад председатель совнархоза как бы невзначай спросил Кудрявцева, не собирается ли он выйти на пенсию.
Николай Константинович резко ответил, что у него еще достаточно сил, но, спохватившись, тут же добавил уже совсем другим, просительным тоном: «Просто не представляю, как бы я мог жить без работы. Однако если…»
Председатель прервал его, сказав, что не имел в виду ничего определенного, просто поинтересовался на всякий случай. На этом разговор прекратился.
«Нет, – думал теперь Кудрявцев, – вызов в обком не имеет, не может иметь никакого отношения к моему будущему. Даже думать об этом наивно и смешно. Но все-таки зачем я понадобился Комарову?»
Борис Васильевич Комаров впервые был избран в обком на той самой партконференции, на которой Николай Константинович лишился своего поста. Кудрявцеву почти не приходилось сталкиваться с Комаровым. Он знал только, что Комаров раньше работал секретарем парткома крупного машиностроительного завода и что ему не больше сорока лет.
Кудрявцев хотел было рассказать о вызове своему непосредственному начальнику, чтобы тот не подумал, будто он, Кудрявцев, сам напросился к секретарю обкома. Но потом решил, что расскажет обо всем после, когда выяснит, что к чему.
Нельзя сказать, чтобы он симпатизировал новому секретарю обкома, хотя и не имел никаких поводов относиться к нему плохо. Комаров был спокоен, выдержан; поступков, которые Кудрявцев мог бы назвать, скажем, неосмотрительными, не совершал. Речи его на совещаниях, где случалось присутствовать Кудрявцеву, тоже всегда казались Николаю Константиновичу вполне разумными. Тем не менее он испытывал к Комарову подсознательное чувство неприязни. Оно определялось не просто обидой. Кудрявцев был уверен, что Комаров считает его «обломком» культа личности, сухим догматиком, неспособным к творческой деятельности. Никаких явных оснований для подобных подозрений Кудрявцев, собственно, не имел. Но он был уверен, что секретарь обкома просто не может относиться к нему иначе в силу сложившихся обстоятельств.
Комаров ни разу не проявил желания встретиться со своим предшественником. Это лишь подтверждало мысли Кудрявцева. Зачем же он понадобился ему теперь?
На следующее утро, ровно в девять, Кудрявцев вошел в кабинет секретаря обкома.
Еще по дороге в обком Кудрявцев наметил себе линию поведения. Он решил держаться скромно, но с достоинством. Ни словом, ни жестом не обнаруживать своей давней обиды.
Кудрявцев не сомневался, что уже с первых же слов Комарова поймет, зачем его сюда позвали. В минувшие годы он не раз входил в кабинеты людей, занимавших высокие посты. Бывало и раньше, что его вызывали, не объясняя цели вызова. Но интуиция и долгий опыт всегда помогали Кудрявцеву по выражению лица, по первым, казалось бы, ничего не значившим словам руководителя понять, что его ждет – разнос или похвала, какое значение может иметь предстоящий разговор для его, Кудрявцева, будущего.
Не произнося лишних слов, ни о чем не спрашивая, Кудрявцев поздоровался и молча опустился в кожаное кресло, на которое указал ему Комаров. Однако он не удержался, чтобы не окинуть быстрым взглядом эту большую комнату, в которой когда-то провел столько дней и ночей.
Здесь почти все было по-прежнему. Тот же большой письменный стол, те же телефоны – белый и рядом три черных, тот же ковер на полу. Только гардины другие, легкие, в цветах, а тогда были тяжелые, плюшевые. Может быть, поэтому казалось, что кабинет стал просторнее, шире…
– Все по-прежнему? – с улыбкой спросил Комаров.
На мгновение Кудрявцев смутился, но тут же овладел собой и сказал в тон:
– В общем, да. Только вот как-то просторнее стало. Расширяли?
– Нет, от этой перестройки пока убереглись.
– Значит, показалось, – добродушно произнес Кудрявцев.
– Николай Константинович, – уже без улыбки сказал Комаров, откидываясь на спинку кресла, – мне хочется поговорить с вами по одному важному делу…
«Сейчас… сейчас!..» – с нарастающим внутренним волнением сказал себе Кудрявцев.
– Мне бы хотелось поговорить с вами, – медленно повторил Комаров, – о движении ударников коммунистического труда.
«О чем?!» – чуть было не воскликнул Кудрявцев. Уж не ослышался ли он? Какое отношение он, Кудрявцев, имеет к ударникам коммунистического труда? Может быть, этому юнцу просто неизвестно, что он, Кудрявцев, работает теперь не в партийном аппарате и не в профсоюзах, а в совнархозе? Может быть, его спутали с кем-нибудь? А он-то, старый дурак, шел сюда, втайне надеясь, что наконец-то о нем вспомнили, что сейчас он услышит нечто такое, чего стоило ждать все эти годы!..
– Я… не совсем понимаю, – стараясь говорить сдержанно, но все-таки волнуясь, начал Кудрявцев, – какое, собственно, отношение?.. Я работаю теперь в совнархозе…
– Да, да, я знаю, – поспешно подтвердил Комаров. – Но вы ведь не всегда работали в совнархозе. Кроме того, вы руководите отделом, который…
– Я не руковожу отделом, – прервал его Кудрявцев.
– Верно, – согласился Комаров, – вы заместитель начальника отдела. Но начальник, насколько я знаю, никогда не был на партийной работе. А вы были. Следовательно, имеете опыт, и партийный и хозяйственный. Это именно то, что мне сейчас нужно…
Кудрявцев едва заметно пожал плечами. Последние слова Комарова звучали туманно, но вместе с тем обнадеживали. Он решил молчать и слушать. Комаров не заставил себя долго ждать. Словно размышляя вслух, он стал говорить о движении ударников коммунистического труда, о том, что оно создает подлинные условия для воспитания нового человека, но всякого рода «показуха», погоня за цифрами, лишь портят, развращают людей…
Кудрявцев делал вид, что внимательно слушает эти общие фразы, которые были бы уместны на каком-нибудь собрании, но странно звучали в деловом разговоре. Его недоумение все возрастало, он боялся, что не выдержит и прервет собеседника. Но в этот момент Комаров вдруг задал вопрос, который прозвучал для Кудрявцева, как выстрел в тишине:
– Может быть, вы знаете, Николай Константинович, как удалось начальнику Энергостроя Волобуеву создать столько бригад коммунистического труда у себя на стройке? И какого вообще вы мнения о Волобуеве?
Кудрявцев весь внутренне подобрался. От его недоумения не осталось и следа. Он едва удержался, чтобы не податься вперед, к Комарову, но тут же приказал себе: «Спокойно! Ситуация начинает проясняться. Но еще только начинает… Спокойно!»
Своим последним вопросом Комаров выдал себя. Общие рассуждения на морально-этические темы были, конечно же, только прологом, точнее, дымовой завесой! Волобуев – вот кто интересовал секретаря обкома! Теперь понятно, почему он не вызвал руководителей совнархоза. Комаров хотел собрать сведения о Волобуеве, не придавая этому широкой огласки. Он полагал, что Кудрявцев, работая в отделе, ведающем вопросами энергетики, чаще соприкасается с Волобуевым, чем руководители совнархоза. Кроме того, по его расчетам, самолюбию Кудрявцева должно было польстить доверие секретаря обкома. Нехитрый, но точный расчет!
Итак, речь шла о Волобуеве. Кудрявцев знал, что начальнику Энергостроя предстоит доклад на бюро обкома. Он знал также, что на Энергострое самый высокий в области процент бригад коммунистического труда. Но что же из всего этого следовало?
Кудрявцев решил не торопиться с ответом. Он чуть приподнял брови и слегка развел руками. Это могло означать все, что угодно. Но прежде всего то, что ему трудно ответить на вопрос, поставленный в столь общей форме.
«Почему он спросил меня о Волобуеве? – лихорадочно думал Кудрявцев. – Насколько я знаю, у того все в порядке. План строительства перевыполняется. Никаких конфликтов с областным руководством нет. Волобуева все считают молодым, многообещающим работником. В чем же дело?»
– Мне бы хотелось знать ваше мнение о Волобуеве, – настойчиво повторил Комаров, в упор глядя на Кудрявцева.
Теперь уже отмалчиваться было нельзя. Кудрявцев сказал, что совнархоз никаких особых претензий к Волобуеву не имеет. Что же касается бригад коммунистического труда, то в этом вопросе общественные организации гораздо более компетентны, чем совнархоз.
Ответ явно не удовлетворил Комарова. Он снова и снова стал расспрашивать о строительстве, о Волобуеве, о том, считает ли он, Кудрявцев, что звания бригад коммунистического труда присваиваются на Энергострое заслуженно. Но за спиной у Кудрявцева был опыт десятилетий, за время которых техника аппаратных взаимоотношений достигла виртуозной изощренности. Он попросту не верил ни одному слову Комарова. Ему было ясно только одно: Комарову нужны сведения, компрометирующие Волобуева, и он рассчитывает получить их именно от него, Кудрявцева.
Но почему все-таки от него? Видимо, Комаров полагал, что вышедший в тираж Кудрявцев использует даже такой ничтожный повод, чтобы напомнить о себе. Захочет, так сказать, «услужить» Комарову. Но если расчет Комарова действительно был таков, то над секретарем обкома можно только посмеяться. Между двумя ответственными работниками, судя по всему, назревает свара. Неужели же такой стреляный воробей, как Кудрявцев, по первому знаку примет сторону одного из них, не зная ни существа дела, ни расстановки сил?
Рассчитывать на это мог только очень неопытный или недалекий человек.
Может быть, Комаров смотрит глубже? Может быть, у него есть претензии к совнархозу и он хочет лично «прощупать» Кудрявцева, присмотреться к нему?
Ни одной из этих мыслей Кудрявцев, разумеется, не высказал вслух. Он вообще никогда не говорил ничего лишнего. Тем более в тех случаях, когда собеседник явно скрывал свои истинные намерения. Пусть Комаров перестанет ходить вокруг да около, пусть раскроет карты. Тогда он, Кудрявцев, и решит, как ему себя вести.
Размышляя так, Николай Константинович в то же время понимал, что неопределенные, расплывчатые ответы могут в конце концов обратиться против него самого. Портить же отношения с секретарем обкома он, естественно, не хотел ни при каких условиях.
– Борис Васильевич! – сказал он с предельной искренностью. – Вас, видимо, не удовлетворяют мои ответы. Но вопрос был поставлен в столь общей форме…
– Согласен, – охотно откликнулся Комаров. – Неясность в постановке вопроса обычно отражает неясность мысли. Или нежелание высказать ее ясно. – Он чуть сощурил глаза, потер подбородок и добавил: – Ведь можно сделать и такой вывод, да?
«Хитер», – подумал Кудрявцев, но протестующе приподнял руку.
– Что ж, – продолжал Комаров, – видимо, я должен был сразу взять быка за рога.
Он раскрыл лежавшую на столе папку и протянул ее Кудрявцеву.
– Некоторое время назад эта статья была напечатана в одной многотиражке. Пожалуйста, прочтите.
В папке лежали листки белой бумаги с наклеенными на них газетными столбцами. Над первым столбцом был заголовок: «Быть честным – всегда и во всем».
Кудрявцев начал читать. В статье речь шла о том, что члены одной из бригад коммунистического труда на Энергострое согласились взять незаконно выписанные им деньги. У бригады был простой по вине администрации. Не желая ссориться с рабочими и утруждать себя временным переводом бригады на другую работу, администрация выписала ей деньги за полный рабочий день.
«Ну и что? – подумал Кудрявцев. – Незаконное, но вполне обычное дело. Не настолько вопиющее, чтобы им занимался секретарь обкома…»
Он стал читать дальше. Автор в резких выражениях осуждал не только администрацию, но и членов бригады. Корысть, желание получить незаконные деньги оказались для них сильнее, чем взятые на себя коммунистические обязательства. Далее следовали рассуждения о том, что на Энергострое вообще гонятся за цифрами, больше заботятся о «фасаде», чем о существе дела…
«Неужели Комаров вызвал меня только из-за этой заметки? – подумал Кудрявцев. – Чепуха!»
Теперь он был окончательно убежден, что все дело в Волобуеве и его предстоящем докладе на бюро обкома. Комаров просто подбирает «ключ» к начальнику строительства. Заметка в газете – не больше чем повод. При иных обстоятельствах Комаров, разумеется, никогда не обратил бы на нее внимания. По своему собственному опыту Кудрявцев отлично знал, что сотни писем и заметок могут не привлечь к себе никакого внимания до тех пор, пока не возникнет соответствующая ситуация. А когда она возникает, любое, самое пустяковое письмо может стать поводом для далеко идущих выводов, для назначения комиссии, для немедленного выезда инструкторов – словом, для создания «дела». Усмехнувшись про себя, Кудрявцев читал уже просто из вежливости – ему все было ясно.
«…нет, коммунисту противопоказаны ложь, корысть, обман. Он должен быть честным перед партией, перед своими товарищами, перед собственной совестью…»
Вдруг словно кто-то сжал Кудрявцеву сердце. Кровь бросилась ему в лицо. В конце газетного столбца он увидел подпись: «В. Харламов».
– Возмутительно, не правда ли? – откуда-то издалека услышал он голос Комарова.
Боль, растерянность, обида – видимо, все это было написано на лице Николая Костантиновича, потому что Комаров поспешно сказал:
– Я вижу, вас взволновала эта заметка.
– Нет, нет! – бросая папку на стол, неожиданно воскликнул Кудрявцев.
– Не понимаю, – с недоумением сказал Комаров.
– Нет! – снова крикнул Кудрявцев. Усилием воли он справился с собой и сказал, уже более спокойным, но все еще прерывающимся голосом:
– Я… совсем о другом… Просто я… знаю этого человека…
– Харламова? – удивленно переспросил Комаров. – Вам приходилось с ним встречаться? Любопытно! Тогда, очевидно, вы можете подробнее рассказать о нем?
– Это… негодяй! – вырвалось у Кудрявцева.
– Вот как? – с удивлением произнес Комаров. – Странно. Может быть, вы ошибаетесь? Путаете с кем-нибудь?
– Если бы я ошибался!.. – с болью воскликнул Кудрявцев.
То, что мучило его последнее время, снова заполнило душу, заслонило все остальное.
– Этот человек – преступник, – продолжал он. – Его осудили за то, что он незаконно сел за руль, сшиб человека и не оказал ему помощи.
– Очень странно! – задумчиво повторил Комаров. – То, что вы сказали, и эта статья… разумеется, у меня нет основания сомневаться в ваших словах. Кто же этот Харламов?
– Монтер, – ответил Кудрявцев. – Взял руль у шофера. Из озорства.
– Все это печально, – сказал Комаров, – когда я читал статью Харламова, мне было очень горько еще раз убедиться, что показуха проникла даже в такое святое дело, как движение за коммунистический труд. Но в то же время было радостно сознавать, что есть люди, которые даже в ущерб своим материальным интересам восстают против очковтирательства. Оказывается, я ошибся. Послушайте, Николай Константинович, откуда у вас все эти сведения о Харламове? Вы его лично знали?
– Да.
– По работе?
– Разрешите мне не отвечать на этот вопрос, – опустив голову, сказал Кудрявцев.
– Почему? – удивленно спросил Комаров.
– Я не хочу говорить об этом человеке.
Комаров откинулся в кресле и потер виски.
– Послушайте, Николай Константинович, – заговорил он, наклоняясь вперед и облокачиваясь о стол, – признаюсь, я нахожусь в состоянии некоторой растерянности. Я пригласил вас сюда с единственной целью поговорить о положении на Энергострое. Вам известно, что Волобуеву предстоит выступить с докладом на бюро. В оставшееся время мне хотелось войти в курс дела. Пять минут назад мне казалось – простите за откровенность, – что вы вряд ли можете мне помочь. Я уже решил, что не буду вас задерживать. Но теперь возникло новое обстоятельство. Не скрою, оно меня заинтересовало. Может быть, все-таки расскажете хоть в двух словах, откуда вы знаете Харламова?
Кудрявцев поднял голову.
– Это личный вопрос, – нехотя сказал он.
– Ли-и-чный?! – удивленно переспросил Комаров и, помолчав мгновение, сказал: – Тогда извините, пожалуйста. Не буду настаивать. Не хочу быть навязчивым.
Он встал.
– Простите, Николай Константинович, за то, что побеспокоил…
Но Кудрявцев продолжал сидеть. Ему вдруг пришла в голову мысль, что если бы Комаров захотел, то мог бы помочь разрубить весь этот клубок противоречий. Вряд ли он в ближайшее время снова попадет к Комарову или заставит себя пойти к нему…
Эту мысль тут же заслонила другая. Кудрявцев подумал, что стыдно, до боли стыдно посвящать секретаря обкома в несчастье, которое на него свалилось.
Он уже решил пожать руку, которую протягивал ему Комаров, и уйти, но неожиданно для самого себя сказал:
– Если разрешите, Борис Васильевич, я хотел бы попросить вас… посоветоваться…
Ему захотелось тотчас же крикнуть: «Нет, нет! Эти слова вырвались помимо моей воли! Я ни о чем не хочу говорить! Я уйду…»
Но Комаров уже снова сел в свое кресло.
– Пожалуйста, Николай Константинович, – дружелюбно сказал он, – я буду рад, если смогу вам чем-нибудь помочь.
– Это… сугубо личное дело, – взволнованно начал Кудрявцев, – я никогда не решился бы прийти к вам по такому поводу… Но раз уж так случилось… Поверьте, мне очень трудно начать этот разговор…
21. Комаров
Комаров молча нажал кнопку звонка. Вошла девушка с блокнотом в руках.
– Писать ничего не будем. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы мы с Николаем Константиновичем полчаса побыли вдвоем. Телефон тоже пусть помолчит.
Девушка кивнула и вышла.
Несмотря на все свое волнение, Кудрявцев понял, что Комаров дает ему время успокоиться и собраться с мыслями. Вызывать секретаршу не было никакой нужды. Все равно в кабинет секретаря обкома никто не войдет до тех пор, пока оттуда не выйдет очередной посетитель.
– Слушаю вас, Николай Константинович, – тем же дружелюбным тоном произнес Комаров, пододвигая к нему раскрытую пачку «Краснопресненских».
Кудрявцев взял пачку и стал ее рассматривать.
– Вопрос, как я сказал, сугубо личный, – не глядя на Комарова, проговорил он. – Но… когда коммунист чувствует, что находится в тупике…
Комаров участливо глядел на него. Еще несколько минут назад он ругал себя за то, что вызвал Кудрявцева. До сих пор он, в сущности, избегал встреч со своим предшественником. По правде говоря, Комарову не хотелось видеть его. Не потому, что Кудрявцев был ему неприятен. И не потому, что он считал его, как полагал сам Кудрявцев, чем-то вроде «пережитка прошлого». Просто Комаров, даже став руководителем, не превратился в человека, для которого личные эмоции не играют уже никакой роли. Возможно, кто-нибудь другой на его месте вовсе не испытывал бы перед Кудрявцевым ни неловкости, ни тем более вины. Разве Комаров был виноват в том, что Кудрявцеву пришлось уйти? Но новый секретарь обкома принадлежал к тем людям, у которых логика не всегда управляла чувствами. Вызывая Кудрявцева, он испытывал некоторое смущение. Меньше всего ему хотелось, чтобы этот пожилой, проживший такую длинную жизнь человек чувствовал себя мелким чиновником на приеме у крупного начальства.
Приглашая Кудрявцева, Комаров, разумеется, собирался разговаривать с Кудрявцевым, что называется, «на равных». Более того, думал Комаров, если бы Кудрявцев, опираясь на свой долгий опыт, начал бы даже его в чем-то поучать, то их беседа могла бы быть более непринужденной. Этот человек вел и партийную и хозяйственную работу в годы, когда начиналось стахановское движение. Пятилетки, Стаханов, Изотов – все это могло стать для Кудрявцева только историей. Теперь он был в совнархозе одним из руководителей отдела, которому подчинялся Энергострой. Казалось, трудно найти человека, более сведущего во всем, что волновало сейчас Комарова. Но уже очень скоро он понял, что ошибся. Расставшись со своим руководящим постом, Кудрявцев, видимо, потерял всякий интерес к тому кругу вопросов, которые еще недавно были в центре его внимания. Комаров видел, что все попытки разбудить в Кудрявцеве интерес к бригадам коммунистического труда, к предстоящему докладу Волобуева оказались тщетными. Он оставался равнодушен, осторожничал и соблюдал дистанцию.
Но сейчас, когда уже готовый угаснуть разговор неожиданно приобрел новое направление, Кудрявцев изменился. Комаров вдруг увидел перед собой человека, способного волноваться, страдать, искать помощи…
– Мне трудно говорить об этом, – по-прежнему не глядя на Комарова, глухо сказал Кудрявцев, – боюсь, что бестактно вовлекать вас… – Он продолжал рассматривать пачку сигарет, которую все еще держал в руке. – Откровенно говоря, не знаю, как у меня вырвалось…
Комаров молчал. Просто молчал и выжидательно глядел на Кудрявцева.
– Я всегда думал, – уже более спокойно продолжал Николай Константинович, – что в состоянии сам решить все свои личные проблемы. Мне казалось, что в подобных случаях просить о помощи смешно…
– Боюсь, что вы слишком строги к людям и… к себе, – заметил Комаров.
– Если бы несколько месяцев назад я услышал, что Валя…
Кудрявцев осекся, впервые произнеся имя дочери.
– Словом, у меня есть дочь, – сказал он изменившимся голосом. – Единственная. Ей двадцать лет. Она…
Кудрявцев бросил измятую пачку сигарет на стол и умолк.
– Что же случилось с девушкой? – участливо спросил Комаров.
– Борис Васильевич, у вас есть дети?
– Двое. Сын и дочь. Школьники.
– Значит, мы можем говорить как отец с отцом. Как два уже немолодых… Впрочем, простите. Вы еще молоды. Но, может быть, вам тоже предстоит… Впрочем, не знаю. Когда Валя училась в школе, я никогда не думал, что мне придется…
Чтобы овладеть собой, Кудрявцев опять замолчал.
– Успокойтесь, Николай Константинович, – мягко сказал Комаров. – Прошу вас, расскажите мне все, что вас беспокоит.
– Спасибо! – Кудрявцев сказал это искренне, от всего сердца. Сейчас он верил, что Комаров действительно сочувствует ему и хочет помочь. Правда, он не знал, как и чем может помочь секретарь обкома. Но все равно испытывал к нему чувство благодарности. Пусть его собственная судьба уже давно предрешена. Он думал сейчас только о Вале.
– Хорошо. Я скажу вам все. – Кудрявцев снова потянулся за пачкой, вытащил сигарету, но не закурил, а зажал ее в кулаке. – Моя дочь влюбилась в преступника. Его фамилия – Харламов. Теперь вы понимаете мое состояние, когда я увидел подпись… Этот парень осужден. Получил два года исправительно-трудовой колонии. И тем не менее она…. любит его.
– Так, – спокойно кивнул Комаров и снова взялся за подбородок. – Скажите, вы и раньше были недовольны своей дочерью? – спросил он после короткой паузы.
– Никогда! – воскликнул Кудрявцев. – Конечно, родители часто переоценивают своих детей. Но Валя… Поверьте, я объективен! Она не такая, как все. У нее есть идеалы. Но сейчас речь о другом. Она попала под влияние этого Харламова…
– Вы все же знали его?
– Немного.
– Что он собой представляет?
– Могу только повторить: преступник, осужден на два года…
– А ваше личное впечатление…
– Оно не расходится с мнением суда, – поспешно сказал Кудрявцев. – Недоучка, с претензиями на собственное мнение по любому вопросу. Нигилист. На мою дочь нашло затмение. Она любит его, несмотря ни на что. Я думал, суд откроет ей глаза… Но она считает его невиновным. Всячески стремится спасти. Боюсь, как бы не наделала глупостей.
– Каких?
– Не знаю, – махнул рукой Кудрявцев. – Она в таком состоянии, что способна на все.
Он снова замолчал, а Комаров задумался. Только что Кудрявцев вызывал в нем искреннее сочувствие. Теперь он невольно спрашивал себя: почему этот человек так оскорбительно говорит о Харламове? По-видимому, он очень мало знает этого парня. Но как уверенно клеймит его позором! «Преступник», «недоучка», «нигилист»…
«Нигилист, – повторил про себя Комаров. – Не слишком ли поспешно произносим мы это слово, когда следовало бы серьезно подумать?..»
Да, только что перед ним сидел страдающий, нуждающийся в помощи человек. Отец. Но сейчас в нем стали проявляться новые черты: категоричность тона, жесткость суждений, непогрешимость выводов и оценок…
Это насторожило Комарова.
– Да, сложное дело, – задумчиво проговорил он. – Чем же вы все-таки объясняете то, что случилось? Как Валя, девушка, по вашим словам, с идеалами, могла влюбиться в такого парня? Это противоестественно…
– Конечно! – подхватил Кудрявцев. – Именно противоестественно! Это я и пытался ей доказать! Но…
Комаров глядел на него выжидательно.
– Как вам объяснить… – продолжал Кудрявцев. – Все, что я говорю Вале, только ожесточает ее. Нет, ожесточает – не то слово. Как бы укрепляет ее решимость. Раньше я был уверен, что ею руководит только чувство… Понимаете, любовь… Но теперь вижу и другое.
– Что именно?
– Борьбу за этого парня она воспринимает как некий… как это назвать… гражданский долг. Нечто вроде битвы за справедливость… Обостренное чувство справедливости. Понимаете?
– Понимаю.
– На самом же деле все гораздо проще: наивная девушка, совершенно не знающая жизни, попала под влияние разложившегося парня…
– Все-таки почему вы о нем такого мнения? Я хотел бы знать несколько подробнее… Простите, что я снова и снова возвращаюсь к этому вопросу. Мне хочется до конца понять, что это за парень…
– Но я уже говорил! Кроме того, был суд!
– Разумеется, был суд, – задумчиво повторил Комаров. – Но предположим, что Харламов не совсем такой, как думаете вы и даже как показалось суду. Или Валя не совсем такая, как вам кажется. Одно из двух. Конечно, я выбрал бы первое.
– Нет! – отчеканил Кудрявцев. – Я не допускаю ни того, ни другого.
«Почему? – подумал Комаров. – Почему ты не допускаешь? Почему ты так уверен в своей непогрешимости? Почему бы тебе не допустить, что человек, которого ты считаешь плохим, не так уж плох? Почему бы не попытаться проникнуть в его душу?..»
– Ваша дочь, по-видимому, думает иначе? – спросил он.
– Сейчас меня не интересует, что думает моя дочь!
Комаров пристально и с откровенным любопытством посмотрел на Кудрявцева.
– Но вы же сами сказали, что у нее обостренное чувство справедливости. Может быть, стоит положиться на него?
– Но это ложное, наивное чувство! – воскликнул Кудрявцев. – Оно навеяно атмосферой последних лет, всеми этими разговорами о честности, смелости… Слишком много слов! – Он с некоторой опаской взглянул на Комарова. – Впрочем, вы, вероятно, не разделяете моего отношения…
– Почему же? – усмехнулся Комаров. – Кое в чем разделяю…
– Тогда мы поймем друг друга!
– Возможно, – неопределенно сказал Комаров, – но сейчас я хотел бы уяснить, чем я могу вам помочь?
– Не знаю! – вырвалось у Кудрявцева. – Ничего не знаю… Когда-то и я сидел в этом кабинете. Ко мне также приходили люди по так называемым личным вопросам… – Он обвел комнату медленным взглядом. – Все течет, все изменяется… – добавил он с горькой усмешкой.
– Николай Константинович, – пристально глядя на Кудрявцева, спросил Комаров, – вам и теперь кажется, что это кресло обладает магическими свойствами?
– Нет, нет, зачем же так примитивно? – запротестовал Кудрявцев. – Не место красит человека, и так далее. Но все же…
– Но все же вы хотите сказать, что если бы сидели сейчас в моем кресле, а я там, где сидите вы, то смогли бы дать мне совет?
– Думаю, что да, – ответил Кудрявцев и посмотрел Комарову прямо в глаза.
– Какой? – спросил тот, не отводя взгляда.
– Все зависит от того, хотите ли вы мне помочь.
– Хочу. Очень хочу, Николай Константинович.
– Тогда… в руках секретаря обкома большие возможности.
– Какие?
Кудрявцев молчал.
– Какие? – чуть громче повторил Комаров. Видя, что Кудрявцев не отвечает, он продолжал: – Что ж, давайте подумаем вместе. Как говорится, переберем все возможные варианты. Допустим, я попытаюсь поговорить с вашей дочерью. Но вдруг она не захочет разговаривать со мной об этом? И, откровенно говоря, будет права. Когда-то в таких случаях пробовали вызывать юношу или девушку на комсомольское бюро или в райком… Но я не думаю, чтобы вы хотели этого… – Он вопросительно посмотрел ка Кудрявцева.
– В ваших руках власть… – уклончиво сказал тот.
– Власть? – удивленно переспросил Комаров. – Какую власть вы имеете в виду? И как я могу применить ее к вашей дочери?
– Речь идет не только о моей дочери.
– Понимаю! Этот парень… Но он же осужден.
– Это не исключает возможности провести с ним… воспитательную работу.
Наступило молчание.
Комаров встал и не спеша направился в дальний угол кабинета. Кудрявцев напряженно смотрел ему вслед. Комаров подошел к тумбочке, налил из графина воды в стакан, вернулся и медленно вылил воду в стоявший на подоконнике глиняный горшочек с цветком. Затем подошел к сидевшему в ожидании Кудрявцеву и, остановившись напротив него, сказал:
– Я хочу спросить вас, Николай Константинович: как они будут жить дальше?
– Кто? – недоуменно переспросил Кудрявцев и сделал движение, чтобы встать.
– Нет, нет, сидите, пожалуйста.
– Не понимаю вас, Борис Васильевич! – развел руками Кудрявцев. – Что вы имеете в виду? Ведь цель заключается в том, чтобы прервать их недопустимые отношения!
– Вам не кажется, – медленно сказал Комаров, снова усаживаясь за стол, – что души нельзя прижигать раскаленным железом?
– Зачем вы так говорите, Борис Васильевич? – дрожащим от обиды голосом начал Кудрявцев. – Вы считаете меня способным на жестокость? Впрочем, – он безнадежно махнул рукой, – что я удивляюсь, старый дурак! Сам напросился. Разумеется, именно так вы и должны думать. Вот мы сидим друг против друга. При желании в этом можно увидеть некий символ. Вы как бы олицетворяете собой новое время, а я кажусь вам обломком старого. Все, что вы думаете обо мне, подчиняется этой схеме. Раньше была одна схема, теперь другая. Вот и весь разговор. Так?
– Нет, не так! – с неожиданной горячностью воскликнул Комаров. – К черту все схемы! Как вы не понимаете! Мы… – Он оборвал себя на полуслове. – Простите, я погорячился. Но дело обстоит не так, совсем не так, как вы себе представляете! Мы с вами сейчас не два секретаря обкома – бывший и нынешний, а два человека, два отца, два коммуниста! В наших руках судьбы двух молодых людей. И вы действительно выражаете старое. Но не потому, что старше меня, и не потому, что вы теперь не секретарь обкома. А потому, что хотите навязать людям свое единоличное решение, жестокое, неумолимое! И еще хотите использовать в своих интересах то, что называете властью… Между прочим, – добавил он, успокаиваясь, – вы, Николай Константинович, напрасно считаете, что руководители всесильны. Это иллюзия. Очень опасная и дорого стоящая нам иллюзия. Нельзя руководить, пренебрегая мыслями и чувствами людей.