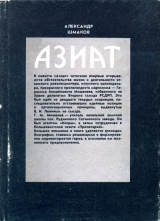
Текст книги "Азиат"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу…
Потрясенный увиденным, Мишенев возвратился в Уфу. В подпольной типографии была отпечатана гневная прокламация «Бойня в Златоусте».
Вспомнилось, как задолго до этих событий, на квартире Крохмаля шел разговор о листовках златоустовских рабочих… Златоуст, действительно, стал очагом революционного пожара, голос восставших прозвучал набатом на всю Россию.
«Теперь, когда есть опыт, важнее всего не ослаблять борьбу, а организовывать ее дальше. Неужели это понять трудно?»
В библиотеке Герасим просиживал до позднею вечера, а ужинать обычно забегал в кафе «Ландольт» – уютное и одинаково располагающее и к беззаботному отдыху, и деловым встречам. Оно находилось в университетском квартале. Говорили, что по вечерам в кафе можно встретить Плеханова. Он жил в том же доме. За час до сна заходил выпить кружку пива. Герасиму хотелось увидеть Георгия Валентиновича, и если не поговорить, то хотя бы посмотреть на него.
Здесь бывали и другие делегаты. Они группами рассаживались за длинными массивными столами на дубовых скамейках, стоящих вдоль стен, обитых светлым деревом.
В один из таких вечеров, после ужина – сосисок с кислой тушеной капустой и двух кружек пива, – Мишенева охватило благодушное состояние. Не хотелось ни о чем серьезном думать, а только сидеть и наблюдать за людьми.
И тут в дверях показался модно одетый Крохмаль, присматривающий себе удобное место.
– Виктор Николаевич! – окликнул его Мишенев.
Крохмаль подошел, протянул руку и присел рядом на тяжелый, с высокой спинкой стул. Дотронулся пальцами до выхоленных усиков и коротко подстриженной бородки, погладил их. Положив ногу на ногу и откинув голову, спросил об Уфе. Он выслушал ответ и поинтересовался Цюрупой, Свидерским, Бойковой. Потом заговорил о себе, прикрыв выпуклые глаза:
– В Киеве нам удалось с-собрать конференцию, поддерживающую созыв съезда, его задачи…
– Кажется, она не совсем удалась, – заметил Герасим.
– От-ткуда это известно? Все Грач! Что ему нужно, не понимаю? – он гневно посмотрел на Мишенева.
– Мне говорил об этом Гусев.
– Да, нас н-накрыли. Меня и многих арестовали. Но важно было по-показать свою силу, на удар ответить ударом.
Мишенев с удивлением посмотрел на него.
– Да… да. Это модная проповедь т-теперешних лидеров, зараженных диктаторством. Так г-говорит Мартов – умный и дальновидный политик. Я верю ему.
– А может быть, Мартов оступился, заблуждается? – возразил Герасим. – Ты ли это, Крохмаль?
– Да, я, – спокойно ответил Крохмаль. – Ты веришь в Ульянова – это твое дело. Я считаю – п-прав Мартов… Тут горячо спорят о партии, ее сущности. Скажи, п-почему партия должна быть кучкой избранных, а не объединять всех, к-кто сочувствует ее идеалам, несет учение Маркса в массы, остается верен р-революционному делу? Впрочем, тебе не хотелось бы встретиться с-с Мартовым?
– Нет!
– Очень жаль, – с искренним сожалением проговорил Крохмаль.
Мишенев резко встал и холодно поклонился.
Крохмаль появился в Уфе в 1898 году. Энергичный по натуре и общительный, он быстро нащупал связи с ссыльными, развернул пропаганду марксизма в нелегальных кружках среди рабочих железнодорожных мастерских. С этого началась его активная роль в уфимской социал-демократической группе. Да, все так и было! В Уфе он познакомился с Крупской, встречался с Лениным.
В Киеве Крохмаль входил в состав особой транспортной группы, занимался переправкой «Искры» через границу. Но после провала арестованный Крохмаль, не успевший уничтожить записные книжки с адресами, потянул за собой почти всех искровцев. Лишь удачно подготовленный побег, организаторами которого были Бауман и его жена, вернул им свободу.
«И все теперь позади», – с горечью подумалось Мишеневу.
В домах потухли огни, на улице мерцали редкие фонари. Был поздний час. Островерхий в густой синеве старинный город отдыхал после жаркого дня. Молчали каштаны.
Герасим не сразу отыскал домик, где жили Ульяновы. Он прошел по улице до конца и вышел на гладкое Лозаннское шоссе. Потом повернул обратно. И увидел, наконец, калитку.
На крыльцо вышла Надежда Константиновна в длинном светлом платье.
– Здравствуйте, товарищ Мишенев. Вас хотел видеть Владимир Ильич, – сказала она, сходя со ступенек. – Он задержался в городе… Заходите.
Крупская присела на деревянную скамейку под деревом и жестом указала место рядом. Кусты роз источали сладкий аромат.
Мишенев коснулся соцветий.
– Как там поживают Бойкова с Кадомцевой? – спросила Надежда Константиновна.
– Лидия Ивановна живет одна, с детьми… С головой ушла в партийные заботы.
– Я понимаю, – сказала с сочувствием Надежда Константиновна. – Семейные неурядицы приносят много страданий. Знаю ее как стойкую женщину, мужественно переносящую невзгоды…
– Бойкова у нас самая смелая конспираторша. Шпики сбились с ног, рыскали по городу, не могли обнаружить «Девочку».
– О типографии вашей мы наслышаны с Владимиром Ильичей… Ну, а как живет Инночка? Она в Златоусте?
– Нет. Кадомцева работает теперь в Уфимской железнодорожной больнице. Ведет рабочий кружок…
Надежда Константиновна вспомнила и рассказала, как однажды ошибочно был заслан чемодан с литературой в Курган. Ей пришлось попросить Кадомцеву, чтобы та съездила за посылкой. Но чемодан этот без участия Инны оказался в другом месте.
– Энергичнейшая социал-демократка. В Усть-Катаве есть еще фельдшерица-бестужевка…
– Аделаида Карловна?
– Да, да! – обрадованно подхватила Крупская. – Все там же, на своем заводе? Неутомимейший человек!
– Там, – ответил Герасим. – Она теперь Емельянова. Муж ее – тамошний учитель.
Крупская вздохнула:
– Знакомство с нею было моей большой радостью. – И тут же оборвала себя. Строго, о главном заметила: – Связи у Аделаидушки с людьми широкие, очень надежные. Пользуйтесь ими, обязательно пользуйтесь.
Из города накатывался церковный звон. Начиналась вечерняя месса. Крупская встала…
Вспомнила еще и про Наталью Александровну Плеханову.
– Встречали ее? Все так же в Миньяре врачует рабочих?
– Право, не скажу. После съезда собираюсь в те края. Путь-то у меня из Уфы будет в Миньяр, Усть-Катав, Сатку, Белорецк. Словом, махну я по заводам, Надежда Константиновна.
Он взглянул на Крупскую и встретил внимательный взгляд ее больших глаз.
– Вы так рассказываете, Герасим Михайлович, что мне снова захотелось на Урал. Край-то важный в нашем деле…
– Приезжайте, будем вам рады.
– Когда, дорогой Герасим Михайлович?
Мишенев с нежностью подумал: «Сколько душевной красоты в этой женщине!»
– А Владимира Ильича все нет… – в голосе ее послышалось беспокойство. Она грустно покачала головой. – Поговорила с вами и словно бы побывала в России. Швейцария красива, но чужая… Спасибо, Герасим Михайлович, за новости, душевное вам спасибо.
– Спасибо и вам за внимание.
Крупская протянула руку. Мишенев пожал ее, несколько раз кивнул и направился к выходу.
ГЛАВА ПЯТАЯ
И все же Мишенев решил разговорить Андрея. Он пригласил его пройтись, посмотреть город.
Они шли в сторону университета. Здесь, в каменистых громадах, размещались банки. В оконных витринах, на черном бархате, сверкали бриллианты, золото, жемчуг.
Шпили готических церквей и островерхих башенок купались в жарком солнце. Под ногами горел золотистый гравий.
Ближе к университету, в глубине, чернели узкие фасады высоких домов с черепичными крышами, отгороженные один от другого высокими плитняковыми стенами.
Они вышли на театральную площадь, направились дальше, мимо ратуши и старой католической церкви, по узеньким улицам, мощенным брусчаткой. Бросались в глаза древние гербы. На башнях отливали латунью и медью стрелки часов, на протяжении многих десятилетий отсчитывающих минуты городской жизни. В крошечных скверах журчали фонтанчики, украшенные цветами и мифологическими скульптурками. На одной тихой улочке, похожей на каменное ущелье, мемориальная доска напоминала, что здесь жил и работал французский философ Дени Дидро.
Высокое плоскогорье в древней части города главенствовало над всей Женевой. Дома с толстыми стенами, узкими и длинными, стрельчатыми окнами с решетками, массивными проржавленными воротами, покосившиеся башни с черными, зловещими впадинами бойниц, крепостные стены из поросшего мхом тесаного гранита, истертые плиты тротуаров, особенно у арок и ворот с висячими железными фонарями, – все уводило в далекое средневековье.
Андрей остановился перед тысячелетней каменной громадой собора святого Петра. Сюда не доносились ни шум трамваев, ни треск автомобилей. Все было окутано полумраком.
– Как на кладбище! Жутко! Да и в лавре нашей тоже жутко. Не бывал?
– Нет, – отозвался Герасим, – внутри не был!
– Жаль. Вот обратно будешь возвращаться, обязательно сходи.
Потеплели глаза у Андрея, по-доброму шевельнулись рыжеватые усы.
– Тогда, на границе, принял тебя за чиновного. Породу эту не терплю. – Он хлопнул себя по шее рукой: – Вот где сидят у нашего брата!
– Не все такие.
– А черт их разберет! На лбу не написано.
– Боялся, значит, меня?
– Остерегался… Скоро ли съезд-то начнется? Надоело ждать.
– Что верно, то верно, – поддержал Герасим.
Вышли на набережную, посидели на каменном парапете, посмотрели, как женевцы кормят прирученных чаек. Здесь, на открытом воздухе, за столиком кафе, Андрей и Герасим выпили по два высоких стакана гренадина. Дешево и сердито!
В озере уже начинало отражаться розоватое небо. Зажглись на набережной цветные фонарики. Где-то пели.
– У нас сенокос в разгаре, – сказал Герасим, вспомнив родную Покровку.
– А у нас сады фруктовые. Аж голова кружится от запахов, – похвастался Андрей.
…В Сешерон добрались они поздно. Поели хлеба с медом и сыром, выпили молока, приготовленного хозяйкой, и улеглись в постели, натянув на себя пледы.
Сквозь жалюзи струилась прохлада, принося с собой запахи свежей рыбы и смолы. Озеро совсем стихло. Не было слышно даже обычно усыпляющего шороха прибрежной волны. Все объяла ночная тишина. Последнее, что удержалось в сознании Герасима, – двенадцать ударов далекого соборного колокола, оповещающего Женеву о наступлении полуночи.
…Не только Мишенев – никто не знал о дне открытия съезда и где он будет проходить. Лишь догадывался Герасим Михайлович, что внезапный отъезд Гусева связан с этим волновавшим всех вопросом.
Когда стало известно, что – в Брюсселе, делегаты отправились туда маршрутами через Францию, Германию, Люксембург. Мишенев ехал маршрутом Базель – Мюльгаузен – Кельн. Железная дорога пролегала долиной Рейна.
Поезд мчался то мимо причудливых старинных замков, то вырывался к берегам, то терялся в живописных ущельях изумительного по красоте ландшафта центральной Европы.
Герасим Михайлович не отходил от окна. Облокотись на спущенную раму, он подставлял лицо освежающему потоку. Теплый сквознячок гулял по вагону, принося с долины медовые запахи.
В мучном, пустующем складе с окном, затянутым плотной материей, начал свою работу Второй очередной съезд РСДРП. Это было в четверг, 30 июля 1903 года.
Мишенев щелкнул крышкой карманных часов и отметил время: без пяти минут три.
Открыть съезд Организационный комитет поручил старейшему пропагандисту марксизма, ветерану русской социал-демократии Георгию Валентиновичу Плеханову.
– Мне хочется верить, – сказал он, – что, по крайней мере, некоторым из нас суждено еще долгое время сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми, все более и более многочисленными борцами…
Звучный голос Георгия Валентиновича чуть дрожал от волнения. Привычным движением руки Плеханов провел по густой, окладистой бородке. Выпрямился. Посмотрел в зал – и внимательный взор его вдруг зажегся страстью оратора. Слова о том, что российские социал-демократы могут смело повторить сказанное Александром Герценом: «Весело жить в такое время!», произнесены были убежденно, с гордостью – они всколыхнули всех делегатов. Эту мгновенную реакцию Плеханов ждал и сразу уловил. Он приосанился, красиво откинул голову, и голос зазвучал совсем твердо:
– Хочется жить, чтобы продолжать борьбу. В этом и заключается весь смысл нашей жизни…
Мишенев всматривался в человека, знакомого по статьям, оставлявшим заряд большой силы и ума, испытывая при этом чувство восторга и одновременно – трепета. Плеханов будто обращался к нему, молодому борцу, и он готов был ответить Георгию Валентиновичу: «Да, смысл жизни я вижу в борьбе. Прекрасное всегда трудно дается».
– Двадцать лет тому назад мы были ничто, теперь мы уже большая общественная сила, – продолжал звучать и покорять голос Плеханова. – Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, чрезвычайно много серьезной и трудной работы.
Каждое слово его казалось отточенным, плотно ложилось в законченную фразу. Георгий Валентинович чуть подался вперед. Глаза, сосредоточенно смотревшие на делегатов, выдавали внутреннее удовлетворение, какое охватило Плеханова. Его легко можно было понять: Георгий Валентинович переживал радостное ощущение новизны: партия рождалась «Искрой», а съезду предстояло закрепить ее программой и уставом.
Мишенев испытывал волнующее, приподнятое состояние: он вместе со всеми будет определять пути революции, которая должна принести людям избавление от угнетения истлевающего мира, на его обломках создать новое коммунистическое общество.
И эта, еще недавно казавшаяся неизвестной, даль будущего, теперь виделась ему близкой. «Сегодня нас еще мало, – думал он, – но завтра, послезавтра будет больше».
Плеханов покорял не только речью, мягко звучащим голосом. У него было одухотворенное, умное, очень интересное лицо, отражающее все оттенки душевного состояния. Песочного цвета жилет и белоснежная манишка, светло-серый в клеточку костюм придавали его внешности особенную строгость и притягательность.
– Но я уверен, что эта серьезная и трудная работа, – говорил он, – будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии…
Когда Плеханов закончил речь, ему дружно зааплодировали. Делегаты поднялись и запели «Интернационал». У всех счастливо сверкали глаза. Лицо Мишенева было восторженно. Он посмотрел на Владимира Ильича, которого не видел со дня последнего разговора. Ленин тоже был взволнован и так же, как все, переживал торжественный момент открытия съезда. Цель, ради которой делегаты съехались в Брюссель, – у всех одна.
За столом бюро Герасим увидел и Петра Ананьевича. После Киева они еще не встречались. Красиков выглядел строже и озабоченнее. Клеон!..
Мишенев приподнял голову, и взгляд его встретился с серьезно-прищуренными глазами Петра Ананьевича. В короткий перерыв между заседаниями, они дружески пожали друг другу руки, обменялись впечатлениями, довольные яркой речью Плеханова.
Герасим, улучив момент, когда Георгий Валентинович оказался один, осмелился подойти к «первому марксисту в России», как называли его в Уфе. Он сказал, что с Урала, лично не знаком с Натальей Александровной, но слышал самые лучшие отзывы о ней, как враче и пропагандисте марксизма. Косматые брови Плеханова удивленно приподнялись.
– Да. Приятно слышать…. – промолвил Георгий Валентинович.
Неожиданное упоминание о Наталье Александровне вернуло Плеханова в родной Липецк, где прошли его детство и юность. Перед глазами встал отцовский флигелек… Как далеко все это теперь от него – и Липецк, и Наталья Александровна!
Георгий Валентинович качнул головой.
– Да, да! – сказал он. – Всему на свете своя пора, своя череда.
…На мгновение как бы оказался в Петербурге, на Казанской площади, шестого декабря 1876 года. Тогда под Красным знаменем землевольцев он громко, размахивая руками, читал речь о том, что правительство в России очень дурно и никуда не годится, что лиц правительственных следует бить палками: они гноят в тюрьмах и ссылают на каторгу передовых людей России, таких, как Чернышевский. Наташа была рядом и слушала его.
Кто-то отчаянно крикнул: «Казаки!» Все смешалось. Поднялся гвалт. Плеханов услышал испуганный голос Наташи. Полицейские взяли ее. Десять дней она находилась в доме предварительного заключения, пока не освободили «как жену студента, попавшую на площадь зрительницей, не участвовавшей в беспорядке».
С той декабрьской демонстрации за Плехановым началась старательная слежка. Его считали главным зачинщиком. И он вынужден был скрываться под разными именами, затем покинуть Россию. Георгий Валентинович вполне понимал свою вину перед Натальей Александровной и теперь.
– Вы напомнили мне о пережитом, – сказал после некоторой паузы Георгий Валентинович. Он поправил манжеты, учтиво поклонился. Подошел Красиков, шепнул что-то неприятное. Плеханов недовольно посмотрел на Красикова, сомкнул брови:
– Хватит вам, молодой человек, шутить над стариком! Это все Засулич Титаном да Прометеем навеличивает меня. Ей по-женски простительно…
Георгий Валентинович тяжеловато повернулся и, прихрамывая, направился к выходу…
Противники Ленина старались поссорить его с Плехановым. И Герасим Михайлович уже начал понимать, почему, собственно, лидер экономистов Мартынов без конца нападает на книгу «Что делать?».
– Если это верно, если пролетариат стихийно стремится навстречу буржуазной идеологии, – разгоряченно ораторствовал тот, – если социализм вырабатывается вне пролетариата, то распространение социализма в рабочей среде должно вылиться в форму борьбы между идеологией пролетариата и его собственными стихийными стремлениями…
«Через пень-колоду», – быстро записал себе Ленин, насмешливо прищурился, переглянулся с Плехановым. Опять склонившись, убористым почерком что-то приписал, подчеркнул жирной чертой и как председатель заседания поспешил дать слово Георгию Валентиновичу, подававшему об этом знаки.
– Можно ли путать божий дар с яичницей?.. – сказал Плеханов.
В зале прокатился смешок, стихли разговоры, вызванные речью Мартынова.
– Ленин писал не трактат по философии истории, а полемическую статью против экономистов, которые говорили: мы должны ждать, к чему придет рабочий класс сам, без помощи «революционной бациллы», – разъяснил Плеханов. И сердито бросил: – Но если вы устраните «бациллу», то остается одна бессознательная масса, в которую сознание должно быть внесено извне. Если бы вы хотели быть справедливы к Ленину, – подчеркнул Георгий Валентинович, – и внимательно прочитали бы всю его книгу, то вы увидели бы, что он именно это и говорит…
Легким прикосновением к крахмальному воротничку Плеханов поправил сбившийся галстук, резко сдвинул темные брови и энергично досказал:
– Прием Мартынова напоминает мне одного цензора, который говорил: «Дайте мне «Отче наш» и позвольте вырвать оттуда одну фразу – и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить».
Раздался громкий смех, одобрительно захлопали. Владимир Ильич добродушно усмехнулся.
Плеханов все больше завоевывал симпатии Мишенева мудростью и полемичностью речей. Покорял его своим гибким умом, логикой, отточенностью фраз, их ясностью. Именно таким себе и представлял Плеханова ранее Герасим Михайлович.
Георгий Валентинович гордо откидывал красивую голову, обдавал собеседника то снисходительным, то высокомерным взглядом. Это нарочитое подчеркивание своего превосходства пугало, а иногда и отталкивало людей. И тем не менее Мишеневу продолжал нравиться Плеханов. Георгий Валентинович превосходно поддразнивал противников, шутил, старался разрядить нагнетавшуюся Мартыновым и Акимовым обстановку, когда велись споры о программе партии.
Со свойственным ему умением, Плеханов прямо-таки «высек» антиискровца Акимова, как зарвавшегося гимназиста. Он был беспощаден, и, называя такого рода людей «умниками», сражал их полной иронии фразой.
– Вообще Акимов удивил меня своей речью. У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Акимов в этом отношении похож на Наполеона – он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной…
Плеханов склонился в сторону Владимира Ильича, выжидая утвердительного ответа. Прокатился дружный смешок делегатов. Ленин, тоже смеясь, покачал головой, дескать, нет, он не собирается порывать с ним добрые отношения.
…В отель делегаты возвращались после заседаний усталыми, но радостно-возбужденными.
– Гарантия прав пролетариата. Это очень правильно! – подчеркнул Ленин плехановские слова. – Только гарантия прав, а не иначе!
Долго, очень долго еще обсуждали этот вопрос собравшиеся у подъезда отеля искровцы. Времени было достаточно. Над вывеской отеля «Золотой петух» зажгли газовый фонарь. Владимир Ильич пошутил:
– Не по этой ли вывеске, товарищ Мишенев, назвались Петуховым?
– И Муравьевым значусь, Владимир Ильич, – усмехнулся Герасим Михайлович.
– А наблюдали вы: муравьи всегда прямую дорогу ищут, зигзагов не любят, – и Ленин сделал зигзагообразный жест.
Окна кафе были раскрыты. Несколько угрюмых брюссельцев, собравшись тут, слушали романс Даргомыжского «Нас венчали не в церкви». Пел Гусев. Владимиру Ильичу всегда нравился его приятный баритон, а сегодня особенно.
Ленин стоял и рассказывал товарищам:
– Мы пели этот романс с сестрой, и мама любила нас слушать. Была у нас нянюшка Варвара Григорьевна – милейшая пензенская женщина. После наших дуэтов с сестрой она, расчувствовавшись, говорила: «Ах ты, алмазный мой», – и уводила из гостиной…
Гусев закончил романс и тут же запел: «Нелюдимо наше море». На лице Владимира Ильича проступила улыбка. У него заискрились глаза. Он прищелкнул пальцем. Повторил вполголоса за Гусевым: «Но туда выносят волны только сильного душой».
– Как это верно! – воскликнул он. И, обращаясь к делегатам, подметил: – Только сильного душой и вынесут волны в нашей борьбе. Не правда ли?
Ленин со всегдашней стремительностью махнул шляпой, пожелал «спокойной ночи» и торопливо зашагал от шумного отеля.
Улица была безлюдна. Свинцово отливала пустынная мостовая, тускло освещаемая луной, едва пробивающей серые сумерки.
Узенькие улицы Брюсселя и его площади были однообразно скучны. На всем лежали следы тумана и копоти, все было окрашено в серо-монотонный цвет, ничто не радовало глаз. Благонравные брюссельцы не так были просты и благосклонны к чужестранцам, как швейцарцы. Тут чаще, чем в Женеве, попадались патеры в черных одеяниях. «Свободную» Бельгию бдительно охраняла королевская полиция, строго и подозрительно наблюдая за приезжими. Вот и сейчас прошел полисмен в накидке и бесцеремонно с ног до головы оглядел компанию у подъезда.
Герасим Михайлович постоял еще с минуту и вошел в отель. По широкой нарядной лестнице он поднялся на второй этаж. В светлом оживленном зале, в углу, подальше от окна, увидел мрачного и задумавшегося Крохмаля.
«Откалывается, все больше находится в кругу мартовцев», – сознавать это Мишеневу было больнее всего сейчас, когда требовалось единство. Не он ли, Крохмаль, пригласил его к себе на квартиру и свел с уфимской социал-демократической группой? Теперь становится совсем чужой…
Крохмаль вяло слушал, неохотно и односложно отвечал. Он не желал открываться.
– П-плеханов выстегал Мартынова с Акимовым, как мальчишек. З-за что? Они в-высказали свою точку з-зрения. Я з-знаю, ее придерживается М-мартов и другие делегаты. П-почему же тогда в-все должны исповедовать в-взгляды Ленина? П-почему?
– Потому что они выявляют истину.
– И-истину! – с иронией усмехнулся Крохмаль. – Ее следует еще д-доказать.
– Нельзя, Виктор Николаевич, будучи ущемленным в самолюбии, менять свои принципы. Плеханов поэтому резко, но совершенно справедливо отводил никчемные нападки от Ленина.
Крохмаль махнул рукой, считая, что Мишенев говорит не по своему твердому убеждению и разумению. Он не терял надежды, что сумеет переубедить, как ему представлялось, человека, еще не совсем окрепшего в своих взглядах и воззрениях. Достаточно лишь пробудить в нем сочувствие к Мартову, нуждающемуся в человеческой поддержке. И он сказал:
– Мне жалко Юлия Осиповича. Столько лет его с-связывала дружба с Лениным, а теперь она р-рушится на наших глазах…
– И рухнет, – вскинул на Крохмаля взгляд Герасим. – Мартов не понимает или не хочет понять, что партия – прежде всего организация. И успех ей принесет только железная дисциплина, только единство.
И хотя Виктору Николаевичу явно не нравилось, каким тоном отвечал Мишенев, с прежним расположением мягко возразил:
– Ну, з-зачем же так к-категорично судить об Юлии Осиповиче? Все далеко не так просто, все много сложнее, чем кажется нам…
– Не вижу сложности в том, что ясно, – отрезал Герасим Михайлович.
Крохмаль на мгновение задумался: «Не так уж податлив этот «скороспелый искровец»… Но спокойно продолжал в нужном направлении разговор:
– Ленин з-заражен д-диктаторством и не терпит инакомыслящих. А ведь можно найти общий язык, пойти на у-уступки друг другу.
– Да нет уж! – усмехнулся Герасим Михайлович. – Лучше разрыв, чем уступки и соглашения.
– Серьезно? Зачем же так! Ленин у-уверовал в свою непогрешимость, а ведь он тоже может ошибаться.
– Разумеется. От ошибок никто не застрахован. Но одна ошибка – это ошибка. Две – тоже еще можно считать ошибкой, но цепь их – уже линия. Ленин борется за единство наших рядов.
Крохмаль долго молчал. Его, привыкшего к бравированию, совершенно сбил с толку этот без году неделя революционер.
– Устал я от всего, – откровенно признался он.
Белый фланелевый пиджак, выделявший его среди других, мешковато топорщился на спине, а глаза от бессонной ночи были воспалены, взгляд опустошен.
– Как утомительны эти б-бесплодные схватки… А я, между прочим, тюрьмой покупал для себя право высказывать с-свои убеждения, – сердито сказал Крохмаль.
– Тем обиднее видеть эти шатания, – отпарировал Герасим Михайлович.
Час был поздний. Кафе пустело.
– Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде! – устало покачал головой Крохмаль. – Эта ожесточенная б-борьба, эта агитация д-друг против д-друга, эта резкая полемика, это н-не товарищеское отношение!..
– Позвольте, позвольте, – остановил его Мишенев и невольно повторил ленинские слова: – Я думаю совсем наоборот: открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Решение принято!
Герасим Михайлович приподнялся на носках.
– Только так я понимаю наш съезд! А не то, что бесконечные, нудные разглагольствования, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а потому, что устали говорить…
Крохмаль надменно посмотрел на Герасима Михайловича и обернулся к подошедшему Гусеву.
– Не совсем так, – сказал он. – Выбили ш-шпагу из рук, обезоружили…
– Спорьте, спорьте, – включился в разговор деликатно Гусев. – В политике жертвы неизбежны!
Его поддержал Мишенев:
– Замечательные слова произнес Владимир Ильич: «Наша партия, – сказал он, – выходит из потемок на свет божий и показывает весь ход и исход внутренней партийной борьбы…»
Дюжие полисмены, вышагивающие по каменным плитам вблизи отеля «Золотой петух», остановились у раскрытого окна, и делегаты оборвали разговор. Два дня назад одного товарища они в чем-то заподозрили и вызвали в полицейское бюро опроса, затем направили дело в суд. Это грозило неприятностями – давало королевской полиции повод вникнуть в суть дела и обнаружить съезд.
Мишенев, Гусев и Крохмаль, не выказывая беспокойства, поодиночке оставили кафе.








