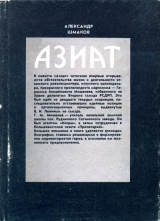
Текст книги "Азиат"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Азиат
У каждого есть перед глазами определенная цель, – такая цель, которая, по крайней мере ему самому, кажется великой и которая в действительности такова, если ее признает великой самое глубокое убеждение, проникновеннейший голос сердца…
К. МАРКС
Г. М. МИШЕНЕВ
(1876—1906)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Прежде чем пуститься в дальний путь, Мишенев оставил в губернской земской управе бумагу, что выехал в Стерлитамак, откуда заглянет в Покровку – навестит престарелых родителей. На самом деле он тайно пробирался на съезд партии. Сначала остановился в Самаре, чтобы получить явку в Киев, а там – путь лежал за границу.
Поезд в Киев прибыл ранним утром. Мишенев потолкался между пассажирами. В полотняной косоворотке с вышитым воротником, в пиджаке нараспашку, он напоминал мастерового. В шумном, набитом пестрой публикой зале третьего класса отыскал свободное место на деревянном диване, присел и внешне беззаботно откинулся на высокую спинку. Внимательно вглядывался, нет ли ока, наблюдающего за ним. Предстояло разыскать Клеона, получить последние инструкции и маршрут. Воображение рисовало этого человека почему-то очень хмурым, неразговорчивым.
Мишенев задумался. Незаметно задремал. Показалось, будто уставились на него чьи-то глаза. Встрепенулся. Осторожно осмотрелся, провел рукой по лицу, отгоняя дрему.
Чаще начали поскрипывать двери, забеспокоились пассажиры. Мишенев встал и, затерявшись в толпе, вышел на привокзальную площадь. Нетерпеливые голоса извозчиков наперебой зазывали садиться в пролетки. В стороне, постукивая широкими каблуками поблескивающих сапог, степенно вышагивал городовой, высокий, чурбанистый, с обвислыми усами на свекольно-полном лице.
Мишенев подошел к одной из пролеток, лихо вскочил в нее и нарочито громко бросил:
– На Крещатик!.. Надо же посмотреть на престольный град Киев, полюбоваться знаменитой лаврой.
Извозчик натянул вожжи – лошадь цокнула подковами о булыжник. Мишенев обернулся: кажется, «хвоста» нет, но все же следует соблюсти осторожность.
Пока пролетка катилась по улицам, он с волнением взирал на город, осматривая его достопримечательности. Киево-Печерская лавра, действительно, была величественна, походила на чудо, сотворенное человеческими руками и возведенное на высоком берегу Днепра.
Но очень скоро восторженное чувство снова вытеснила мысль о предстоящей встрече с Клеоном. Он расплатился с извозчиком, свернул в сторону и не спеша, как бы не решаясь, зашел в подъезд первой попавшейся гостиницы. Сонный швейцар оглядел раннего посетителя и сиплым голосом ответил:
– Все занято-с!
– Не укажешь ли, братец, где свободные номера?
– Не могу-с знать…
«Вроде бы хвоста нет», – убедился Мишенев, покидая гостиницу. Однако надо полностью увериться, что не зацепил шпика. Он еще долго бродил по городу, заходил в кондитерские, посидел в чайной. На улицу, засаженную каштанами, вышел, когда окончательно убедился в своей безопасности. Остановился у кирпичного домика. Кто-то с чувством исполнял на скрипке полонез Огинского.
Мишенев поднялся на крылечко и, как было условлено, постучал не в дверь, а в приоткрытое окно.
Скрипка умолкла. В дверях появился мужчина лет тридцати, невысокого роста, с пышной шевелюрой и аккуратно подстриженными усиками.
– Вы к кому? – спросил он, озорно разглядывая посетителя прищуренными глазами.
– Можно ли видеть Клеона? – назвал пароль Мишенев.
– Клеон ждет. Пройдите, – и посторонился.
То была маленькая, скромно обставленная комната. В углу стоял дешевенький гардероб, в простенке – этажерка со стопочкой книг. Взгляд Мишенева задержался на «Эйфелевой башне». Видимо, этот миниатюрный сувенир был нужен хозяину явки. На круглом столике у окна лежала скрипка.
– Значит, вы играли?
Клеон, усмехаясь, кивнул, поправил тонкими пальцами вьющиеся волосы. Мишенев присел на стул, тронул струну.
– Прекрасная скрипка!
– Итальянская! – заметил Клеон. Он шагнул к окну, окинул взглядом улицу и прикрыл створку. – Сохранилось клеймо: «Ученик Страдивариуса». Я купил ее у музыканта в Италии. Тот даже не имел футляра, смычок укладывал на деку и перевязывал лентой. Вот вмятина.
Мишенев взял скрипку. А Клеон, наблюдая за ним, продолжал говорить о музыке.
«Учитель он или оркестрант», – гадал Мишенев.
– Прекрасно исполняете Огинского.
– Вы музыкант? – поинтересовался Клеон.
– Скорее любитель.
В Мензелинске они устраивали домашние вечера, а, по существу, это были конспиративные встречи с товарищами по общему делу. Вслух читали «Капитал» Маркса. Спорили. Заядлым спорщиком был Яков Степанович Пятибратов. От него не отставали супруги Николай Николаевич и Мария Казимировна Покровские. Бывала на тех вечерах и Анюта, любившая декламировать некрасовские стихи и петь под аккомпанемент скрипки.
– Вы, конечно, знаете, что Огинский был польским дипломатом… Он перешел на сторону Костюшко, возглавившего освободительное движение против российского самодержавия. Передал ему свои и государственные деньги… командовал повстанческой частью…
– Да что вы говорите! – не смог удержаться от радостного восклицания Мишенев. – А кроме «Полонеза» он что-нибудь еще написал?
– Несколько патриотических песен и марш…
На этом Клеон оборвал рассказ об Огинском, убедился, что прибыл именно тот самый человек, которого ждал. Он представился:
– Петр Ананьевич Красиков. Недавно я совершил своего рода артистическое турне по России, знакомился с «искровскими» группами на местах.
– Герасим Михайлович, – горячо пожал ему руку Мишенев. – По паспорту я Муравьев…
– Знаю, хорошо знаю, дорогой товарищ. О вас меня известили самарцы.
Петр Ананьевич спросил, как доехал, осведомленно заговорил о работе Уфимского комитета, поинтересовался, с кем встречался в Самаре.
– С нашим уральским Марксом, – с удовольствием отозвался Герасим Михайлович, – до того лишь был наслышан о нем.
– Арцыбушев! – промолвил с необычайной теплотой и уважением Красиков. Ему ли не знать своего лучшего друга, с которым тесно сошелся в Красноярске по революционной работе десять лет назад. Арцыбушев тогда уже организовал марксистский кружок политических ссыльных и поразил их глубокими знаниями трудов Маркса. Он был близко знаком с Ванеевым и вместе с ним пропагандировал марксизм среди молодежи.
– Замечательный человек, – с гордостью сказал Красиков. – Уже успел прослыть уральским Марксом. И не удивительно! Поразительное внешнее сходство. Василий Петрович отличный знаток Маркса. Цитирует «Капитал» страницами наизусть. А в прошлом – курский помещик. Еще в эпоху вхождения в народ отдал свою землю крестьянам, а сам обрядился в зипун и пошел по деревням с пропагандой.
– Не знал.
– А надо бы знать, – рассмеялся Красиков. – Дважды ссылался в сибирские тундры. В первый раз совершил фантастический побег: прошел прямиком тысячеверстную тайгу к Великому океану. Во второй ссылке начал изучать «Капитал»…
– Просил кланяться.
– Спасибо. А теперь о самом главном…
Являясь членом Организационного комитета по созыву Второго съезда РСДРП, Красиков выполнял ответственное поручение: он переправлял через границу делегатов.
– За кордоном бывали? – спросил Красиков.
– Нет.
Петр Ананьевич объяснил Мишеневу дальнейший маршрут, посоветовал, как лучше добраться до Женевы, как вести себя за границей.
– А костюм ваш, извините, не годится, – заключил он. – Переоденемся на европейский манер.
Красиков тут же достал из гардероба приготовленную одежду и, предложив Мишеневу выбрать необходимое, вышел.
Шляпа, рубашка с тугим воротничком, узкие брюки и ботинки сразу преобразили Герасима Михайловича.
– Пришлись по росту? Ну и отлично. Теперь можно в путь-дорогу, – сказал, входя, Петр Ананьевич. Он назвал пункт переправы и повторил: – Не забудьте, к кому обратиться в Берлине.
…И вот теперь в двух-трех верстах граница. В улочке, поросшей густым подорожником, гоготали, хлопая крыльями, гуси, опьяняли травы, смешанный лес, дремучий и нетронутый, вплотную подступал к деревеньке.
Сюда Мишенев добрался без происшествий. Когда они с провожатым едва заметной тропой вышли к околице, тот, указав на крайнюю хату, запрятанную в буйной зелени разросшегося сада, попросил переговорить с хозяином и дождаться его возвращения.
Улочка была безлюдна. Мишенев догадывался, что в такую напряженную пору крестьянской жизни весь взрослый люд занят на сенокосе. Он дошел до хаты, крытой соломой, незаметно огляделся. Изнывая от жары, расстегнул тугой воротник, освободился от галстука и подумал: «Забрести бы в дремотный лес да утолить жажду черничкой! Едва ли в такой час возможен переход на ту сторону!..» Но остановился. Как было сказано провожатым, у частокола окликнул:
– Эй, хозяин!
Створку окна толкнул от себя пожилой, рябоватый мужчина в расстегнутой рубахе.
– Что угодно господину?
Мишенев махнул рукой в сторону околицы.
– Заходь…
Маленький дворик был усыпан куриным пером. Хозяин, попыхивая трубкой, оглядел Мишенева, потер затылок и, не вынимая изо рта трубки, деловито сказал:
– Пятьдесят рублей.
– А дешевле?
– Зачем торгуешься? – он строго взглянул, постучал трубкой по ногтю большого пальца, дав понять, что рядиться не намерен. – На той стороне куплю билет до Берлина и посажу в вагон… Наше дело тоже опасное, наперед не знаешь, как повезет.
И отошел. Занялся длинной телегой с высоким разваленным кузовом – рыдваном. На таких в уральских деревнях перевозят сено и снопы с полей. Хозяин снимал колеса, смазывал оси и втулки дегтем. Все это он делал сноровисто, не торопясь.
Мишенев, подняв из колодца бадейку, с жадностью припал пересохшими губами к холодной воде, отдышался и присел на сруб.
Когда собирался в дорогу, все казалось куда проще, хотя понимал, что опасно. Анюту попросил его не провожать. Она все напутствовала: «Береги себя, береги!» Заверил: вернется целым и невредимым.
С Валентином Хаустовым они прошли не по улице, мимо прижавшихся друг к другу домиков с горбатыми крышами, а тропкой, через огороды. К железнодорожным путям спустились с горы. По ним двигались и перекликались маневровые паровозы. А дальше, на Белой, протяжно басили пароходы и над ними в горячем серебрящемся воздухе парили чайки.
Герасим Михайлович сдержал шаг. Он залюбовался далью пойменных лугов, темной зеленью речных берегов. На горизонте, справа, синели далекие Уральские горы – те самые скалистые вершины, которые окружали поселок рудокопов. Там учительствовал Герасим Михайлович.
– Что отстаешь? – спросил Хаустов.
Мишенев вздохнул:
– Красота-то какая!
Поезд уже стоял у каменного здания. Курчавился парок над паровозом. Они сбежали с крутого спуска к рельсовым путям. Молча постояли.
– На станцию я не пойду. – Хаустов протянул жестковатую ладонь. – Счастливый ты, Ульянова увидишь… А за Анну Алексеевну будь спокоен.
Мишенев и токарь Хаустов подружились минувшей зимой. Валентин посещал марксистский кружок в железнодорожных мастерских. Там изучали «Манифест коммунистической партии», читали «Искру». Собирались в Дубках, в лесу, за складами братьев Нобелей.
Хаустов, как толковый и грамотный парень, пользовался уважением у кружковцев. Они знали, что Валентин встречался с Ульяновым в Уфе, расспрашивали его об этой встрече.
…Раздумья Мишенева прервал надрывный кашель хозяина. Тот сидел на рыдване и тянул давно погасшую трубку. Время шло.
– Что-то не идет… – сказал озабоченно Герасим Михайлович.
– Поспешишь – людей насмешишь, господин.
Мишенев с беспокойством поглядел на него. Невольно припомнилось, как старшие товарищи по подполью учили конспирации. То была целая наука для вступающего на путь революционера. Он усвоил ее и до сегодняшнего дня не сорвал ни одного партийного задания.
Три месяца назад в Уфе жандармы напали на след и арестовали организатора тайной типографии, где печатались листовки комитета. Типография называлась «Девочка». Она помещалась в подполье квартиры Лидии Ивановны Бойковой. Партийный комитет решил: пока в городе, наводненном филерами, зверствуют жандармы, «Девочка» будет молчать. Прокламации стали печатать на гектографе.
Так начался для них 1903 год. Перед отъездом Мишенев успел с Лидией Ивановной подготовить и отпечатать третий номер «Уфимского листка». Надо было сообщить о майском празднике в России, рассказать об убийстве эсерами губернатора Богдановича, по приказу которого были расстреляны златоустовские рабочие, и объяснить, что террор лишь отвлекает от подлинной революционной борьбы, проводимой социал-демократами.
…Герасим Михайлович кидал выжидающие взгляды то на калитку, то на телегу. Попытался было завести разговор с подремывающим в рыдване хозяином, но тот либо отмалчивался, либо, позевывая, небрежно вставлял одно, два слова, явно уклоняясь от пустой болтовни.
А день заметно уже клонился к вечеру. Стали одолевать сомнения, вкрадываться тревога. Чтобы заглушить ее, Мишенев снова сосредоточился на Уфе, Бойковой, Хаустове. На мгновение Анюта вытеснила все. Он знал: в это время дня она укладывала дочурку в кроватку, брала томик Некрасова и читала своим певучим голосом любимые стихи. Незадолго перед его отъездом Пятибратов, приятель по Мензелинску, прислал переписанную от руки «Песню о Буревестнике». Стихотворение Горького Анюта знала наизусть.
…Ожидания начали выводить из терпения Мишенева. Вздохнув, он вышел на улочку и тут, наконец, увидел провожатого. Но за ним шагали двое неизвестных.
«Кто они и зачем здесь? Не ловушка ли?» – Герасим Михайлович тихо возвратился, устремив на хозяина беспокойный взгляд. Он присел на сруб колодца, потом встал и быстро перешел в сараюшку. Провожатый открыл калитку, пропустил спутников вперед и сам уверенно зашел во дворик. Спокойно заговорил:
– Петрусь, компаньонов нашел. Надо помочь…
«Не видно, чтобы знали друг друга», – мгновенно прикинул наблюдавший за ними Мишенев.
Долговязый парень в светлой косоворотке, перехваченной витым гарусным пояском с кисточками, в темных брюках, заправленных в сапоги, был решительнее и ближе держался к провожатому.
«Этот не проходил через Клеона, иначе был бы переодет по-европейски, – решил Мишенев. – А другой, похоже что – да, уж больно смешно и непривычно держит пиджак и шляпу».
Между тем Петрусь слез с рыдвана и с той же категоричностью коротко бросил незнакомцам:
– Пятьдесят с брата!
Мишенев тогда вышел из сараюшки и шутливо обратился к компаньонам:
– Ну как, будем знакомиться или останемся инкогнито и табачок врозь?
Двое неизвестных подозрительно и недоуменно поглядели на провожатого.
– Удачи тебе, Петрусь! – пожелал тот и приветливо раскланялся с хозяином.
Петрусь хитровато подмигнул Мишеневу, вывел из сараюшки лошадь, охомутал ее и начал запрягать. Когда все было готово, распорядился:
– Полезайте-ка в рыдван! На всякий случай сенцом вас прикрою.
Охапками он таскал из сараюшки сухое душистое сено.
…Вскоре возок уже покатил за деревеньку. Под сеном было душновато да и неловко сидеть в полусогнутом положении, откинувшись на развалистые грядки.
Ехали лесом. Колеса то и дело задевали за корни деревьев, остов рыдвана протяжно попискивал. Но вдруг рыдван накренился, Петрусь остановил лошадь, быстро соскочил.
– Вылезайте скорее, – приглушенно сказал он. – Прячьтесь вон в тот лесок и ждите меня.
Едва они скрылись в кустах, как подъехал конный патруль.
– Что делаешь тут, Петрусь?
– Вздремнул малость, господин офицер, ну и угодил в канаву. Чуть не перевернулся. – Петрусь крепко выругался.
Патрульный оглядел рыдван, покачал головой и проследовал дальше.
«Пронесло», – прошептал Петрусь и обрадованно перекрестился.
Он весело прикрикнул на лошадь, вынул из-за пазухи трубку и с удовольствием закурил.
Лошадь бодро трусила лесистой дорогой. Кругом стоял молодой, горевший от яркого закатного солнца березняк. Пахло полевой мятой, черникой и еще чем-то знакомым – сладким разнотравьем, переплетеннным душистым вязелем.
Граница была позади.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Детство Герасима прошло в бедноте и крестьянской нужде. Отец его, угрюмый и молчаливый, без устали трудился, чтобы только прокормить семью в шесть ртов.
Жили Мишеневы в избе, срубленной из толстых бревен. Три окна ее выходили на улицу. Окно на кухне смотрело во двор, на амбар, где хранилось зерно, сбруя, веревки, мешки и другие мужицкие пожитки.
Русская печь делила избу на две половины. Подросшие дети ютились на полатях, спали под одним одеялом. В горнице стоял неуклюжий сундук с горбатой крышкой, ближе к печи – деревянная кровать, застеленная самотканым покрывалом. Сундук этот, как и сама изба Мишеневых, срубленная в начале прошлого века, переходили по наследству к старшим сыновьям. Когда-то к избе подступало густолесье, собственность помещика Пашкова, имевшего рядом с Покровкой Богоявленский завод.
Посевы на арендованной у заводчика земле давали столь мало хлеба, что его не хватало до нового урожая. В зимнюю пору отец занимался извозом, все концы с концами не сводил.
– Робишь, робишь, – повторял бывало отец, – воскресного дня не знаешь, а все кукиш в кармане. Хоть бы ты у меня колосом поднялся, Гераська, человеком стал…
О семье своей Мишенев помнил, что была из крепостных, из-под Москвы, что барин Пашков выменял их и поселил хуторком тут, в густолесье на Урале. Когда Герасим подрос, отец определил его в церковно-приходскую школу.
– Набирайся ума, Гераська, выходи в люди.
И Герасим старался. После окончания церковноприходской школы, пошел в двухклассное училище большого села Зирган и закончил его с похвальным листом.
– Учить дальше сына надо, Михайло, – говорил старшему Мишеневу учитель из бывших политических ссыльных. – Знаю, что трудно, но надо!
Он помог Герасиму поступить в Благовещенскую учительскую семинарию. Здесь и приобщился к запретным книгам, а позднее вошел в революционный кружок семинаристов, стал изучать нелегальную марксистскую литературу.
Жил Герасим на стипендию тяжеловато. Из дома помогали мало, изредка присылали туесок с медом, кусок сала, калачи. Всего этого не хватало. Он приходил на пристань, таскал мешки и ящики, разгружал лес и дрова. Артель грузчиков неохотно принимала новичков, но к семинаристам относилась снисходительно, давала прирабатывать на срочных погрузках, когда не справлялась сама.
Нелегко было таскать груз на «козе» – рогульках, прикрепленных к плечам широкими ремнями, обмотанными тряпьем. С непривычки болели ноги, руки, ныло тело, но крепился Герасим, старался не выказывать усталость. Артельные грузчики были дружны и сноровисты. Ему всегда хотелось быть поближе к ним, своим среди них. Он читал им стихи Некрасова, а то рассказывал о Чернышевском и его книгах.
– Красно баешь, семинаристик, – отзывался иногда хмурый старшой, – токма байками сыт не будешь…
– Живете вы, что вошь в овчине.
– Коли вошь сытно живет, так и вше позавидуешь…
– А что вы – не люди?
Герасиму хотелось, чтобы Рахметов, которым он восхищался у Чернышевского, полюбился и грузчикам. И в один из перекуров он пересказал им содержание романа «Что делать?». И был доволен тогда, что пересказанные мысли Чернышевского заставили грузчиков задуматься.
В 1894 году Герасим закончил семинарию. На торжественном выпускном вечере вместе со «Свидетельством на звание учителя начального народного училища» ему вручили похвальную характеристику. Вручал ее директор семинарии. Он напутствовал выпускников, чтобы они до конца своей жизни были верны святому делу просвещения и царскому трону.
С достоинством принял Герасим это свидетельство, тисненное золотыми буквами, почтительно поклонился залу. Он, земский стипендиат, теперь будет ждать назначения на службу Губернской земской управой.
За назначением в школу предстояло явиться в Уфу – в губернский город. К великому удивлению, все уладилось как нельзя лучше. Нужен был учитель в земскую начальную школу поселка Рудничного на Саткинском заводе. И Герасим получил назначение в поселок рудокопов.
Пожитки его были скромны: связка книг да скрипка в стареньком, ободранном футляре – ее подарил учитель из Зирган.
Земская начальная школа, куда прибыл Герасим, размещалась в низеньком одряхлевшем домике. Работала здесь Афанасия Евменьевна Кадомцева, в прошлом выпускница Уфимской дворянской гимназии. Она встретила Герасима по-матерински, помогла ему устроиться с жильем, рассказала, чем надо заниматься, познакомила с людьми.
Строгая, одетая в темное платье с белым пикейным воротничком, сколотым брошкой, Кадомцева оставила хорошее впечатление о первой встрече. Она знала многих «невольных» жителей, сосланных в Уфимскую губернию за революционные взгляды. Была знакома с «неблагонадежными» и симпатизировала им. Все это узнал и понял Герасим позднее.
– Кончали Благовещенскую семинарию? – спросила она в первый день их встречи.
– Да, – отозвался Герасим.
– Обстоятельно готовит учителей, самостоятельность в них развивает, – подчеркнула Кадомцева.
Мишенев вскинул глаза.
– Можете не говорить, каждый выбирает ношу по себе, – сказала Афанасия Евменьевна и тут же перешла на другое:
– Сколько же вам лет?
– Восемнадцать.
– Можно дать больше.
Она вздохнула.
– Я столько же лет отдала школе, сколько сейчас вам, – восемнадцать. Как бежит время… Боже мой!
Они сидели на табуретках возле классного стола, заваленного тетрадями. В небольшие окна пробивался свет туманного ноябрьского дня.
– Трудно будет, – говорила Кадомцева, – но не отчаивайтесь. К ученикам привыкнете, а рудокопы – народ, хоть и тяжелый, темный, однако отзывчивый. – И добавила: – Говорят, что Павел Васильевич Огарков, управитель наш, хлопочет о постройке новой школы.
Ободрила тогда Кадомцева молодого учителя. И потом, когда Мишенев принял от нее школьное имущество и остался один, Афанасия Евменьевна как бы присутствовала в классе, поддерживала его. Он знал, что ученики любили Кадомцеву, что, конечно же, сравнивают их. И Герасим искал пути к дружбе с ними, был убежден, что ученики в учителе должны видеть прежде всего своего умного наставника, друга.
Случалось, кто-нибудь из учеников недомогал, и он запрягал лошадь и увозил заболевшего к фельдшеру на поселок Тяжелого рудника.
В свободные часы Герасим ходил с учениками в лес, обязательно поднимались на Шихан-гору, откуда просматривались синие, причудливые горные хребты, убегающие в разные стороны. Иногда он брал скрипку. Садились в кружок, пели песни про русскую старину, про смелых людей, боровшихся за народное счастье. Эти песни он разучивал со своим учителем в Зирганской школе.
«Вниз по матушке, по Волге» или шуточную, веселую песню «За три гроша селезня наняла» начинали подтягивать и рудокопы, если оказывались поблизости. Сначала они относились к молодому учителю настороженно: «Учителишко-то совсем парнишка супротив Афанасии Евменьевны. Ему в бабки играть бы». И сам он, Мишенев, чувствовал и понимал это. Но нравилось рудокопам, что их не чуждался учитель, интересовался жизнью, часто заступался и не лебезил перед рудничным начальством, а, как ерш, делался колючим, когда заходила речь о нужде.
Всего лишь три года провел в Рудничном Герасим, но последующая его жизнь в Уфе, полная тревог и опасностей, не заслонила их. Именно в Рудничном захотелось ему помочь рудокопам – «шматам», как называли там этот бедный, задавленный непосильной работой люд. Он мог бы сказать: три года внушал им, что и для них тоже может быть совсем иная, светлая жизнь.
Жил Мишенев у Дмитрия Ивановича, потомственного рудокопа, отменного мастера, которого попросту звали – рудобой Митюха. Длинными зимними вечерами о многом разговаривали они.
– Башка-парень ты, Михалыч, – говорил ему рудобой, – сердобольный, но когда она, жизнь-то, лучшая, придет, меня на свете не будет. Не сулил бы ты журавля в небе, а дал бы синицу в руки.
И начинал рассказ о своей рудничной правде, как о тайне, полушепотом:
– Ночью-от пойди к Успенскому руднику. Не пойдешь! Жуть возьмет. Молотки стучат, мужики-лесники гогочут, свищут, и тут работают ребятишки, ревут жалобными голосами. Дети-то урок выполняют. Там, родной, запороно полтораста живых шматовских детев. На рудники-то малолетками отдавали…
Митюха говорил правду: работали дети на рудниках, до смерти пороли мальчишек за невыполнение «уроков».
– Пойди-ка ночью-от к Успенскому, с ума сойдешь… вон… синие горы – свидетели…
– Да разве можно забыть такое? И надо бередить людей, чтобы не забывали, – сказал Герасим Михайлович.
– Темны, Михалыч, темны. Учить вроде учили, но как? Дед Егорша, что привез тебя, коренной шмат, а учился одну зиму. Обучился фамилию царапать. А за лето разучился. Вместо росписи крест ставил. Знали хорошо одно: на руде выросли, на руде и помрем…
И Мишенев не раз ходил к Успенскому руднику, спускался в забой, где загублены сотни детей. Сердце сжималось от боли.
Весной 1897 года до Рудничного стали долетать добрые вести о волнениях на Златоустовском казенном заводе. Мишеневу о них рассказывал Дмитрий Иванович.
– И что же делают? – спросил его Мишенев.
– Недовольничают. Порядки у ихнего начальства прижимистые, вот и бушуют.
– А в Рудничном?
– У начальников одни законы, Михалыч, в разинутый рот пряника не положат. Голова не болит от нашей нужды.
– И болеть, Дмитрий Иванович, не будет. Сытый голодного не разумеет.
– Вот кабы всем нам, Михалыч, обрушиться на эту нужду.
– Собраться надо, потолковать.
Незаметно наступило и лето. В прошлые каникулы Мишенев выезжал в родные места, встречался с ссыльными, жившими в губернском центре. Они держались ближе друг к другу и составляли свою колонию. Все находились под гласным надзором. Однако это не мешало им вести довольно независимый образ жизни: терять-то ведь было нечего – ссыльная жизнь в одном городе ничем не отличалась от ссыльной жизни в другом. Мишенева тянуло к ним. Однако на этот раз он задержался в Рудничном. Хотелось поближе сойтись с рабочими, послушать, лучше узнать их.
По утрам глубокая и широкая рудничная яма освещалась солнцем только с одной стороны, другую окутывал мрак. Исполинской лестницей спускались уступы с верхнего края ямы. До позднего вечера во всех углах рудника раздавался стук кайл, шум отваливаемых глыб, топот лошадей, крики и брань рудовозов. В воздухе повисали густые облака пыли, дышать было нечем. Солнце накаляло камни, и в яме стояла изнурительная духота.
Даже в часы, когда рудокопы поднимались на край ямы, чтобы съесть принесенный в узелках скудный обед, рудник не смолкал. Штейгер заряжал динамитом выбуренные в твердых породах шпуры, и гулкие взрывы сотрясали землю.
Герасим подсаживался к рудокопам, заводил житейские разговоры. Спрашивал, сколько вырабатывают, каковы заработки.
– От того, что получаем, сытым не будешь, – пожаловался как-то сутулый, обутый в лапти рудокоп, по прозвищу Ворона, похлопал себя по животу, подтянул домотканые портки.
– Конторщики удержанья делают, шиш заместо заработка получаешь, – добавил другой. Он вытянул сжатую в кулак шершавую руку с набухшими венами: – А долги, как грибы после дождя, растут и растут!
Герасим чувствовал свое бессилие чем-либо помочь. А помочь надо было. Не могла же дальше продолжаться такой беспросветной, беззащитной их жизнь!
Мишенев попросил Ворону показать расчетную книжку. Тот полез за пазуху, вытащил грязную тряпку, развернул ее на коленях избитыми и огрубевшими пальцами.
– Погляди-ка, может, рупь-добавка к получке вылупится…
Герасим смотрел одну, другую, третью книжки и видел – удержания за припасы и аванс были, действительно, велики – рудокоп получал на руки рубль-полтора или совсем ничего, а долг за ним все прибавлялся и прибавлялся.
– Вот и рассуди по справедливости, Михалыч, – попросил его отвальщик Кирилыч и с горечью заключил: – Жить-то каково ноне? А без работы брюхо и вовсе затоскует… Разберись, Михалыч, что к чему, помоги…
«Разберись, Михалыч», – повторил тогда про себя Герасим, но чувствовал себя бессильным. Растерявшийся от такой вопиющей несправедливости, Герасим не знал, что ему следовало делать, с чего начать. Рудокопы после обеда спустились в яму, откуда клубилась едкая пыль, а он постоял еще немного и направился в контору. Надо было бы встретиться с Огарковым и поговорить. Павел Васильевич Огарков – инженер-изыскатель сочувственно относился к рудокопам, пользовался у них доверием. Герасим бывал дома у Огаркова, заходил за свежими газетами, брал книги из его библиотеки, хорошо подобранной из русских и европейских писателей.
А тот и сам шел ему навстречу. В фуражке с горным знаком и кокардой, с накинутой на плечи тужуркой с золочеными пуговицами, он был красив, полон сил и энергии.
– Павел Васильевич, – начал с ходу, – объясните, пожалуйста, почему такие большие удержания с рудокопов?
Огарков пожал плечами.
– Тоже удивляюсь. Доказываю управляющему, но он… – инженер только развел руками.. – Долги можно списать…
Огарков присел на крупный кварцитовый валун, каких много у подножия Шихана, и задумчиво посмотрел на плоскую южную сторону скалы, обращенную к Успенскому руднику. Она была поката, поросла, словно шерстью, мхом и мелким, редким ельником. Северная же сторона представляла голую, почти отвесную стену, изрезанную глубокими трещинами. Шихан походил на понурую человеческую фигуру.
– Есть у нас на приемке руды в пожог балансирные весы, – сказал Огарков, – показывают всегда минимальный вес, на который установлены. Да, ми-ни-мальный! В забое не могут угадать, сколько же нужно грузить в колышку-таратайку руды, чтобы она в обрез перетянула плечо весов… – Огарков выбросил вперед руку, как бы показывая плечо этих весов, – грузят колышку всегда с «походом». «Поход» обнаруживается, к сожалению, не здесь, а на заводах, где привезенная руда взвешивается с точностью до пуда. И вот, извольте знать, Герасим Михайлович, количество руды, перевезенной в заводы превышает числящуюся в пожогах процентов на десять. Каково! Выходит, на каждый миллион пудов руды в пожогах излишек выражается в сто тысяч пудов! Чтобы наработать столько руды, заводоуправление должно было бы уплатить дополнительно 1200 рублей, а фактически не платит ни копейки…
– Это же грабеж среди белого дня, – изумился Мишенев.
– Вопиющая несправедливость, Герасим Михайлович. Все ее понимают, но никто ничего не делает. А этих денег хватило бы, чтобы погасить казне рудокопские долги…
– Спасибо, Павел Васильевич, – сказал Мишенев. – Вы помогли мне многое понять глубже.
Вскоре Мишенев собрал рудокопов на Шихан-горе, чтобы поговорить с ними о делах. Не выходили из головы слова Кадомцевой о ноше, которую каждый берет по себе. Хватит ли у него силы для этой ноши? Ведь он пришел к рудокопам не с пустыми руками, а с листовкой, полученной с оказией из Златоуста. Понимал, сколь осторожно предстоит завести речь.
Листовку дал почитать Дмитрий Иванович. Рудокоп не сказал, что ее передал вернувшийся из Златоустовского завода Егорша. Он ездил туда с Огарковым по казенным делам. Наслушался там Егорша рабочих, новостей набрался, бумагу ту за пазуху спрятал. Передал ее кум из большой прокатной. «Увези-ка, – сказал, – вашим рудокопам, пусть почитают. Узнают о наших делах, может, голос подадут».










