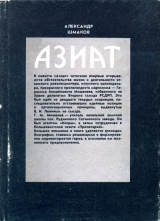
Текст книги "Азиат"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Да, еще целые гнезда! На Рудничном это крепостничество проявлялось в тяжелом труде взрослых и детей, их бедности. «Тягостно живут люди, тягостно, что говорить. Так не должно быть, так не будет больше».
Пришел Егор Васильевич. Запахнувшись в серый, дырявый халат, Герасим сидел на белой табуретке возле окна. Тень, падавшая от распустившихся тополей, скрывала осунувшееся, восковое лицо. Глаза, еще недавно оживленно блестевшие, теперь казались Барамзину угасшими, ввалившимися под густыми бровями. Герасим с усилием поздоровался. Зеленоватая тень скользнула по его сморщившемуся от боли лицу.
– Плохи мои дела, Егор Васильевич, – выдавил он. – Плохи! Чую, догорает во мне жизнь… – бледные губы его лихорадочно вздрагивали.
– Ну, что ты? – начал успокаивать его Барамзин, подавленный болезнью товарища. – Мы еще тряхнем… – он не досказал, чем и что тряхнем, боясь показаться лживым.
Мишенев скривился.
– Не успокаивай. Анюте не сказал бы, а ты… – он закашлялся, вздулась и покраснела шея. – Хотелось бы пожить, увидеть, побыть «где трудно дышится, где горе слышится, быть первым там!» Скажу тебе по секрету – прикидываю на пальцах, сколько осталось жить…
«По-разному люди смотрят на жизнь и встречают смерть, – думал Егор Васильевич, – разными бывают в такие часы, – и снова, как уже однажды, мелькнуло: – Мишенев похож на Ванеева. Он тоже остается до конца мужественным».
Герасим Михайлович понял подавленное состояние Барамзина. И, чтобы подбодрить товарища, весь как-то подтянулся.
– Чувствую, нагнал на тебя гробовую тоску, – сказал он извинительно, – все о болезни да о смерти говорю…
По лицу Мишенева скользнула жалкая улыбка.
– Смерть придет – не выгонишь, а сейчас давай о другом. Выкладывай, с чем пришел, как дышится парткомитетчикам? Взглянуть бы на вас одним глазком, и хворобу отогнало бы… Трудновато вам теперь.
Егор Васильевич был благодарен Мишеневу за чуткость, умение перебарывать себя даже вот в такие моменты. Он охотно подхватил:
– Ты прав, Герасим Михайлович, самые трудные бои – впереди.
Он пододвинул табуретку к Мишеневу, положил на его обострившиеся колени руки и, подавшись всем телом к нему, сказал:
– Мало нас сейчас, Герасим Михайлович. Не хватает и тебя. Однако май отпраздновали на славу: на всех заводах прекратили работу… С утра рабочие настроились празднично. Мы к полдню назначили митинг, как тогда с тобой, тоже в Парусиновой роще, но ее оцепили казаки. Перерешили – провести праздник на Волге. Отправились туда. Разобрали все лодки и отплыли на Зеленый остров. Когда стемнело, более двухсот лодок спустились вниз, к острову.
Герасим вспомнил такую же маевку. Они проводили ее в 1902 году в Уфе. С песнями, счастливые и радостные, переплыли не лодках Белую и отметили рабочий праздник.
Барамзин, увлеченный рассказом, будто не видел Герасима, а был там, на реке.
– Взвилась к небу ярко-красная ракета, и, как по сигналу, на лодках загорелись бенгальские огни, развевались на древках красные знамена. Люди запели «Марсельезу…»
– Молодчины! – обрадованно выдохнул Герасим.
– Да еще какие! – подхватил сразу Барамзин.
– Приволье и свобода! Лодки спустились до Никольских ворот, подплыли к берегу и стали подниматься вверх по течению и соединились возле яхт-клуба. А от дебаркадеров раздались голоса: «Да здравствует свобода! Долой произвол и насилие!» Пели песни: «Отречемся от старого мира», «Дружно, товарищи!»
– Хорошо, хорошо! – не утерпел Мишенев.
– Когда лодочная флотилия сгруппировалась возле яхт-клуба, провели митинг. Около одиннадцати часов закончился. Ты понимаешь, как это здорово получилось! А отряды полиции и казаков на том берегу остались в дураках.
– Все отличнейше продумано, – Герасим Михайлович, довольный, потер руки. – Порадовал ты меня, Егор Васильевич, истинно порадовал. Даже хворь призабылась. А «Волна» как наша? Бьет о берег крепости?
– Бьет. Только и над ней могут засверкать молнии и разразиться гроза…
Они не договаривали, прекрасно понимали друг друга. Оба тревожились за газету «Волна». И не напрасно: 14 мая 1906 года вышла в последний раз.
– Ну, спасибо тебе, Егор Васильевич, за сегодняшнюю встречу. Оттаял я, согрелся…
Глаза Герасима затуманили слезы.
– Прости… Егор Васильевич…
Барамзин обнял Герасима Михайловича, крепко потряс его худую руку. Егор Васильевич молча вышел из больничной палаты, унося в памяти прощальный взгляд Мишенева, его большие глаза, неестественно яркие, будто пламеневшие изнутри.
Герасим обессиленно прилег на скрипучую железную койку, смежил веки. Теперь он остался один и мог расслабиться. По ввалившимся щекам текли слезы зеленоватыми каплями. Тело смирилось с роковым исходом, а душа противилась – тянуло к людям. Хотелось слушать то, что говорили, чему радовались, отчего огорчались, идти вместе с ними навстречу будущему, звать к нему, полнить их жизнь добром.
Внутри все бушевало, лишь тело Мишенева не подчинялось воле. Хотелось, мучительно хотелось новых дорог, новых встреч с людьми, незнакомых городов и улиц, залитых солнцем, волнующих прощаний, вокзального шума и суеты, зовущих гудков паровозов, вьющегося черной косой дымка за окнами вагона. И рядом – Анюту с маленькими детьми.
И опять, как из тумана, наплывали видения прошлых лет. Он слышал голос Надежды Константиновны: «Ни пуха, ни пера вам, Азиат». Герасим повернулся на бок, слезы скатились со щек. К нему приблизилась Лидия Ивановна и протянула небольшой листок, испещренный ровным и четким почерком. Письмо Крупской. «Отчего Азиат не держит своего обещания писать? Почему молчит Азиат?»
Герасим приподнял голову и снова уронил ее на мокрую подушку. Закашлялся. А в висках все громче стучало: «Почему… почему молчит Азиат, не держит обещания?» С усилием он открыл глаза, но палату обволокла ночь. Все затмилось…
«Что сделаешь, Азиат, если подрезаны крылья и теперь уже не будет взлета, парения, ощущения живого и стремительного движения вперед?»
Герасим сознавал, что гасли в нем жизненные силы, и не страшился надвигающейся смерти. Его и в эти последние минуты жизни угнетало не приближение ее конца, а то, что слишком мало успел сделать. Вокруг оставалось так много неустроенного, незавершенного: большая мечта Азиата обрывалась где-то даже не на полпути, а в самом начале настоящей жизни. Он всегда верил, верит и теперь, что его товарищи донесут знамя до победного и светлого дня.
ЭПИЛОГ
У часовенки Анюта увидела женщину с букетом жарков. Темно-серое платье старого покроя плотно облегало ее еще стройную фигуру, должно быть, в молодости очень красивую. Из-под черных кружев чепца с темными лентами выбивались седые пряди. На согнутой руке держался тоже черный сатиновый мешочек с вышитыми белыми ландышами, заменявший ей сумочку.
Это была вдова Чернышевского – Ольга Сократовна. На ее привлекательном и умном лице лежала очень давняя, трудно ею переносимая грусть. Одухотворенный взгляд печальных глаз подчеркивал натуру духовно богатую, преданную.
Надгробие Николая Гавриловича среди множества белого, черного, серого мрамора памятников, увенчанных ангелами и крестами, резко выделялось.
Из металла и цветного стекла, часовенка вся горела огоньками на летнем, полуденном солнце. В ней находилось много венков. Ольга Сократовна продала почти всю обстановку квартиры, чтобы набрать денег и заказать часовенку в Москве. Оттуда ее привезли в разобранном виде.
Чернышевская переложила букет жарков в левую руку, достала из мешочка ключик, отомкнула дверцу и постояла у входа. Потом поставила огненные цветы в чашу среди венков.
Анюта подошла к могиле Чернышевского, отделила горстку незабудок и тихо произнесла:
– Разрешите и мне положить цветы, – и протянула незабудки повернувшейся к ней Ольге Сократовне.
– Спасибо, дорогая, – ласково ответила Чернышевская. Она поспешно наклонилась, взяла несколько жарков из чаши и передала их незнакомой, молодой женщине…
Вокруг была тишина. Солнце заливало лучами землю. Оно горело на мраморных памятниках, оградках и крестах. Над вечным покоем струилась песня жаворонка, утверждающая любовь, которая несет человеку радость.
Анюта шла и ничего не замечала – ни солнечного блеска, ни теней, падающих от памятников, оградок и крестов. До нее не доходила и песня жаворонка. Она думала сейчас о встрече с Ольгой Сократовной – верным другом любимого ею писателя, который помог понять жизнь, испытать счастье борьбы, а теперь, быть может, еще острее ощутить щемящую боль потери.
Вспомнилось изречение Чернышевского: «Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться».
Совсем недавно Анюта перечитала роман «Что делать?», купленный и подаренный ей Герасимом в самые радостные для них дни революционной весны 1905 года. Почти пятидесятилетний запрет наконец-то был снят с имени писателя. Книга его свободно вошла в библиотеки, школы, в дома тех, кто ее когда-то искал, тайно читал, переписывая для других или заучивая наизусть отдельные изречения, а то и целые страницы.
Слова Чернышевского дороги были Анюте в далекой юности, когда она их впервые открыла для себя. Дороги и теперь. Ее осенила мысль, что слова-то эти Николай Гаврилович писал как признание Ольге Сократовне. В словах этих продолжало жить его великое чувство к незаурядной женщине, какой представлялась по рассказам Ольга Сократовна.
И мир, на время утративший краски для Анюты, как бы опять приоткрылся. Она чуть прищурила глаза от солнца и различила далекий звон жаворонка, как тогда, в дни встреч с Герасимом в пасхальный праздник на мензелинских качелях. Ей увиделось, как они оставили шумное веселье молодежи и ушли далеко в поле. Там, наедине, Герасим признался, что любит ее. Признание его слилось для Анюты с песней жаворонка, падающей с неба, и это всегда напоминало ей о счастье.
Наплыли воспоминания. Анюта увидела себя гимназисткой. Подруги ее уже носили вместо коричневых платьев и черных фартуков белые блузки с длинными юбками, туфли на высоких каблуках, делали прически. Ей не разрешали родители. «Тебе еще нет шестнадцати», – внушала мать, и Анюта терпеливо ждала дня своего совершеннолетия.
Едва пришло совершеннолетие, как Анюта бросила гимназию и стала учиться в фельдшерской школе. Тайно она мечтала о подвиге Веры Павловны.
Теперь многое казалось наивным, хотя и дорого, потому что совпало с началом ее самостоятельной жизни. Взрослость пришла позднее – ее принес Герасим, рано ворвавшийся в судьбу Анюты и преждевременно оставивший ее одну в этом мире.
Анюта незаметно подошла к свежему холмику с простеньким деревянным крестом. Прогремевшие июльские грозы и обильные дожди размыли края, изрезали, как морщины, скосы могилы. Она разложила незабудки возле креста вперемежку с жарками, постояла в глубоком молчании. Ей слышался голос Герасима, его слова о любви, живущей в ее сердце.
В эти минуты перед глазами Анюты прошла вся их недолгая совместная жизнь. Она была счастлива! Ей хотелось пронести свежесть и чистоту чувства до конца своих дней. Она дала обет – быть верной первой любви, посвятить себя воспитанию детей.
Когда Анюта уходила с кладбища, Ольги Сократовны уже не было. Солнце играло радужными переливами стекол на часовенке. Их яркий блеск словно излучал неугасимую жизнерадостность, о которой не раз писал Чернышевский. Она звучала в душе Анюты песней жаворонка.
Челябинск – Малеевка
1972—1983 гг.









