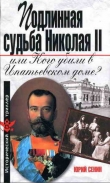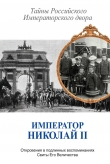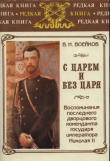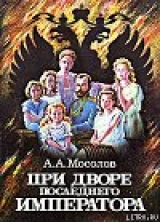
Текст книги "При дворе последнего императора"
Автор книги: Александр Мосолов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Анастасия совсем маленькою обещала стать красавицею, но не оправдала ожиданий. У нее было менее правильное, чем у сестер, лицо, зато весьма оживленное. Она была смелее других сестер и очень остроумна.
По словам фрейлен Шнейдер, характер Ольги Николаевны был ровный, хороший. Напротив, Татьяна имела характер трудный, скорее скрытный, но, быть может, с более глубокими, чем у сестер, душевными качествами. Мария Николаевна была добра, не без некоторого упрямства и по способностям ниже двух старших. Анастасия, с пока еще не установившимся характером, обещала быть весьма способною.
Во время войны, сдав сестринские экзамены, старшие княжны работали в царскосельском госпитале, выказывая полную самоотверженность в деле. Младшие сестры тоже посещали госпиталь и своею живою болтовнею помогали раненым минутами забывать свои страдания.
У всех четырех было заметно, что с раннего детства им было внушено чувство долга. Все, что они делали, было проникнуто основательностью в исполнении. Особенно это выражалось у двух старших. Они не только несли, в полном смысле слова, обязанности заурядных сестер милосердия, но и с большим умением ассистировали при операциях. Это много комментировалось в обществе и ставилось в вину императрице. Я же нахожу, что при кристальной чистоте царских дочерей это, безусловно, не могло дурно повлиять на них и было последовательным шагом императрицы как воспитательницы. Кроме госпиталя Ольга и Татьяна Николаевны очень разумно и толково работали и председательствовали в комитетах их имени.
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ
Взяв за отправную точку 1900 год, время моего вступления в должность начальника канцелярии, скажу, что императорская фамилия была и многочисленна, и полна сил: у царя тогда имелись в живых один брат его деда, четверо дядей, десять двоюродных дядей, один брат, четверо двоюродных братьев и девять троюродных. Всего двадцать девять – достаточно, чтобы стать в случае нужды в защиту главы семьи. Все они, казалось, были заинтересованы в борьбе за свои привилегии, за свое положение.
Я сознательно не перечисляю особ женского пола. Мне хочется в этой главе указать политическую роль, сыгранную членами царской семьи. Государь недолюбливал политических разговоров, а тем более с родственниками. Исключением являлись лишь великая княгиня Мария Павловна (о ней я говорю ниже), которая, как он знал, была хорошо осведомлена в германской политике благодаря своим немецким родственникам, а также две черногорские княгини, Милица и Стана Николаевны, всегда готовые давать политические советы. Их дворы были центрами обмена мнений по международным вопросам. Они с успехом заменяли не назначаемого в столицу нашу черногорского посланника и всемерно защищали интересы своего отца. Но влияние у государя не было пропорционально их рвению. Это, впрочем, не помешало Черногории играть в русской политике гораздо большую роль, чем она имела на то объективных данных.
Обе сестры Его Величества держались совершенно в стороне от государственной жизни. Большинство же других женских членов династии вступили в иностранные браки, жили за границею и лишь изредка гостили при дворе.
Сколько из вышеупомянутых членов императорской фамилии, солидарных с монархом как по династическому принципу, так и по своим интересам, оказались рядом с царем в трагические минуты отречения?
НИ ОДНОГО
В Пскове вблизи государя не было никого из его семьи. Великие князья узнали о совершившемся факте, и их мнения никто не спрашивал ни до, ни после. Семья была бессильна что-либо изменить. И Николай Александрович, и Михаил Александрович приняли свои решения одни, без всякой попытки снестись с родными, не посоветовавшись ни с кем из них, ни даже между собою. Революционная волна была для них столь неожиданна, что отрезала всякую возможность совещаний.
Однако государь в роковой день не мог внять совету семьи не только по материальным условиям, но и вследствие постепенно сложившихся отношений. Этот росчерк пера во Пскове стоил жизни семнадцати членам династии меньше чем за два года. Большинство этих погибших не покинули России исключительно из преданности своему монарху, не желая побегом усугублять его положение.
Как создались такие отношения и какую форму они приняли в каждом отдельном случае, это я постараюсь выяснить дальше. Пока же изложу положение членов императорской фамилии в самый момент отречения.
Великий князь Дмитрий Павлович за несколько недель до того был отправлен на персидский фронт за причастность к убийству Распутина – акт, которым он надеялся спасти царя и династию.
Великий князь Кирилл Владимирович во главе командуемого им гвардейского экипажа отправился в Думу, надеясь этим способствовать установлению порядка в столице и спасти династию в критический момент. Попытка эта не нашла поддержки и осталась безрезультатною.
Наместник на Кавказе Николай Николаевич коленопреклоненно умолял царя об отречении.
Великая княгиня Мария Павловна вместе с сыном, Андреем Владимировичем, находилась в Кисловодске.
Бывшие на фронте великие князья остались пассивными свидетелями переворота. Находившиеся в Петербурге не объединились вокруг Михаила Александровича, когда после отречения государя за себя и наследника он стал императором.
Сферы своими слухами опередили Его Величество в отречении. Они приняли известие об отречении кто равнодушно, а кто даже с радостью. В Яссах я получал из Петрограда многочисленные возбужденно-радостные письма, и мне казалось, что столица объята повальным сумасшествием.
РАЗЪЕДИНЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ
Первый удар по солидарности царской семьи был нанесен вторым супружеством императора Александра II. Брак с княжною Долгорукою, впоследствии княгинею Юрьевскою, был вторым морганатическим союзом в семье. Первым явилась свадьба великого князя Константина Павловича, косвенно повлекшая за собою восстание декабристов, первое русское освободительное движение.
Супружество государя Александра Николаевича вызвало единодушное осуждение всей царской семьи, лишь выигравшее в силе оттого, что его не осмеливались открыто проявлять при императоре. Две сцены особенно отчетливо врезались мне в память.
В Петергоф прибыли с визитом к Александру II германские владетельные принцы. Это было весною 1877 года. Время было тревожное. Ожидалась со дня на день война с Турцией. Государь пожелал, чтобы наследник устроил в честь гостей бал. Цесаревич, по-видимому, считал, что время для балов было неподходящее; но подчинился желанию своего августейшего родителя.
На бал была приглашена, вероятно по желанию царя, княжна Долгорукая. Помню, как сейчас, величественно-красивую фигуру Александра II, стоящего под колоннадою, ведущей в гостиную, и впереди него, в нескольких шагах, княжну.
После ужина танцы продолжались, и был объявлен котильон. В это время государь уехал, провожаемый до экипажа наследником. Вернувшись в зал, цесаревич прямо между танцующими парами прошел к эстраде, на которой играл оркестр лейб-гвардии Преображенского полка. Несмотря на то что среди танцующих была и цесаревна Мария Федоровна, он громким голосом крикнул:
– Спасибо, преображенцы! Домой!
Танцы резко оборвались. Наследник удалился с цесаревною во внутренние покои; смущенные гости поспешно разъехались.
Этот инцидент был первым мне известным, как очевидцу, проявлением разлада, намечавшегося в это время между Зимним и Аничковым дворцами. Причин было несколько, но главной являлось увлечение Александра II княжною Долгорукою. Эта, ставшая общеизвестной, связь, а особенно последовавший затем брак царя, оскорбляли наследника. Он считал их несовместимыми с достоинством русского императора. Свое отношение к браку отца Александр III проявил и тем, что по вступлении на престол немедленно сменил министра двора и все ближайшее окружение почившего императора.
Второй инцидент произошел после кончины Александра II.
В феврале 1881 года я приехал в Петербург в отпуск из Софии, где состоял флигель-адъютантом и командовал конвоем князя Болгарского. Накануне 1 марта я сговорился с моим товарищем по полку, флигель-адъютантом, но отбывающим свой ценз на командира полка в Белостоке, С. И. Бибиковым вместе позавтракать в ресторане Дюссо. Последний помещался на углу Большой Морской и Кирпичного переулка, где был затем меховой магазин Лелянова. До 1876 года, когда было устроено офицерское собрание полка в казармах, офицеры конной гвардии там постоянно завтракали, обедали и ужинали в одном из больших кабинетов. Напротив был ресторан Бореля, где преимущественно бывали кавалергарды; затем его хозяином стал Кюба, всем петербуржцам известный.
В конце нашего завтрака вбежал к нам взволнованный хозяин, француз Танти. Он только что разговаривал с лицом, видевшим раненого государя, которого везли в Зимний дворец.
Мы выскочили и побежали к дворцу. На площади уже собирался народ. В подъезде Его Величества знакомый нам швейцар подтвердил, что только что привезли раненого государя. Бибиков как флигель-адъютант, имеющий всегда доступ к императору, решил подняться наверх и уговорил меня идти с ним. Мы вошли в фельдмаршальскую галерею. Там у дверей в кабинет государя несколько человек свиты, в том числе генерал-адъютант Салтыков, и прислуга растерянно бегали взад и вперед. Бибиков спросил Салтыкова, можно ли войти, и затем вошел в кабинет. Я не решился последовать за ним, но видел, как он приблизился к группе лиц, стоявших, очевидно, вокруг места, где лежал умирающий государь. Среди них я узнал графа Адлерберга, который заслонял мне лицо царя. Когда Бибиков вышел, мы вместе отправились из дворца. На углу Невского и Морской мы остановились, чтобы решить, куда идти дальше. В это время с Невского показались парные сани, в которых сидел в генеральском пальто наследник цесаревич Александр Александрович с цесаревной Марией Федоровной. Они ехали медленно, так как Невский был запружен народом.
Мы успели повернуться и приложить руку к козырьку. Будущий император отдал нам честь, его супруга поклонилась. Сани повернули к арке Главного штаба и медленно, среди толпы приближались к Зимнему дворцу. Мы с Бибиковым вернулись туда. На площади пришлось уже проталкиваться. Народ стоял безмолствуя. Лишь время от времени слышались негромкие проклятия убийцам, «скубентам». Какая-то баба, сторонясь, крикнула нам вслед:
– Эх вы, военные! Не сумели сберечь царя.
Мы вошли во двор. Он тоже был полон людей всякого звания. На входящих и выходящих из дворца, видимо, никто не обращал внимания. Мы все еще надеялись на спасение жизни государя, хотя Бибиков и говорил мне, что, судя по виду раненого государя, надежды нет. Едва мы вышли из ворот, чтобы снова подняться наверх, как вся толпа и мы с нею опустились на колени… Штандарт на дворце был приспущен в знак траура.
Я послал телеграмму князю Александру Болгарскому и получил ответ ждать его в Петербурге, куда он в тот же вечер выезжает. Его Величество был близким родственником императорской фамилии как сын принца Александра Гессенского, родного брата покойной государыни Марии Александровны.
На другой день я узнал, что для князя приготовили помещение в Зимнем дворце, со стороны набережной, то самое, где год тому назад он жил. Тогда же из-за опоздания поезда, в котором ехал Его Высочество, отложили обед в его честь, и это спасло государя от взрыва в Зимнем дворце. Народовольцы надеялись заложенной там бомбой уничтожить большую часть членов императорской фамилиии.
3 марта в сопровождении одного лишь адъютанта прибыл князь Болгарский. Он участвовал в торжественной перевозке тела Александра II в Петропавловскую крепость. Чтобы присутствовать в соборе, князь спустился из своих апартаментов к салтыковскому подъезду. Тут у широкой лестницы в ожидании появления Их Величеств собрались с правой стороны все великие князья и княгини, с левой – небольшая траурная группа: княгиня Юрьевская с тремя малютками детьми.
Она была в черном, с опущенной вуалью, дети – две девочки и мальчик – тоже в траурном платье. Распахнулись двери, вошли Их Величества и направились здороваться к высочайшим особам. Государь затем обернулся, в тот самый момент, когда княгиня Юрьевская приподняла свою вуаль.
Царь уверенными мерными шагами подошел к ней. Императрица сделала несколько шагов за государем и остановилась. Его Величество, обменявшись несколькими словами с княгинею, обернулся, видимо, думая, что Мария Федоровна стоит за ним. Императрица опять двинулась вперед и опять остановилась. Тогда княгиня Юрьевская быстрыми уверенными шагами подошла к ней. Мгновение они стояли друг против друга. Затем Ее Величество быстро обняла княгиню и обе заплакали. Юрьевская кивнула детям. Те подошли и поцеловали руку императрицы. Государь тем временем был уже в дверях. Царица, видя это, быстро пошла за ним. Начался отъезд высочайших особ.
Когда князь Александр выходил со мною, траурная группа Юрьевской с детьми стояла, как окаменелая в углу громадного почти опустевшего вестибюля. Для них была заказана отдельная панихида.
Хотя с тех пор прошло более 50 лет, но картина, длившаяся всего несколько минут, запечатлелась на вею жизнь в моей памяти. Она произвела такое же впечатление на князя, особенно то мгновение, когда императрица и Юрьевская стояли друг против друга, миг нерешительности Марии Федоровны, подать ли руку княгине или обнять ее. Если бы она подала ей руку, княгиня, жена ее свекра, Александра II, должна была по этикету поцеловать ее.
ВЫСОЧАЙШИЕ ОСОБЫ, НО НЕ ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ
Второй удар по целостности царской семьи относится к царствованию Александра III. Видя разрастание императорской фамилии и боясь за престиж великокняжеского сана, Его Величество принял меру, которую он считал необходимою, но которая не всеми членами семьи была одинаково оценена.
«Учреждение об императорской фамилии» было изменено в том смысле, что отныне участвовали в уделах одни дети и внуки императора. Первые два поколения потомков государя носили титул великих князей и получали ежегодно сумму в 280 000 рублей от уделов. Правнуки, с титулом князей крови, получали при совершеннолетии имущество стоимостью в один миллион рублей, движимое и недвижимое, по выбору. Оно переходило по первородству, и обладатель его имел звание Высочества. Остальные потомки были лишь Светлостями и имуществом не обеспечивались вовсе.
Эта мера закрепила деление высочайших особ на две категории. Против нее в царствование Александра III и при министре двора графе Воронцове трудно было ожидать открытого протеста. Со сменою государя императорская фамилия надеялась получить и большую свободу действий. Новый царь был молод, и старшие родственники рассчитывали влиять на него.
Когда эти чаяния не оправдались, молва возложила вину на императрицу. Выросши в англо-германской среде, где вся энергия, не находившая внешнего проявления из-за конституционных преград, обращалась на вящее наблюдение за родственниками, Ее Величество была сторонницею строжайшей дисциплины.
Другой повод к недовольству великих князей давало отношение императора к постановлениям семейных советов. Председатель их, старший из присутствовавших членов семьи, должен был доводить до сведения государя о постановлениях собраний через министра двора. Николай II часто не только не одобрял желания большинства, но и клал прямо противоположные резолюции. Несмотря на все старания изменить порядок доклада, император сохранил его, чтобы избегнуть всяких личных пререканий с родственниками. Невозможность делать непосредственные доклады по семейным делам великих князей считали ненормальным явлением. Это отражалось на солидарности их отношений к главе династии и косвенно сказывалось на графе Фредериксе.
Стали множиться морганатические союзы. Неравномерные и неоправдываемые санкции, иногда чрезвычайные по строгости, скоро отменялись. Виновных прощали, возвращали в Россию на прежнее положение, но прежних отношений восстановить было уже нельзя. Раненое самолюбие давало себя знать.
Появление Распутина внесло окончательный разлад в императорскую фамилию, разделило ее на «белых» и «черных». В коллективном письме к государю, вызванном отправкою Дмитрия Павловича на персидский фронт за причастность к убийству «старца Григория», в этом единственном общем выступлении членов императорской фамилии, поведение великого князя объяснялось велением совести. Трудно было сильнее осудить окружение Ее Величества.
ПАТРИАРХ РОМАНОВЫХ
Из трех великокняжеских поколений, которых нам приходится здесь касаться, старшее – Александра II – имело одного остававшегося в живых представителя, генерал-фельдцехмейстера Михаила Николаевича.
Менее одаренный, чем его братья, человек благородного и уравновешенного характера, исключительной осанки, великий князь провел большую часть своей карьеры наместником на Кавказе. Здесь же он командовал нашими войсками в турецкой кампании 1877–1878 годов и получил георгиевскую ленту.
Оставив пост наместника, великий князь был назначен председателем Государственного совета, оставался на этом посту до реформы совета в 1905 году. Последние годы своей жизни великий князь по климатическим условиям проводил зиму на юге Франции и умер на своей вилле в Каннах в конце 1909 года.
Хотя в мое время он не играл крупной политической роли, но по возрасту и положению занимал исключительное место среди семьи. Никто из родственников не стал бы ему перечить. Благодаря своему такту и влиянию он являлся настоящим миротворцем. С кончиною его прекратилось и внешнее династическое единство.
ЖИВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ XVIII ВЕКА
Великая княгиня Александра Иосифовна, принцесса Саксен-Альтенбургская, вдова другого брата Александра II, Константина Николаевича, принадлежала, если не по рождению, то по мужу, тоже к старшему поколению династии. Она держалась очень консервативных взглядов, и петербургское общество казалось ей весьма передовым и непривычным. Ее любимою резиденциею был Павловский дворец, представлявший исключительное художественное целое.
В мире не существовало другого подобного ансамбля времен Директории. Дворец, построенный в конце XVIII века, был полон мебели, штофа, люстр, фарфора, бронзы этой эпохи. При ремонте обивки мебель покрывали штофом того же времени – так велики были его запасы, унаследованные великою княгинею. Во время своего путешествия во Франции граф и графиня Северные (под этим именем, как известно, ездили инкогнито Павел Петрович и Мария Федоровна) заказали такие неисчерпаемее богатства материалов для своего дворца, что он был ими полон до самой революции 1917 года. Только перед началом великой войны решились провести в дворец электричество прямо взамен восковых свечей: ни керосина, ни газа там никогда не было.
Атмосфера этого патриархального двора всегда производила на меня такое впечатление, будто я попал в позапрошлое столетие, и всегда действовала успокоительно.
НАДО ЗНАТЬ СВОЕ РЕМЕСЛО
Второе поколение – поколение Александра III, властного консерватора и народника, – было представлено в 1900 году его четырьмя родными и десятью двоюродными братьями. Первыми были великие князья Владимир, Сергей, Алексей и Павел Александровичи.
Не существовало в Петербурге двора популярнее и влиятельнее, чем двор великой княгини Марии Павловны, супруги Владимира Александровича. Да и сам великий князь умел пользоваться жизнью полнее всех своих родственников. Красивый, хорошо сложенный, хотя ростом немного ниже своих братьев, с голосом, доносившимся до самых отдалённых комнат клубов, которые он посещал, большой любитель охоты, исключительный знаток еды (он владел редкими коллекциями меню с собственными заметками, сделанными непосредственно после трапезы), Владимир Александрович обладал неоспоримым авторитетом. Никто никогда не осмеливался ему возражать, и только в беседах наедине великий князь позволял себе перечить. Как президент Академии художеств он был просвещенным покровителем всех отраслей искусства и широко принимал в своем дворце талантливых людей. В качестве старшего дяди царя он мог бы занять рядом с Михаилом Николаевичем особо доверенное положение, стать хранителем единства семьи и ее традиций. Причину, почему он этой задачи не осуществил, следует, быть может, искать в отношениях между дядею и племянником. Государь Николай II испытывал перед Владимиром Александровичем чувство исключительной робости, граничащей с боязнью. Великий князь, вероятно, заметив впечатление, производимое им на императора, стал держаться в стороне от государственных вопросов.
Острый перелом в отношениях между двумя дворами относился к 1905 году. 8 октября старший сын Владимира Александровича Кирилл сочетался браком в Тегернзе в Баварии в присутствии великой княгини Марии Александровны, с ее согласия и благословения, но не испросив высочайшего разрешения, с разведенною великой герцогиней Гессенской, принцессой Викториею-Мелитою Саксен-Кобург-Готской, дочерью великой княгини Марии Александровны. Новые супруги были двоюродными братом и сестрой. (Великий герцог Эрнст был единственным братом императрицы Александры Федоровны).
Вскоре после свадьбы Кирилла Владимировича стало известно, что он приезжает в Петербург один принести повинную за брак без разрешения государя. Как родители его, так и он сам ожидали, что после заслуженного выговора со стороны Его Величества он будет прощен.
Великий князь приехал в 9 часов вечера прямо с вокзала во дворец своих родителей, а в 10 часов ему доложили, что явился министр двора и желает его видеть по приказу царя.
Граф Фредерикс объявил Кириллу Владимировичу, что император повелевает ему в тот же день выехать обратно за границу и что доступ в Россию ему впредь воспрещен. О прочих налагаемых на него наказаниях он узнает по прибытии на место своего жительства. В тот же день в 12 часов ночи великий князь покинул Петербург.
Владимир Александрович был глубоко оскорблен этой мерою, принятой государем по отношению к сыну без уведомления отца, и на другой же день отправился к императору. После его возвращения свите стало известно, что Владимир Александрович заявил царю о своей обиде и высказал, что при таких обстоятельствах он государю больше служить не может и просит сложить с него командование войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. Император на это согласился и соизволил назначить на его место великого князя Николая Николаевича.
При передаче должности Владимир Александрович почел себя сугубо обиженным тем, что Николай Николаевич не только его не посетил, но и отчислил трех его адъютантов по должности командующего войсками, в том числе и Илью Татищева. Последнего, впрочем, вскоре взял в свою свиту государь.
Крутая мера, принятая по отношению к Кириллу Владимировичу, конечно, приписывалась главным образом влиянию императрицы Александры Федоровны. Полагали, что оскорбленная браком великого князя с разведенной супругой своего брата, она и добилась столь сурового наказания, тем более что Кирилл Владимирович являлся третьим лицом по престолонаследию. Отношения Марии Павловны и царицы, конечно, от этого еще ухудшились.
После рождения у Кирилла Владимировича дочери возник острый вопрос – как именовать новорожденную от брака, не признанного государем. Этот вопросдолго обсуждался. Фредерикс совещался с министром юстиции и никак не мог найти выхода. Наконец император согласился признать брак и дать новорожденной соответствующий ее рангу титул. Но великому князю все-таки не было разрешено вернуться в Россию. Это соизволение последовало лишь после смерти Владимира Александровича, когда Кириллу Владимировичу вернули и прочие великокняжеские преимущества.
Великая княгиня Мария Павловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская, умная, образованная и любезная женщина, представила удивительно подходящую пару для Владимира Александровича. Их супружеская жизнь, несмотря на то что и муж и жена были натуры волевые и характера самостоятельного, протекала вполне благополучно. Великая княгиня окружала себя выдающимися людьми и в своем дворце в Петербурге, и в многократных заграничных поездках. Вела она и обширную переписку со многими видными деятелями Европы. Сходство ума ее с императрицей Екатериной доходило до того, что Марию Павловну считали свободномыслящею. В действительности она была передовою женщиной и считалась с условиями времени.
Приведу пример поразительного умения Ее Высочества очаровывать людей. Великокняжеская чета была приглашена на освящение памятника царю-освободителю в Софии, где Владимир Александрович представлял государя. Во дворце был назначен парадный обед, а после него прием. Перед самым обедом мне удалось урвать от нашей перегруженной программы несколько минут, чтобы наскоро посвятить Марию Павловну в то, с кем она встретится и что представляют собою приглашенные. И в течение более 3 часов за обедом и приемом великая княгиня была оживленным центром непрерывной беседы и успела всех очаровать. При этом она не допустила ни малейшей оплошности. Когда я поздравил ее с успехом и высказал удивление ее дипломатическими способностями, она ответила:
– Надо знать свое ремесло. Вы можете повторить это и большому двору.
Должен сознаться, великая княгиня знала свое «ремесло» в совершенстве. Двор ее первенствовал в Петербурге. Ее рождественские базары в залах дворянского собрания затмевали все другие благотворительные затеи. Ей удавалось собирать значительные суммы, привлекая на свои приемы лиц богатых, которые по своему рождению и положению в обществе не имели бы доступа в высшие его слои и охотно открывали свои кошельки, чтобы отблагодарить Марию Павловну за гостеприимство.
Ее Высочество любила награждать своих помощников и любимцев придворными званиями, и я страшно волновался, когда перед праздниками она звала меня к себе. Помню, мне как-то пришлось ей указать, что пожалование ее протеже того звания, о котором она просит, будет неслыханною вещью. Она выслушала меня с неудовольствием и, когда я уходил, сказала:
– Раз вы не хотите сделать этого для меня, я найду другую протекцию. Но мой кандидат получит именно то придворное звание, к которому он более всего подходит.
И действительно, в последнюю минуту государь прислал Фредериксу записку сделать такого-то церемониймейстером. Высочайшее повеление было исполнено, и за это министра и меня ругали во всех клубах. Граф не выдержал, поехал к великой княгине и в дружеском тоне просил не подводить вперед ни царя, ни его. Мария Павловна не рассердилась и ответила:
– Другой раз обещайте и не делайте. Тогда одна я буду вас бранить.
– Это будет для меня еще большим огорчением, – возразил граф.
Она рассмеялась, и такие инциденты больше не повторялись. Ее Высочество очень любила и ценила моего начальника.
Двор великой княгини блистал фрейлинами, которые были одна краше другой, притом все умницы и веселого нрава. Мария Павловна требовала, чтобы и вся прислуга имела элегантный и красивый вид. Из своих гостей она сближалась только с теми, кто умел разговаривать и не давал скучать.
С этими-то ближайшими и наиболее влиятельными родственниками отношения большого двора и стали наиболее натянутыми. Ревность между двумя дворами, поддерживаемая постоянными мелкими уколами, порождала инциденты, подобные описанному мною с ялтинскими госпиталями. Этот случай положил конец родственным отношениям между императорской четой и Марией Павловной.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДВОР И ОБЩЕСТВО
В 1909 году скончался в Париже великий князь Алексей Александрович, брат императора Александра III. Сложив с себя звание генерал-адмирала после гибели эскадры Рожественского при Цусиме, он последние годы своей жизни провел во Франции.
Это был один из самых красивых по внешности членов императорской фамилии. Я убедился в Париже, насколько он поражал своею наружностью. Как-то, гуляя на бульварах, я заметил впереди себя высокого мужчину. Прохожие, видя его, останавливались, а некоторые даже восклицали: «Какой красавец!» Подойдя ближе, я узнал великого князя, в штатском платье, с покупками в руках.
Алексей Александрович еще совсем молодым человеком увлекся фрейлиной Жуковскою и, как говорили тогда, вступил с нею в тайный брак и имел от нее сына, получившего фамилию графа Белевского. Впрочем, по более поздним справкам у членов императорской фамилии, слухи о браке князя Алексея Александровича неверны. Брак с фрейлиной Жуковской заключен не был.9
До брака Александра II с княжною Долгорукою, положившего начало другому ряду морганатических супружеств семьи Романовых, в русской истории был только один пример такого брака – великого князя Константина Павловича с графинею Грудзинской (княгиня Лович). Все другие браки или остались совершенно неизвестными, или о них знал весьма ограниченный круг лиц, как например о браке императрицы Елисаветы и князя Разумовского.10
Алексей Александрович был человеком атлетической силы, обладал большою жизненною энергиею и любил военно-морскую среду, в которой провел большую часть своей жизни. Он жил в прекрасном дворце на Мойке, где, правда, весьма редко, но все же иногда устраивал балы, зато очень блестящие и роскошно обставленные. Давались они главным образом в царствование брата великого князя императора Александра III, который временами их посещал. Великий князь в то время очень дружил с герцогом Евгением М. Лейхтенбергским, состоявшим тогда в браке с Зинаидой Дмитриевной Скобелевой, получившей впоследствии титул и фамилию графини Богарне.
Предлог к этому пожалованию якобы был следующий. Сын Евгения Богарне от брака его с принцессою Баденскою Максимилиан приехал в Россию в царствование императора Николая Павловича и благодаря своей исключительной красоте увлек собою любимую дочь государя великую княжну Марию Николаевну. Еще по случаю брака его отца король баварский пожаловал Богарне титул герцогов Лейхтенбергских. Император в свою очередь наградил детей великой княгини званием Императорского Высочества и князьями Романовскими. Вдобавок – правда, после всех других членов царской семьи, настоящих и будущих – он и его потомство получили право членов императорской фамилии, все же без права пользования удельными доходами. Таким образом, герцоги Лейхтенбергские, нигде и никогда не царствовав, почитались, правда в одной только России, высочайшими особами, согласно примечанию, внесенному императором Николаем I в основные законы империи.
Баварский посланник после пожалования Александром III супруге Евгения Максимилиановича титула графини Богарне хотел протестовать, так как предварительно не снеслись с его двором. Но престиж царя был так велик, что ретивый дипломат должен был умолкнуть.