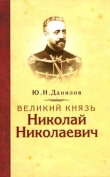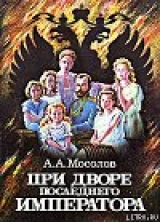
Текст книги "При дворе последнего императора"
Автор книги: Александр Мосолов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
МОНАРХ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ ЧУВСТВА ДОЛГА
Царь вдумчиво относился к своему сану помазанника Божия. Надо было видеть, с каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осужденных на смертную казнь. Право милости – не приближало ли оно его всего более к Всемилостивому?
Как только помилование было подписано, царь не забывал никогда, передавая резолюции, требовать немедленной отправки депеши, чтобы она не запоздала. Помню случай, когда в одну из поездок телеграмма с просьбою о помиловании была получена поздно вечером. Фредерикс уже спал, государь же еще занимался в своем купе. Я приказал камердинеру доложить обо мне. Царь принял меня, видимо, удивленный моим вторжением в такой час.
– Я позволил себе утрудить Ваше Величество ввиду получения телеграммы о помиловании: граф же после утомительного дня спит.
– Конечно, вы правильно поступили. Ведь дело идет о жизни человека. Но как же теперь быть? Можете ли вы подписать за Фредерикса? (По закону ответная телеграмма должна была носить подпись министра двора).
– Конечно, Ваше Величество. Я передам телеграмму за моею подписью, а граф ее заменит своею завтра.
– Хорошо. Так и сделайте.
На другой день государь вернулся к разговору.
– Убеждены ли вы, что телеграмма была немедленно отправлена?
– Да, немедленно, в таком-то часу.
– Ведь эти телеграммы с моими повелениями идут вне очереди, как мои личные?
– Точно так, Ваше Величество.
Царь, видимо, почувствовал облегчение, так как исполнение приговора было назначено на утро.
ФАЛЬШИВЫЙ ИЛИ ЗАСТЕНЧИВЫЙ?
Говорят, будто царь был фальшив. Называют случаи внезапных, невзначай вызванных отставок министров, до того мнивших себя в полной милости.
Отставки эти, действительно, происходили в особых условиях, однако ж объяснение действий и мотивов царя не следует искать в недостатке прямоты.
Для царя министр был чиновником, подобно всякому другому. Царь любил их, поскольку они были ему нужны, столько же как всех своих верноподданных, и так же к ним относился. Если же с кем-либо из них приключалось несчастие, то жалел их искренне, как всякий чувствительный человек жалеет страдающего. Один граф Фредерикс пользовался в этом отношении привилегированным положением.
Бывал ли министр в несогласии с царем, общественность или враги начинали ли его клеймить, или же переставал он внушать доверие по какому-либо поводу, царь выслушивал его, как обычно, благосклонно, благодарил за сотрудничество, тем не менее несколько часов спустя министр получал собственноручное письмо Его Величества, уведомляющее его об увольнении от должности.
Тут чувствовалась тренировка в молодости генералом Даниловичем. Министры не принимали во внимание отсутствие боеспособности, лежащее в основе характера царя.
Отношения царя с министрами завязывались и оканчивались следующим образом: царь проявлял сначала к вновь назначенному министру чувство полного доверия – радовался сходству во взглядах. Это был «медовый месяц», порою долгий. Затем на горизонте появлялись облака. Они возникали тем скорее, чем более министр настаивал на принципах, был человеком с определенною программою. Государственные люди – подобно Витте, Столыпину, Самарину, Трепову – почитали, что их программа, одобренная царем, представляла достаточно крепкую основу, чтобы предоставлять им свободу в проведении деталей намеченного плана. Однако ж государь смотрел на дело иначе. Зачастую он желал проводить в действие подробности, касавшиеся даже не самого дела, а известной его частности или даже личного назначения.
Встречаясь с подобным отношением, министры реагировали согласно своему индивидуальному темпераменту. Одни, как Ламсдорф, Кривошеин, Сухомлинов, мирились и соглашались. Другие, менее податливые, либо стремились действовать по-своему, ведя дело помимо царя, либо же пускались переубеждать его. Первый из этих способов вызывал живейшее недовольство государя, но и второй таил в себе немалые опасности для министра.
Царь схватывал на лету главную суть доклада, понимал, иногда с полуслова, нарочито недосказанное, оценивал все оттенки изложения. Но наружный его облик оставался таковым, будто он все сказанное принимал за чистую монету. Он никогда не оспаривал утверждений своего собеседника; никогда не занимал определенной позиции, достаточно решительной, чтобы сломить сопротивление министра, подчинить его своим желаниям и сохранить на посту, где он освоился и успел себя проявить. Не реагируя на доводы докладчика, он не мог и вызвать со стороны министра той энергии, которая дала бы тому возможность переубедить монарха.
Он был внимателен, выслушивал не прерывая, возражал мягко, не подымая голоса. Министр, увлеченный правильностью своих доводов и не получив от царя твердого отпора, предполагал, что Его Величество не настаивает на своих мыслях. Царь же убеждался, что министр будет проводить в жизнь свои начинания, несмотря на его, императора, несогласие. Министр уезжал, очарованный, что мог убедить государя в своей точке зрения. В этом и таилась ошибка… Где министр видел слабость, скрывалась сдержанность. По недостатку гражданского мужества царю претило принимать окончательные решения в присутствии заинтересованного лица. Но участь министра была уже решена, только письменное ее исполнение откладывалось.
Повторяю: спорить было противно самой природе царя. Не следует упускать из виду, что он воспринял от отца, которого почитал и которому старался подражать даже в житейских мелочах, незыблемую веру в судьбоносность своей власти. Его призвание исходило от Бога. Он ответствовал за свои действия только пред совестью и Всевышним. Императрица поддерживала в нем всеми силами эти взгляды.
Царь отвечал пред совестью и руководился интуициею, инстинктом, тем непонятным, которое ныне зовут подсознанием (и о котором не имели понятия в XVI веке, когда московские цари ковали свое самодержавие). Он склонялся лишь пред стихийным, иррациональным, а иногда и противным разуму, пред невесомым, пред своим все возрастающим мистицизмом.
Министры же основывались на одних доводах рассудка. Их заключения взывали к разуму. Они говорили о цифрах, прецедентах, сметах, исчислениях, докладах с мест, примерах других стран и т. д. Царь и не желал, и не мог оспаривать таких оснований. Он предпочитал увольнять в отставку лиц, переставших преследовать одну с ним цель.
Впрочем, царь, как многие другие русские, считал, что судьбы не обойдешь.
ЦАРЬ НИКОГДА НЕ ИМЕЛ СЕКРЕТАРЯ
Помазанник Божий, царь держался сознательно и систематически высот, куда не мог проникнуть простой смертный.
Многим ли известен следующий значительный факт: всероссийский император никогда не имел частного секретаря. Он был до такой степени педантичен в исполнении своих обязанностей, что сам ставил печати на свои письма. Только при большой спешке бывало, что государь поручал эту второстепенную обязанность своему камердинеру. Последний, впрочем, должен был представлять свою работу, чтобы царь мог самолично убедиться в ее исполнении.
Он не имел секретарей. Впрочем, официальные документы, письма не строго частного характера писались канцеляриями. Танеев составлял «рескрипты» сановникам, министр двора – официальные письма членам царской семьи, министр иностранных дел по должности ведал корреспонденциею с иностранными монархами и т. д. Секретарь государя мог бы иметь и другие задачи: классифицировать корреспонденцию, наблюдать за ходом дел, принимать входящие и т. п. Достаточно работы для двух-трех доверенных приближенных.
Но тут-то и заключалась трудность. Надо было бы довериться кому-либо. А царь недолюбливал доверять свои мысли посторонним.
Вдобавок была и другая опасность: секретарь стал бы расти в значении, сделался бы необходимым, влиял бы на монарха. Влиять на того, кто желал слушаться лишь своей совести! Одна эта возможность должна была сама по себе встревожить Николая II.
Министр двора поддерживал царя в этом решении, не желая вторжения постороннего лица между государем и его первым слугою.
Императрица имела частного секретаря, графа Ростовцева. Царь – никого. Он желал быть одним. Одним пред своею совестью.
Помнится мне возвращение из Компьена, где мы присутствовали на памятном смотру французской армии. Разговоры шли между военными, и, естественно, во время долгих часов путешествий, мы разбирали волнующий нас вопрос: может ли французская армия выдержать напор войск кайзера?
Все будущее русской политики зависело от ответа на этот вопрос. Некоторые наши специалисты находили, что французские войска менее дисциплинированны и устойчивы, нежели германские. Другие утверждали, что французский мужик защищается на собственной земле как лев. Будущее подтвердило последнее мнение. Мы воодушевились, мы спорили.
Государь слушал внимательно, но не сказал ни слова.
СДЕРЖАННОСТЬ ЦАРЯ
В Ливадии в моменты отдыха, который Николай II иногда себе давал, я часто имел честь сопровождать Его Величество в поездках верхом. Вначале, еще мало зная государя, я пытался во время прогулок разговаривать на злобы дня: о последних политических событиях, газетных новостях. Царь отвечал чрезвычайно неохотно и сейчас же переводил беседы на другие, безобидные, темы: о лошадях, о теннисе и т. п. При этом, когда кем-либо затрагивался вопрос, на который Николай II не желал отвечать, он менял аллюр шага на рысь, при которой разговаривать было трудно.
Я вскоре понял причину: только с министрами, на докладах, царь говорил серьезно о делах, их касающихся. Со всеми другими, с членами ли императорской фамилии, с приближенными ли, государь тщательно старался избегать ответственных разговоров, которые могли бы его вынудить высказать свое отношение по тому или иному предмету.
Это было ему тем легче, что Николай II обо всем говорил бесстрастно. Помню момент получения известия о гибели русского флота под Цусимою. Телеграмма была принята в пути в императорском поезде. Царь послал ее Фредериксу для передачи военному министру Сахарову и свите. Прочитав ее, мой министр пошел к государю в купе и долго там оставался.
Пришел скороход оповестить нас, что Его Величество в столовой, за вчерашним чаем. Вошли поодиночке, сели молча. Никто не решился заговорить о зловещей телеграмме. Молчание было прервано царем. Он заговорил о бывших в тот день смотрах войск и других незначительных событиях. В течение часа ни одного слова о Цусиме не было помянуто.
Вся свита была ошеломлена безучастием императора к такому несчастию. Когда царь ушел, Фредерикс рассказал о своей беседе с государем в купе. Николай II был в отчаянии: рухнула последняя надежда на благополучный исход войны. Он был подавлен потерею своего любимого детища – флота, не говоря о гибели многих офицеров, столь любимых и облагодетельствованных им…
– Его Величество просит к себе военного министра. Генерал Сахаров долго совещался с царем. По окончании разговора он подтвердил нам, сколь обеспокоен государь известием.
– Царь обсуждал со мною события, проявляя полное сознание будущих трудностей. Он мне начертал мероприятия, вызванные новым положением.
Позже я мог убедиться, насколько катастрофа при Цусиме глубоко потрясла государя, вызвав серьезную перемену в его характере.
ОТЕЦ
Отеческая любовь Николая II была исключительной нежности. Он жил своими детьми и гордился ими. Никогда не забуду того, как царь впервые показал мне своего наследника: цесаревичу было тогда всего лишь несколько месяцев.
Их Величества плавали в финских шхерах. Дверь каюты наследника выходила прямо на палубу. Я шел мимо в тот момент, когда выходил государь.
– Вы, кажется, еще не видели цесаревича во всей его красе? Пойдемте, я вам его покажу.
Мы вошли. Наследник полоскался в ванночке. Государь заметил:
– Пора ему кончать ванну. Увидим, оскандалится он или нет. Пожалуй, при вас кричать не будет.
Мальчика вынули из ванны и без особых затруднений обтерли. Тогда царь снял с него простынку, поставил ножками на руку, другою держа его под мышками, и показал мне его во весь рост. Действительно, это был чудно сложенный ребенок. Затем государь накинул на него простыню и отдал няне.
Мы вышли. Царь говорил со мною еще несколько минут о своем красавце сыне, спрашивая, заметил ли я пропорциональность ног и туловища и так называемые браслетки, то есть как бы ниткою обвязанные конечности – признак хорошего питания.
На следующий день государь сказал императрице в моем присутствии:
– А мы вчера с Мосоловым делали смотрины цесаревичу. Александра Федоровна ничего не ответила, но я видел, что она осталась недовольна этою экспансивностью мужа.
СУПРУГ
Николай II не только любил жену: он был в нее положительно влюблен, даже с легким оттенком ревности к вещам, к занятиям и людям, отвлекающим ее внимание от него.
Во всяком браке, даже самом совершенном, один любит, другой позволяет себя любить. В царской чете государь был любящим всею силою души. Царица отвечала горячею нежностью, счастливая быть любимою человеком, которого она глубоко ценила.
Впрочем, именно Ее Величество скорее проявляла ревность ко всему, что могло отделять ее от мужа. Добросовестная, какою только может быть немка, она понимала, что государю нужно работать, и не только не мешала ему, а, напротив, скорее подталкивала мужа. Но все, что за работу не считала, например прием, разговор с посторонними людьми и т. п., недолюбливала как отнимающее у государя время, которое они могли проводить вдвоем. Она понимала одиночество утренних прогулок царя, во время которых тот обдумывал свой решения, лишь бы они не превышали времени, на них ассигнованного. Она не признавала отклонений, увлечений какою-либо творческою мыслью, заставляющею думать вне законного времени.
Особенно соблюдались часы вечернего чтения. Трудно себе представить что-либо, что могло бы заставить государыню согласиться отказаться хотя бы на один вечер от этих чтений с глазу на глаз у камина.
Царь читал мастерски и на многих языках: по-русски, по-английски (на нем разговаривали и переписывались Их Величества), по-французски, по-датски и даже по-немецки (последний язык был государю менее известен). Заведующий собственною Его Величества библиотекою Щеглов представлял царю каждый месяц по крайней мере двадцать интересных книг, вышедших за этот период. В Царском Селе книги эти были разложены в комнате близ покоев императрицы. Меня как-то заинтересовал стол, где лежали уже выбранные Николаем II книги для чтения, но камердинер меня к ним не подпустил.
– Его Величество склыдывает их в известном порядке и не любит, ежели не находит их точно в том виде, как он их сам разложил. И детей не приказано допускать в эту комнату без императрицы и кого-либо из фрейлин.
Среди этих книг государь избирал себе ту, которую читал супруге: обыкновенно историческое сочинение или русский бытовой роман.
Однажды царь сказал мне:
– Прямо боишься в Царском Селе войти в комнату, где эти книги разложены. Не знаешь, какую выбрать, чтобы взять с собою в кабинет. Смотришь – и час времени потерян. Только в Ливадии успеваю почитать, но и то половину взятых с собою книг приходится сдать неразрезанными.
И добавил с сожалением:
– Некоторые мемуары больше года, как не отдаю Щеглову: так уже хочется с ними познакомиться, да, видно, не придется.
Чтение вдвоем было главным удовольствием царской четы, искавшей духовной близости и семейного уюта.
ВАШ ПЕТР ВЕЛИКИЙ
Сознаюсь, что за все 16 лет службы при дворе мне всего лишь дважды довелось говорить с государем о политике.
Впервые это было но случаю двухсотлетия основания Петербурга. Столбцы газет были переполнены воспоминаниями о победах и преобразованиях Петра Великого. Я заговорил о нем восторженно, но заметил, что царь не поддерживает моей темы. Зная сдержанность государя, я все же дерзнул спросить его, сочувствует ли он тому, что я выражал.
Николай II, помолчав немного, ответил:
– Конечно, я признаю много заслуг за моим знаменитым предком, но сознаюсь, что был бы неискренен, ежели бы вторил вашим восторгам. Это предок, которого менее других люблю за его увлечения западною культурою и попирание всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время как переходный период и было необходимо, но мне оно несимпатично.
Из дальнейшего разговора мне показалось, что кроме сказанного государь ставит в укор Петру и некоторую показную сторону его действий и долю в них авантюризма.
Царь долго помнил мои чувства симпатии к великому Романову.
Однажды, возвращаясь верхом по тропинке высоко над шоссе из Учан-Су с дивным видом на Ялту и ее окрестности, государь высказал, как он привязан к Южному берегу Крыма.
– Я бы хотел никогда не выезжать отсюда.
– Что бы Вашему Величеству перенести сюда столицу? – Эта мысль не раз мелькала у меня в голове.
Вмешалась в разговор свита. Кто-то возразил, что было бы тесно для столицы: горы слишком близки к морю. Другой не согласился:
– Где же будет Дума?
– На Ай-Петри.
– Да зимою туда и проезда нет из-за снежных заносов.
– Тем лучше, – заметил дежурный флигель-адъютант.
Мы двинулись дальше – государь и я с ним рядом – по узкой дорожке. Император полушутя сказал мне:
– Конечно, это невозможно. Да и будь здесь столица, я, вероятно, разлюбил бы это место. Одни мечты…
Потом, помолчав, добавил смеясь:
– А ваш Петр Великий, возымев такую фантазию, неминуемо провел бы ее в жизнь, невзирая на все политические и финансовые трудности. Было бы для России хорошо или нет – это другой вопрос.
Более мы к этому никогда не возвращались.
Впрочем, эта антипатия к великому реформатору гнездилась в природе царя. Известно, как в самом начале царствования депутация всероссийского дворянства получила памятный выговор. В ответ на приветствие по случаю вступления на престол (с надеждою о призыве к сотрудничеству) император сказал краткое слово, заключавшее знаменитую фразу: «Оставьте бессмысленные мечтания».
Эта первая публичная речь молодого монарха произвела несказанный эффект на широкие круги, возлагавшие надежду, что Николай II возобновит традицию реформ, ознаменовавших эпоху его деда Александра II, и столь круто прерванную его отцом Александром III.
НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НЕДОСТАТОЧНО ОСТОРОЖНЫМ
Помню свой разговор с царем о Болгарии: это было в 1912 году. Болгарская армия начинала выдыхаться после непомерных усилий.
Генерал Радко-Димитриев написал мне с просьбою доложить государю, что появление русского флота вблизи Константинополя и у малоазиатского побережья могло бы повернуть весь ход кампании в пользу Болгарии. Я решился доложить об этом письме.
Царь сперва объяснил мне общее политическое положение, а затем добавил:
– Я жалею Болгарию. Но не могу же я для увенчания ее лаврами рисковать достоянием России – жизнью своих солдат.
И, подумав, продолжал:
– Нет. Не отвечайте вовсе Димитриеву, чтобы он не пал духом. Я с большим сочувствием отношусь к Болгарии, и в особенности к ее храброй армии. Но малейший намек на вмешательство может вызвать европейскую войну. Нельзя быть в таких случаях недостаточно осторожным…
Сказав это, государь разобрал поводья, и чудный его вороной пошел крупною рысью. Ехали мы долго молча. Затем царь повторил:
– Да, жаль, что вашим болгарам не могу помочь. Армия их славная.
И перешел на другую тему.
НАЦИОНАЛИЗМ ЦАРЯ
Подобно отцу, Николай II придерживался всего специфически русского. Помню фразу, сказанную им знаменитой исполнительнице русской народной песни Плевицкой после ее концерта в Ливадии:
– Мне думалось, что невозможно быть более русским, нежели я. Ваше пение доказало мне обратное; признателен вам от всею сердца за это ощущение.
Царь был большим знатоком родного языка, замечал малейшие ошибки в правописании, а главное, не терпел употребления иностранных слов.
Помню один разговор с ним по этому поводу. Как-то за чаем беседовали о русском правописании. Принимал участие и князь Путятин. По желанию государя Путятин принес составленный им список названий родни по-русски, даже весьма отдаленной, по которому тут же царь экзаменовал и нас. Никто не знал весьма многих, в свете мало употребляемых терминов, что очень радовало детей.
– Русский язык так богат, – сказал царь, – что позволяет во всех случаях заменить иностранные выражения русскими. Ни одно слово неславянского происхождения не должно было бы уродовать нашего языка.
Я тогда же сказал Его Величеству, что он, вероятно, заметил, как я их избегаю во всеподданнейших докладах.
– Верится мне, – ответил царь, – что и другим ведомствам удалось внушить эту привычку. Я подчеркиваю красным карандашом все иностранные слова в докладах. Только министерство иностранных дел совершенно не поддается воздействию и продолжает быть неисправимым.
Тут я назвал слово, не имеющее русского эквивалента:
– Как же передать «принципиально»?
– Действительно, – сказал царь, подумав, – не нахожу подходящего слова.
– Случайно, Ваше Величество, я знаю слово по-сербски, которое его заменяет, а именно «зачельно», что означает мысль за челом.
Государя это очень заинтересовало, и он заметил, что при первой возможности учредит при Академии наук комиссию для постепенной разработки русского словаря наподобие французского академического, являющегося авторитетным руководством как для правописания, так и для произношения.
Только в одной области царь (и этого нельзя ставить ему в вину) допускал послабление своего национализма: большой знаток музыки, он одинаково ценил как Чайковского, так и Вагнера. «Кольцо Нибелунгов» было поставлено на императорской сцене по его личному почину и возобновлялось регулярно в каждом сезоне.
Добавлю, что национализм Николая II не носил того крайнего, почти монолитного характера, как у Александра III. Сын был гораздо тоньше и культурнее отца, да и не располагал энергиею, чтобы приводить в действие крайности, в которые иногда впадал Александр Александрович. Николай II, правда, надевал дома красные крестьянские рубахи и даже дал их, под мундир, стрелкам императорской фамилии. Носились также с грандиозной мыслью об уничтожении современных придворных мундиров с заменою их боярскими костюмами московской эпохи. Даже поручили одному художнику изготовить нужные рисунки. В конце концов пришлось отступить пред чрезмерными затратами, которые были бы вызваны подобным планом. Когда подумаешь об одной парче да мехах, не говоря о самоцветных камнях и жемчугах…
Время было уже не то (или еще не то), чтобы проявления воинственного национализма могли успешно вызревать при дворе Николая II.
ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ
В одной лишь среде царь чувствовал себя по-товарищески: среди военных.
Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене снаряжения пехоты государь решил проверить предложенную систему сам и убедиться в ее пригодности при марше в 40 верст. Он никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект нового обмундирования, данного для испробования находившемуся близ Ливадии полку. Надев его, вышел из дворца совершенно один, прошел 20 верст и, вернувшись по другой дороге, сделал всего более 40, неся ранец с полною укладкою на спине и ружье на плече, взяв с собою хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату.
Вернулся царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в восемь или восемь с половиною часов, считая в том числе и время отдыха в пути. Он нигде не чувствовал набивки плечей или спины, и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил.
Командир полка, форму коего носил в этот день император, испросил в виде милости зачислить Николая II в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Государь на это согласился и потребовал себе послужную книгу нижнего чина, которую собственноручно заполнил. В графе для имени написал: «Николай Романов», о сроке же службы – «до гробовой доски».
Конечно, впоследствии об этом узнали военные газеты, а затем и широкая публика. Не все, однако, знают, что император Вильгельм в письме к государю поздравил его с этою мыслью и ее исполнением, но, говорят, в несколько кислых выражениях. А наш военный агент в Берлине сообщил, что кайзер потребовал перевода всех статей по этому предмету из русских газет и досадовал, что не ему, германскому императору, пришла эта мысль.
После доклада этих сведений военным министром царь пожалел, что разрешил предать гласности испробованную им перемену снаряжения.
ЛУЧШЕ САМОМУ ПРОВОДИТЬ ИХ НА ФРОНТ
Царь считал себя военным, первым профессиональным военным своей империи, не допуская в этом отношении никакого компромисса. Долг его был долгом всякого военнослужащего.
Поясню примером, восходящим еще ко времени русско-японской войны.
Всем известна эта несчастная кампания: части следовали за частями; астрономические расстояния, отделявшие Европейскую Россию от театра военных действий (при незавершенной Круго-Байкальской железной дороге), пожирали наши войска совершенно бесследно. Жертвы все нарастали. Главнокомандующий Куропаткин повторял: «Терпения, терпения». Месяцы текли, а успехов все не было. Мало утешительного слышалось и писалось с фронта: доходили слухи о недоразумениях среди высшего начальства – признак нехороший.
Государь начал объезжать войска и благословлять их пред выступлением в поход. Речи царя к частям были весьма удачны и, особенно говорившиеся экспромтом, производили сильное впечатление. Заканчивались проводы войсковой части вручением ей иконы, благословлением от императрицы и государя.
Николай II становился все молчаливее. Чувствовалась под наружною сдержанностью безусловная тревога. Наконец и у него прорвались слова:
– Пожалуй, было бы лучше, чем провожать войска, самому проводить их на фронт.
Немногие из присутствовавших обратили внимание на это восклицание. Впоследствии оно было для меня настоящим откровением: в интересах почти что колониальной войны, ради сражений, протекающих где-то в Китае, в двадцати днях железнодорожной езды от столицы, царь стремился отбыть на фронт. Его долгом, думал он, было стать посреди своих воинов, разделив их тяготы.
ВЕРХОВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ
Великая (первая мировая) война.
Зимний дворец, как и в японскую войну, превратился в громадную мастерскую для изготовления белья и санитарных принадлежностей, а затем стал огромнейшим госпиталем, обставленным по последнему слову науки благодаря необыкновенным заботам императрицы.
Первые успехи.
Все ликовали. Лично я был в особо радостном настроении, что мой родной конный полк отличился под Коушином, заставив отступить 2-ю ландверную бригаду, причем взятие батареи эскадроном барона Врангеля (впоследствии командующего Добровольческой армии) значительно способствовало этому успеху нашей кавалерии. Равно меня радовали письма сына, говорившие о славных делах лейб-казачьего полка, в котором он служил.
Однако мало-помалу потери на войне увеличивались… Наступление остановилось… затем неудачное сражение под Танненбергом… уничтожение самсоновской армии… общее отступление… бесславные сдачи крепостей… массовые эвакуации гражданского населения целых областей, в особенности еврейского, под угрозою вражеской оккупации… огульные подозрения в шпионстве.
Общественное мнение становилось тревожным.
Ставка выставила в свое оправдание две причины неудач: недостаток в снарядах и германский шпионаж. Козлом отпущения явился военный министр Сухомлинов. Для поддержания этих тезисов по требованию великого князя Николая Николаевича сменили военного министра и отдали его под суд, а для подтверждения версии о шпионаже был повешен жандармский полковник Мясоедов и начались ссылки лиц, носивших немецкие фамилии. В последнем особенно усердствовал начальник контрразведки генерал Бонч-Бруевич.
Общественность, получив возможность кого-либо обвинять, с радостью набросилась на указываемых виновников.
Что касается так называемых сфер, то мнения там расходились: одни поддерживали указываемые ставкою слухи, другие, не высказываясь во всеуслышание, видели главного виновника военных неудач в Николае Николаевиче. Великому князю ставили в вину нерешительность и, с другой стороны, такую строгость с начальствующими лицами, которая отнимала у тех всякую инициативу. Бывали случаи самоубийства из страха обидно-грубых нареканий.
Военные неудачи мало отражались на популярности Николая Николаевича: скорее порождали мысль в обществе и в высших кругах, что при условии неограниченности его полномочий успехов было бы больше.
Государь хорошо сознавал положение дел на фронте. Не обеляя полностью действий военного министра, он считал, что нападки на Сухомлинова должны были скрывать неудачные распоряжения верховного командования. Страх же шпионажа был лишь обычным средством сокрытия настоящих причин наших поражений. Царь, по своей натуре, не высказывал недовольства, которое, безусловно, накоплялось в нем.
Несмотря на правильное понимание этого периода войны, царь не сделал ни одного шага, могущего дискредитировать Верховного, до дня отрешения его от должности: вот почему оно и явилось для всех такою неожиданностью. Скажу больше: я чувствовал в царе такой наплыв любви к родине и жажды ее величия, что даже в случае больших удач он не возымел бы приписываемой ему часто ревности к популярности великого князя. В данном случае подобное чувство отходило на задний план пред искренним, глубоким патриотизмом. Возвышенность и сила этого чувства выявились особенно во время заточения государя и не покидали его вплоть до кончины.
Но одновременно он отлично сознавал и все последствия смены командования. Нет ничего опаснее во время военных действий как такая смена начальника, окруженного людьми, ему уже известными и оцененными по достоинству, и передача его обязанностей другому лицу.
Приходится коснуться вопроса о возложении царем на себя звания главнокомандующего – одного из самых загадочных и трагических обстоятельств этой эпохи. Прямолинейное и бескомпромиссное чувство военного долга пагубно отразилось на судьбах империи.
Продвижение противника в глубь России действовало удручающе на армию и народ. Царь считал, что своим вступлением в командование он поднимет дух войск и даст толчок, могущий остановить движение немцев. Конечно, в случае неудачи он рисковал своим троном, но у него было убеждение в конечной победе. Успех все бы покрыл, и Россия стала бы всесильною. Мог ли он предвидеть крушение империи и народные судороги, последовавшие за этою катастрофою, когда вокруг него никто ясно этого ему не высказывал?
Государь полагал, что он один мог сменить великого князя благодаря своему знанию командного состава армии. Этим избегалась обычная ломка ее организации. Заменою же Янушкевича Алексеевым царь надеялся придать иной ход военным действиям.