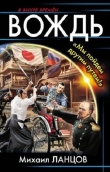Текст книги "Другой Ленин"
Автор книги: Александр Майсурян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Как правило, сохраняя свое мнение, Ленин не вмешивался в борьбу направлений в живописи. Он говорил: «Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своего идеала, независимо ни от чего».
«Я себя за специалиста в вопросах искусства не выдаю», – говорил Ленин. «Он всегда сознавал себя в этом отношении профаном, – писал Луначарский, – и так как ему всегда был чужд и ненавистен всякий дилетантизм, то он не любил высказываться об искусстве». Все же Ленин счел возможным однажды посоветовать архитектору Ивану Жолтовскому: «Делайте красиво, но только помните, без мещанства!»
«Невмешательство» Ленина в искусство отразилось и в позднем советском фольклоре. О чем свидетельствует один из немногих положительных по отношению к Ленину анекдотов 60-х годов: «Ленин и Луначарский на выставке художников-футуристов в 1920 году.
– Ничего не понимаю! – говорит Ленин.
– Ничего не понимаю! – говорит Луначарский.
Это были последние советские вожди, которые ничего не понимали в искусстве».
Футуризм оставался преобладающим направлением в советском искусстве вплоть до середины 30-х годов, когда серия знаменитых статей в «Правде» – «Сумбур вместо музыки», «Какофония в архитектуре», «О художниках-пачкунах»… – возвестила о победном возвращении старого, «белогвардейского» искусства – реализма.
«Я в этом ничего не понимаю».Терпимость Ленина к «новому искусству» доходила до того, что в мае 1920 года он разрешил скульптору-футуристу Натану Альтману делать с него портрет. Правда, потом, когда работа уже началась, вежливо спросил, будет ли его голова «футуристической». «Я объяснил, – писал Альтман, – что в данном случае моей целью является сделать его портрет и что эта цель диктует и подход к работе. Он просил показать ему «футуристические» работы. Когда я ему показал, Ленин сказал: «Я в этом ничего не понимаю, это дело специалистов». Как можно догадаться, показанные работы Альтмана Ленину не понравились.
Альтман продолжал: «Солнце проникало сквозь окна и сушило глину. Ее приходилось усиленно поливать». Скульптор попросил в свое отсутствие самого Владимира Ильича следить за увлажнением глины. Из-за чего произошел следующий забавный случай, описанный большевиком Николаем Милютиным. «Однажды я зашел по какому-то поводу в секретариат Ленина. Вдруг слышим из кабинета громкий, заливчатый смех Владимира Ильича. Через минуту оттуда пулей вылетела Наташа Лепешинская, сотрудница секретариата, вся пунцовая, чуть не плача. После долгих расспросов она рассказала, что произошло в кабинете. Скульптор Альтман в то время лепил из глины голову Ленина. С согласия Владимира Ильича скульптор работал в кабинете Ленина, но с условием – не отрывать его от занятий. В перерывах скульптура накрывалась мокрой тряпкой, чтобы глина не сохла.
Уходя, Альтман попросил Владимира Ильича намочить вечером тряпку. Владимир Ильич позвал Наташу и велел принести чайник холодной воды, а сам, сидя за столом, углубился в работу. Наташа принесла воду. Владимир Ильич, не отрываясь от работы, сказал:
– Вылейте, пожалуйста, на мою голову.
Растерянная, недоумевающая Наташа с чайником в руках боязливо подходит к Владимиру Ильичу сзади и останавливается в нерешительности: лить или не лить?
Владимир Ильич обертывается, с удивлением смотрит на Наташу, а затем принимается хохотать, хватаясь за бока:
– Да не на эту, а вон на ту голову!
Показывает на скульптуру и хохочет».
«Шуты гороховые вроде Маяковского».М. Горький вспоминал разговоры с Лениным о современной поэзии: «К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:
– Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, – не го и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим!»
Между прочим, один раз Ленин и Маяковский беседовали лично – глава правительства поздно вечером позвонил в Российское телеграфное агентство (РОСТА):
– Кто у вас есть?
– Никого, – отвечал поднявший трубку Маяковский.
– Заведующий здесь?
– Нет.
– А кто его замещает?
– Никто.
– Значит, нет никого? Совсем?
– Совсем никого.
– Здорово!
– А кто говорит?
– Ленин, – ответил председатель Совнаркома, вешая трубку.
Маяковский долго не мог опомниться после этого разговора…
А. Луначарский отмечал, что «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной и штукарной». Ленин писал об этой поэме: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков».
Подтверждала это отношение Ленина и Крупская: «Новое искусство казалось Ильичу чужим, непонятным. Однажды нас позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Грозовская декламировала Маяковского «наш бог – бег, сердце – наш барабан» и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, когда Грозовскую сменил какой-то артист, читавший «Злоумышленника» Чехова.
Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке – Варе Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в 1921 году. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было, «зато у нас есть крупа!» – с сияющим лицом заявил дежурный член коммуны – вхутемасец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хоть и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц – их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами.
– Что вы читаете? Пушкина читаете?
– О, нет! – выпалил кто-то, – он был ведь буржуй! Мы – Маяковского!
Ильич улыбнулся:
– По-моему, Пушкин лучше».
– Я вот Маяковского несколько раз пробовал прочесть, – признался Ленин, – и никак больше трех строчек не смог, все засыпаю. Уж как-нибудь соберусь, заставлю себя выдержать… А как вы считаете Некрасова?
Молодые художники заспорили между собой, но под конец сошлись на том, что для нового времени Некрасов уже устарел:
– Нам теперь нужно другое.
Владимир Ильич стал защищать Некрасова:
– Ведь на Некрасове целое поколение революционеров училось.
Студенты дали Ленину посмотреть свою стенную газету, и он нарочито медленно прочитал лозунг из Маяковского: «Мы, разносчики новой веры, красоте задающей железный тон. Чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон». Шутливо запротестовал:
– Зачем же в небо шарахать? Железобетон нам на земле нужен… «Шарахаем» – да ведь это, пожалуй, не по-русски, а?..
«Владимир Ильич отшучивался от них, – писал Луначарский, – насмехался немножко, но и тут заявил, что серьезно говорить о таких предметах не берется, ибо чувствует себя недостаточно компетентным». Сказал, что должен почитать литературу о футуризме в живописи и поэзии, затем приедет еще раз и тогда обязательно всех переспорит.
– Ну, – смеялся Ленин, – я теперь прямо боюсь с вами спорить, с вами не сладить, а вот почитаю, тогда посмотрим.
– Мы вам, Владимир Ильич, доставим литературу, – пообещал ему художник Сергей Сенькин. – Мы уверены, что и вы будете футуристом. Не может быть, чтобы вы были за старый, гнилой хлам, тем более что футуристы пока единственная группа, которая идет вместе с нами, все остальные уехали к Деникину.
«После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому, – заключала свой рассказ Крупская. – При этом имени ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского».
Выступая с речью 6 марта 1922 года, Ленин даже похвалил стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся»: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но я давно не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».
Эта похвала входила почти во все книги о Маяковском – с начала 30-х годов, когда поэт получил посмертное официальное признание. Менее известно, что уже после разговора во Вхутемасе Ленин (в разговоре с П. Красиковым) как бы продолжал начатый там спор: «Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукарство, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению, революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны, – пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже».
После смерти Маяковского, как известно, объявили «классиком». «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», – заявил Сталин. Такое отношение в целом сохранялось вплоть до 90-х годов. Но «восстановили в правах» и Пушкина. Столетие гибели поэта в 1937 году отмечалось с грандиозным, небывалым размахом. Намерение футуристов «сбросить Пушкина с Парохода современности» окончательно предали забвению. Хотя некоторые в разгар этого пушкинского чествования мрачно шутили: «Живи Пушкин в наше время, он тоже бы умер в 37-м году».
«Все театры советую положить в гроб».Традиционные театры после Октября 1917 года стали одним из островков канувшей в Лету дворянской культуры. Неудивительно поэтому, что в печати они подвергались постоянной критике. Характерная шутка начала 20-х годов:
«– Почему этот театр называется: Большой Государственный Академический?
– Ну, что же непонятного. Большой – потому, что рядом с Малым, Государственный – потому, что государственные деньги зря переводит, а насчет Академического – так это просто так, для затемнения…»
Ленин во многом разделял подобный критический настрой. Хотя сам и любил театр. «Оперу любил больше балета», – замечала о нем Крупская. В 1901 году Владимир Ильич писал матери: «Был на днях в опере, слушал с великим наслаждением «Жидовку»: я слышал ее раз в Казани (когда пел Закржевский), лет, должно быть, 13 тому назад, но некоторые мотивы остались в памяти». Однако, возможно, именно потому, что Ленин питал личную слабость к опере, теперь он считал своим долгом добиваться ее закрытия.
«Должны ли мы, – риторически спрашивал Ленин в 20-е годы, – небольшому меньшинству подносить сладкие, утонченные бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе?.. В то время как сегодня в Москве, допустим, десять тысяч человек, а завтра еще новых десять тысяч человек придут в восторг, наслаждаясь блестящим спектаклем в театре, – миллионы людей стремятся к тому, чтобы научиться по складам писать свое имя и считать, стремятся приобщиться к культуре, которая обучила бы их тому, что земля шарообразна, а не плоская и что миром управляют законы природы, а не ведьмы и колдуны совместно с «отцом небесным».
«Да, – соглашался Ленин, – балет, театр, опера, выставки новой и новейшей живописи и культуры – все это служит для многих за границей доказательством того, что мы, большевики, вовсе не такие ужасные варвары, как там думали… Но, признаюсь, мне больше по душе создание двух-трех начальных школ в захолустных деревнях, чем самый великолепный экспонат на выставке».
В феврале 1921 года, когда Ленин был в гостях у студентов Вхутемаса, он спросил:
– Ну, а в оперу ходите?
– Там уж совсем для нас нет ничего интересного!
– Как же так, – лукаво удивился Ленин, – а вот товарищ Луначарский очень бьется за то, чтобы сохранить оперу.
Зашла речь об опере «Евгений Онегин». Все пылко выступили против:
– Все мы единодушны против «Евгения Онегина». «Евгении Онегины» нам в зубах навязли…
– Вот как, – засмеялся Ленин, – вы, значит, против «Евгения Онегина»? Ну, уж мне придется тогда быть «за», я ведь старый человек.
– Да, Владимир Ильич, мы надеемся, что и вы с нами будете против этого нытья. Теперь для этого просто времени не хватает.
– А я, – признался Ленин, – грешным делом, люблю слушать эту оперу.
Трудно сказать, повлиял ли на Ленина этот спор, но летом того же 1921 года он внес в Политбюро предложение о закрытии Большого театра. Он пояснял: «Неловко содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне».
«Я на одном из заседаний, – вспоминал Луначарский, – оспаривал его нападения на Большой театр. Я указывал на несомненное культурное значение его. Тогда Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: «А все-таки это кусочек чисто помещичьей культуры, и против этого никто спорить не сможет!»… Специфически помещичьим казался ему весь придворно-помпезный тон оперы». Предложение Луначарского сохранить Большой театр Ленин назвал «совершенно неприличным». «Все театры советую положить в гроб», – категорично заявил Владимир Ильич.
И Ленин… проиграл, остался в меньшинстве. Вот как описывал эту историю В. Молотов: «Летом 1921 года Ленин предлагал закрыть Большой театр. Говорит, что у нас голод, такое трудное положение, а это – дворянское наследство. В порядке сокращения расходов можем пока без него обойтись… И провалился Ленин. Большинство – против… Я помню, что я тогда и голосовал в числе тех, которые не согласились… Единственный раз, когда я голосовал против Ленина».
Метр, литр, грамм и новый календарь.После Октября взамен старинных аршинов, верст и фунтов в России утвердились новые единицы: метры, километры и килограммы. В свое время они были введены еще в революционной Франции. Из всех перемен революции эта встретила, пожалуй, меньше всего сопротивления. Хотя среди простого народа ее приняли не сразу. Характерная шутка из печати того времени:
«Метрическое.
– Прихожу в молочную, дайте, говорю, молока…
– Литр вам?
– Не литр, а молока…
– Литр?
– Да молока же…
– Литр?!!!
– Ну, дайте хоть литр…
Дали этого самого литра, а оно, оказывается, ни дать ни взять – молоко…»
Гораздо большее противодействие вызвало в обществе введение григорианского календаря. Согласно подписанному Лениным декрету, после 31 января 1918 года наступало не 1 февраля, а 14-е. Россия, таким образом, догнала по календарю Европу, от которой отставала в XX веке на 13 суток.
Однако православная церковь не пожелала подчиняться этому декрету и переходить на новый стиль. Таким было общее настроение верующих, изменить которое не удавалось. В столь упорном неповиновении власти усматривали явный вызов и старались его сломить. Часть духовенства в 20-е годы все-таки перешла на новый стиль. Шутки 1923 года (из журнала «Дрезина»):
«Успевают.
– А Успение вы, батюшка, как праздновали, по старому или по новому?
– А и так, и сяк, милая.
– Как же это вы успеваете?!
– А на то, милая, оно и Успение… Хе-хе-хе».
«– Трудно договориться насчет рождества! Бабушка желает праздновать по старому стилю. Маменька по новому, а папаша – по Петротекстилю: говорит, – когда жалованье выдадут, тогда и праздник!»…
В конце концов, однако, государство смирилось с тем, что церковь живет по старому, юлианскому стилю. Острая борьба с церковью не утихала вплоть до 40-х годов, но шла уже по другим вопросам.
«Талантливая книжка озлобленного белогвардейца».Ленин очень любил читать черносотенную и другую правую печать. Он считал, что она выражает взгляды врагов гораздо откровеннее, честнее, чем умеренная. «Жаль, – замечал он, – что социал-демократы не ловят этих искорок правды у черной сотни». В 1917 году, скрываясь от ареста, Ленин спрашивал товарищей: «Нельзя ли достать газет крайних правых партий?»
«Приходилось доставать, – вспоминал журналист Юкка Латукка. – Особенно набрасывался Ильич на черносотенные газеты».
Эту свою привязанность к писаниям врагов Ленин сохранил и после Октября. М. Скрыпник вспоминала, как он читал кадетские газеты: «Вот он взял свежий номер «Речи»… Читая… Ленин не раздражался, наоборот, посмеивался с довольным видом… Глядя на него в эти минуты, я вспоминала известные слова Бебеля: «Если нас поносят наши враги, значит, мы поступаем правильно». Однажды она спросила, почему кадетские газеты до сих пор продолжают выходить.
«Закроем газеты, – отвечал Ленин, – не будем знать, что думают о нас наши враги».
Впрочем, в августе 1918 года, когда гражданская война заполыхала вовсю, либеральные газета в красной России все-таки закрыли, и они перекочевали в Россию белую. Однако независимые издания в Советской республике выходили и позднее, вплоть до середины 20-х годов, и Ленин их внимательно читал.
В 1921 году русский сатирик и юморист Аркадий Аверченко выпустил в Париже сборник рассказов «Дюжина ножей в спину революции». Вскоре Ленин напечатал в «Правде» свой отзыв, озаглавленный «Талантливая книжка». «Это, – писал Ленин, – книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко… Большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда – и большей частью – яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, напр., «Трава, примятая сапогами», о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну.
До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде – нет, не в Петрограде, а в Петербурге – за 14 с полтиной и 50 р. и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность – из ряда вон выходящие».
Ленин пересказывает содержание одного из рассказов («Осколки разбитого вдребезги»), где два «бывших» – директор завода и сенатор – тоскуют о прошлом. «Оба старичка вспоминают старое, петербургские закаты, улицы, театры, конечно, еду в «Медведе», в «Вене» и в «Малом Ярославце» и т. д. И воспоминания перерываются восклицаниями: «Что мы им сделали? Кому мы мешали?»… «Чем им мешало все это?»… «За что они Россию так?»… Аркадию Аверченко не понять за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях».
В сборнике Аверченко был и рассказ, высмеивавший лично самого Ленина. Он изображал его в виде «мадам Лениной», взбалмошной и капризной супруги товарища Троцкого. По этому поводу Ленин высказался так: «Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете». Свой отзыв Ленин завершал пожеланием: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять». Это пожелание было исполнено: рассказы из «Дюжины ножей…» вошли в советский сборник Аверченко «Осколки разбитого вдребезги» (1926). В книгу включили и довольно хлесткие оценки советской власти (сатирик, например, приписывал чекистам лозунг «Палачи всех стран, соединяйтесь!»).
Впрочем, Аверченко был далеко не единственным белогвардейцем, чьи книги охотно печатали в Советской России. Например, в 20-е годы выходили мемуары генерала Антона Деникина. На полях этой книги Ленин оставил пометку: «Автор подходит к классовой борьбе, как слепой щенок». Печатали воспоминания монархиста Василия Шульгина (их тоже с интересом читал Ленин). Шульгин так передавал свои чувства при виде революционной толпы в Феврале 1917 года: «Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство… Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы – этот зверь был… его величество русский народ…» В 20-е годы Шульгин выдвинул лозунг (вполне серьезно, в отличие от Аверченко): «Фашисты всех стран, соединяйтесь!»…
А в 60-е годы Василий Шульгин, сохранивший свои монархические взгляды и приверженность Столыпину, стал заметной общественной фигурой в СССР. Шульгин снялся в посвященном ему документальном кинофильме, выпустил сборник новых статей («Письма к русским эмигрантам») и даже был приглашен в качестве гостя на XXII съезд КПСС… Шульгин считал, что многие из «белых идей», о победе которых он мечтал в годы гражданской войны, стали в послевоенном Советском Союзе реальностью.
«Какой чудовищный филистер!».Ленин считал, что революционеру необходимо сочетать реализм с фантазией. «Эта способность [фантазия] чрезвычайно ценна, – говорил он в одной из речей. – Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии». «Я вам по секрету скажу: мы должны уметь фантазировать, уметь мечтать, оставаясь при этом архиреалистами».
В октябре 1920 года Ленин встретился с самым известным фантастом своего времени – английским писателем Гербертом Уэллсом. На фотографии этой беседы у Владимира Ильича необыкновенно мечтательное выражение лица. Он с удовольствием рассуждал на самые далекие от повседневной жизни темы. Уэллс писал в своей записной книжке: «Ленин сказал, что, читая роман «Машина времени», он понял, что все человеческие представления созданы в масштабах нашей планеты: они основаны на предположении, что технический потенциал, развиваясь, никогда не перейдет «земного предела». Если мы сможем установить межпланетные связи, придется пересмотреть все наши философские, социальные и моральные представления; в этом случае технический потенциал, став безграничным, положит конец насилию как средству и методу прогресса».
В разговоре Владимир Ильич, между прочим, поделился с Уэллсом своим планом электрификации России. Забавно, но британскому фантасту этот план показался чересчур фантастическим. Позднее Уэллс писал, что Ленин «впал в утопию, утопию электрификации… Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами… Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром». Вернувшись на родину, Уэллс издал книгу «Россия во мгле», где снисходительно называл Ленина «кремлевским мечтателем».
(Как известно, позднее план Ленина был осуществлен, и электрические лампочки среди крестьян получили название «лампочек Ильича».)
«Помню очень хорошо то впечатление, которое вынес Владимир Ильич из беседы с Уэльсом, – вспоминал Троцкий. – «Ну и мещанин! Ну и филистер!» – повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за другого человека». «Какой чудовищный мещанин! – повторял Ленин, покачивая головой. – Ай-я-яй, какой филистер!»
Н. Устрялов в статье, посвященной памяти Ленина, замечал: «Бывают эпохи, когда жизнью правят фантасты, а «люди реальной жизни», отброшенные и смятые, погружаются в царство призраков. Мечтатели и фантасты становятся реальнейшим орудием судьбы… Обычно эти эпохи потом называют – «великими»…
«Будут врать без конца».Задумывался ли Ленин, каким его собственный образ останется в веках? Однажды в 1920 году ему пришлось посмотреть английский художественный фильм… о самом себе. Правда, он не сразу об этом догадался. Пленку привез из Англии Леонид Красин – специально в качестве сюрприза Владимиру Ильичу. Большевичка Елизавета Драбкина так описывала этот просмотр:
«По аллее старинного парка шло некое существо… Не сразу стало ясно, что это мужчина, ибо одето оно было в длинный до пят кафтан, украшенный черкесскими газырями, и высокую боярскую шапку, из-под которой выбивались длинные волосы. Но спасибо титру, он объяснил, что это «Prince Lenoff», сын богатого помещика, владелец нескольких тысяч крепостных.
Войдя в беседку, князь Ленофф достал из-под полы своего собольего кафтана толстую книгу – и титр сообщил, что это «forbidden foreign books» и что князь Ленофф читает сии запрещенные иностранные книги потому, что он «одержим странной идеей равенства»…
Он покидает отчий дом!.. Он в Петербурге… Идет по набережной реки. «Volga, Volga», – поясняет титр. В Петербурге князь Ленофф предается заговорщической деятельности (черные очки, черная пелерина, черные зонтики, черные парики). В каморке, под крышей он начиняет бомбы. Вздрагивает, оборачивается к двери. Она падает под напором тяжелых кулаков: полиция! Князя Леноффа сажают в карету и везут в тюрьму… И в эту минуту в зале раздался веселый, неудержимый смех Владимира Ильича, ибо сейчас он понял, что под именем князя Леноффа выведен он. Понял это и весь зал – и тоже залился хохотом».
Л. Троцкий вспоминал, что по какому-то поводу заметил Ленину:
«– Надо бы это записать, а то потом переврут. Он с шутливой безнадежностью махнул рукою: – Все равно будут врать без конца».