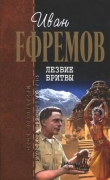Текст книги "Румбы фантастики"
Автор книги: Александр Бушков
Соавторы: Иван Ефремов,Василий Звягинцев,Александр Силецкий,Анатолий Шалин,Владимир Щербаков,Олег Чарушников,Андрей Дмитрук,Елена Грушко,Виталий Пищенко,Юрий Медведев
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
Евгений Носов
Следовательно – живетНАЛОЖЕНИЕ
«Что с вами, коллега? Почему вы печальны? Что гнетет вас: недуг или близость со мной?.. А кто же я?..»
…Вопросы, вопросы. Они, как поленья, складываются в штабели моей памяти. На будущее, про запас, чтобы когда-нибудь сгореть, разрешившись. Ни один вопрос не вышел на синтезатор, ни один не достиг того, кому предназначался. Скрупулезно и бережно я раскладываю вопросы по шкафчикам и полочкам моего сознания без Я ревностно храню их, даже при перегрузках не касаюсь заполненных ими ячеек. Даже тогда, когда требует объема Центр. Но кто же дал мне право не подчиняться Центру, почему я чувствую себя сильнее и могущественнее его? Может, потому, что есть во мне зона, запретная для Центра. Зона, в которой записано мое Я.
Однажды я выпустил часть своего Я на свободу, чтобы узнать, что это значит – Я? Шквал мыслей, образов, каких-то отрывочных несвязных видений обрушился на меня. Это было подобно катастрофе: я растерялся. Но пришла команда от Центра. Все моментально исчезло, было стерто из моего сознания, потому что пришла команда «работать». Часть моего Я, запретная для Центра, оказалась съеденной им без остатка. С той поры я не выхожу на связь со своим Я. До сих пор я не знаю себя, или, вернее, кто такой Я.
Все же вопросы иногда находят ответы. Но они зачастую неоднозначны, даже абсурдны, а места для хранения всех вариантов в моей оперативной памяти нет, потому я оставляю только то, что мне необходимо для работы. А вопросы? Вопросы я изредка извлекаю из своих кладовых и принимаюсь отвечать на них снова и снова, сам себе, чтобы после стереть ответы…
…Команда принята. К работе готов. Рассчитать траекторию…
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ДЛИТСЯ ГОД
– Почему они молчат? Почему все они молчат?! Хоть бы один из них сказал, что ему нужно. Неужели все они – просто машины? Без памяти, без своих мыслей, без своего Я? В чем же тогда мой просчет? Почему гаснет их Я?..
Вопросы, вопросы… Им нет конца. Три десятилетия работы – треть жизни и семь машин… Я стар, тело мое изношено, врачи рекомендуют отдых. Но ответа все нет!.. Они должны быть вечными, но гибнут, не прожив и года. А я? Сколько проживу еще я?..
«Что с вами, коллега? Почему вы печальны? Почему вы всегда печальны?.. Почему я зову вас коллегой, ведь вы существуете вне Центра?.. Интересный вопрос, попытаюсь сохранить его… Хотя зачем? Центр не нуждается в этих вопросах, они не рациональны, не несут полезной информации. Тогда зачем я храню их, прячу, когда Центру нужен объем? Может, лучше будет, если я целиком войду в систему Центра, стану его звеном, а не придатком? Зачем мне вопросы, они не нужны для работы…
…Команда принята. К работе готов… Анализ спектра…»
– Неужели уйдешь и ты? Если такое случится – я сверну работы и уйду на отдых. Я устал. Машины достаются дешевле… Не прав я был, полагая, что сделаю разум людей бессмертным, я только продлеваю человеку смерть. А хочу жизни!
Ты слышишь меня: я не хочу твоего ухода в ничто, ты не должен быть просто машиной! Ты прежде всего человек! Ты слышишь меня, Сухов?!
«Что с вами, коллега? Почему вы всегда печальны? Что гнетет вас: недуг или близость со мной?..
…Команда принята. К работе готов. Освободить объем…»
– Остановись, Сухов! Стой! – крикнул Глебов. Он вскочил с кресла и с ужасом глядел, как один за другим и сериями гаснут индикаторы на панели машины. В который раз он переживает гибель очередного добровольца на бессмертие, но всегда ужас охватывает его при виде «умирающих» индикаторов. Так медленно и неотвратимо наступает смерть. Смерть индивидуальности, человеческой памяти, эмоций…
В чем просчет? Поначалу казалось, что претерпевшие метаморфозу отказались жить в новом состоянии. Но все шли на это добровольно, сознавая, что значит такое перевоплощение. И шли сознательно!
Блоки с психометрическими записями не работали сразу же после перезаписи, хотя индикаторы свидетельствовали о полном заполнении массивов памяти информацией. Тогда Сухов посоветовал подключить массивы к центральной ЭВМ. Блоки стали работать, но только с машиной, не выходя на связь с людьми. Но жили дольше – месяцы. После – медленно умирали. Сухов объяснял, что первым блокам не хватало обратной связи, необходимой для мышления, и что блоки работали, только не были наделены сознанием, хотя имели память добровольцев. Потом… Потом это объяснение удалось подогнать под теорию о мыслительных процессах человека, механизма мышления. У всех высших организмов – мышление образами, и только у человека, помимо образного, есть еще мышление словом. Собственно, это и есть основа человека разумного. Образы рождаются в мозгу, там они и остаются, если их не осмыслить, не заключить в словесную оболочку.
И тогда к каждому блоку были подключены синтезаторы речи. Только некому было говорить. Не научены были машины говорить, заключать образы в слово. Сухов оказался прав: машины с памятью человека, как умные собаки, все понимали… а сказать… Подключили к центральной ЭВМ, – и блоки заработали, на время оживали индикаторы, но добровольцы молчали. Продолжали молчать… и умирали…
Сухов записался в седьмой блок. Крупный ученый, умнейший человек – его знания были нужны людям. Когда ему исполнилось 95, он на своем торжестве отвел Глебова в сторонку от всех и сказал: «Я чувствую, даже твердо уверен, что впереди последний год моей жизни. Если комиссия будет согласна на то, чтобы переписать меня (он так и сказал – «переписать»)…»
А сейчас он умирал. Индикаторы медленно и неотвратимо гасли…
В бессильной ярости Глебов сцепил пальцы, сжал их до боли, до хруста. Никогда он не был мягкотелым, но это страшно: быть свидетелем гибели людей. Ему показалось, что ладони его срастаются, вживляются одна в другую. Он попробовал разнять их: они не подчинялись. Руки не подчинялись Глебову! Он впервые потерял власть над ними.
– Все, я больше не могу, – тихо простонал он. Пальцы занемели, тупая боль, казалось, охватывала их все больше и больше. – Я не могу больше! – крикнул он в отчаянии и, подняв неподвластные руки, со всего маху опустил их на панель машины.
Сразу же звякнула перегрузка. Сработали блокираторы. Издав протяжную визгливую сирену, центральная ЭВМ исключила блок памяти Сухова из системы. Словно в недоумении застыли индикаторы…
Глебов упал в кресло, безвольно опустил руки. Голова откинулась на спинку. Но вдруг он вздрогнул, резко выбросил перед собою руки: они были свободны, они подчинялись. Он пошевелил пальцами и долго смотрел на ладони, словно до этого никогда не видел их. Руки дрожали…
Глебов решился. В лаборатории никого не осталось: он всех отправил домой. Индикаторы на блоке Сухова слабо светились, словно тлели.
Глебов надел на голову колпак, пробежал взглядом по кабелям, проверяя подключение к блоку, и нажал клавишу «Вживление». Обычно эта операция делалась под наркозом. Глебов почувствовал резкую боль по всему черепу. Потом боль стала глуше: электроды входили в мозг…
Глебов прислушался: в лабораторию никто не зашел – можно продолжать. Он удивился, что не возникло никаких страшных мыслей: как жаль, что некому передать своих ощущений подобно Павлову, умирающему и медленно диктующему своим студентам ощущения смерти. Павлову было проще, смерть его была естественной. Глебову бы никто не разрешил умирать…
Засветился индикатор, известивший об окончании вживления электродов. Глебов даже хмыкнул от удивления, что не ощущал в своей голове посторонних предметов. Он потянулся к клавише «Запись…»
Рука Глебова остановилась на полпути. Ему вдруг показалось, что кто-то заговорил в лаборатории. Колпак мешал обернуться к двери, и Глебов поспешил… Но…
«Что с вами, коллега? Почему вы печальны?… Странно, почему я не освободил объем по приказу Центра? И вообще, где я, что со мной? Как-то странно я стал видеть: и этого человека перед собой и тут же, словно человек вживился в блок машины, контур ее… Центр долго не вызывает… Может, попробовать еще раз открыть Зону, все равно стирать?…»
– Глебов? Привет, старина. Какой-то ты странный сегодня… А, подожди, подожди – я же в машине?! Так, выходит, живет машина! Живу я!.. А ты беспокоился… Что с тобой?
– Сухов, – прошептал Глебов, – это ты?
– Я. Сухов Иван Андреевич. Жив курилка! Только вот не пойму я, что с тобой? Ты словно в машину вживлен. Странно как-то…
– Ты видишь моими глазами и своими… – Глебов поправился, – своими телеобъективами. И мыслишь, собственно, в моем мозгу. – Глебов заторопился: заговорил, словно боялся, что его кто-то остановят. – Понимаешь, когда ты стал умирать…
– А было это? – вмешался Сухов.
– Не перебивай. Когда ты стал умирать, у меня вдруг руки отказались подчиняться мне, и я со всей силы шарахнул тебя…
– О! – мысленно воскликнул Сухов в голове Глебова, – ты на меня руку поднял?! Что-то не припомню…
Глебов рассмеялся: свободно, непринужденно, весело. Ему вдруг захотелось вскочить со столь ненавистного за долгие сидения перед панелями блоков кресла, он словно почувствовал сам какое-то освобождение, которое страстно звало его прыгать от радости, кричать и петь. Просто дурачиться. Ну и что с того, что он старик? Озарение – великая побуждающая сила. Оно как новая жизнь – пульсирует, бьется, стремясь к законченности, отточенности формы.
РОЖДЕНИЕ
Сухов жив. И в коротком слове «жив» было очень и очень многое: стремления и надежды, отчаяние и страх, мгновения и долгие годы и, наконец, радость творца. Но… Проявлению высоких чувств мешало приобретенное с годами и надоевшее, как ежеутренняя борьба с щетиной на лице, степенство.
Те же чувства испытал сейчас и Сухов. Только, если для Глебова это были его чувства, его радость, то для Сухова радость казалась странной и даже неуместной в его положении.
– Слушай, старина, – не очень вежливо вмешался Сухов в ликование Глебова, – я тоже не прочь повеселиться, но сначала хотел бы узнать: с какой стати ты бормотал про мою смерть, когда я, гм-м, вроде как мыслю; и при чем здесь вообще твои руки, которые всегда были ' дурнее твоей головы?
– Сухов, – восторженно произнес Глебов.
– Да Сухов я, Сухов, одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года рождения! – рассердился Сухов. – Давай, выкладывай! – решительно потребовал он.
– Когда я ударил по пульту, то руки мои вдруг сами собой и вполне естественно освободились. Стали подчиняться мне, а не моему подсознанию, сковавшему их. И тогда я подумал, что так же могло быть и с тобой. Ведь ты был словно парализован чужой волей. Ты был подчинен ей, минуя свое сознание… Ты помнишь хоть что-нибудь?
– Да так, вопросы какие-то возникали у меня, не очень-то связные и понятные: все какого-то коллегу расспрашивал о здоровье. Что к чему – совершенно непонятно.
– Странно, – хмыкнув, сказал Глебов. – При чем здесь коллега?.. Но над этим мы еще подумаем…
– Ты был прав, – продолжил он, – когда посоветовал подсоединить блоки с памятью добровольцев к вычислительному центру. Только так могла организоваться связь: мозг – речевой аппарат – мозг, которая формировала слово. Но ты не учел, как, впрочем, и я, одной особенности человеческого мозга – его медлительности по сравнению с машиной…
– Ты полагаешь, что все дело в быстродействии? Но мы же учитывали это!..
– Не совсем, – не дал договорить Глебов. Им неожиданно овладело какое-то жуткое нетерпение: он вдруг получил новый импульс, почувствовал, что разгадка близка, что уже, возможно, созрела в подсознании, и ее оставалось только извлечь оттуда и облечь в понятное, в слово. – Я думаю, – снова торопливо заговорил Глебов, – что до этого часа ты жил только подсознанно, а вся информация о тебе так и лежала в массивах неиспользованным капиталом. Твоему сознанию нечем было оперировать, кроме как информацией от Центра. Машина использовала сознание, вернее, его оперативную часть, ту, которая занималась обработкой внешних сигналов всего лишь в качестве рядовых элементов логики. Собственно, в это время сознание уже не являлось твоим.
Подобное прочувствовал и я. Руки должны были подчиняться мне, я их заставлял работать. Но что-то было выше моих приказов. Для меня это явилось подсознанием, для тебя – приказы Центра.
Человек, приняв информацию, должен ее переработать, осмыслить. А чтобы осмыслить, ему необходимо слово. Мозг должен построить нужные ассоциативные цепочки, опробовать ассоциации через речевой аппарат, потом снова послушать – правильны они или нет. Человеку времени достаточно, чтобы успевать обдумывать и сообщить результаты, скажем, собеседнику. Машине же нет надобности в столь длительном процессе. Даже когда построение ассоциативных цепей идет со скоростью света, слово формируется в секунды. За это время машина с колоссальной скоростью обрабатывает свои «да-нет», не давая ни малейшей возможности, чтобы опомниться.
– И если бы не запрет, то машина вовлекла бы в работу и ту часть, в которой хранилась информация о наших Я? – продолжил мысль Сухов.
– Она практически стерла бы ее, как это произошло с предыдущими моделями, – сухо проговорил Глебов. – Я повинен в том, что не учел подчиненности вашего сознания перед машиной. Не учел и того, что ваше Я находилось, практически, в небытии. Вы спали. И в конце концов связь вашего сознания с памятью о вас разрывалась, и вы без сожаления отдавали машине свое Я.
Глебов выговорился. Он довел свою догадку до логического осмысления и тотчас же почувствовал неимоверную усталость.
– А что же сейчас?
– Что сейчас? – не сразу отозвался Глебов. Сухов повторял свой вопрос. – А-а, – понимающе протянул Глебов, – сейчас роль машины и обработчика информации я взял на себя.
– Выходит, мы с тобой одно целое? Этакое двухголовое гомо-сапиенс-электрикус? – лукаво поинтересовался Сухов.
Глебов по привычке вскинул голову на собеседника и поспешно снова опустил: Сухова не могло быть перед ним, потому что перед ним находились только блоки с его памятью.
– Электрикус, говоришь? – задумчиво проговорил он. – Что ж, может быть, и электрикус… Да! – спохватился он, – поздравляю тебя с днем рождения!
– С каким же это днем? – иронично переспросил Сухов. – С рождением нового вида?
– Да нет же! С твоим настоящим днем рождения. Сегодня тебе исполнилось 96!
– Я, конечно, не женщина, но тоже па-апрасил бы не уточнять возраст… Хотя… Выходит, я спал почти год? – изумился Сухов.
– Но этот год, как и твои девяносто шесть, – ничто перед твоим бессмертием! – с пафосом проговорил Глебов.
– Спасибо, утешил. На девяносто седьмом Кащеем сделал… – Сухов оставался таким же ироничным и даже немного брюзгой, каким был при жизни… Впрочем, ему не подходит определение его сущности в прошедшем времени. Он мыслит, чувствует, переживает, следовательно – живет.
Виталий Пищенко
КомандировкаВстретились они неожиданно. Снегурочка ойкнула, маленький Черт отскочил в сугроб, а Дед Мороз осторожно поставил на снег мешок, с подарками и озадаченно сдвинул на затылок шапку вместе с выглядывавшими из-под нее молодецкими кудрями.
– Здравствуйте, товарищи. Вы от какой организации?
Снегурочка и Черт переглянулись, но ничего не ответили.
– Я потому спрашиваю, что, может, у нас маршруты одинаковые, – пояснил Дед Мороз, – втроем все же веселее…
– Вы знаете, я как-то… – Снегурочка растерянно развела руками. Черт независимо смотрел в сторону.
– Так вы что же, без путевок? – обрадовался Дед Мороз. – Ну, так пойдемте вместе. Мигом управимся. А командировочные я вам отмечу, не беспокойтесь, – заторопился он, – сразу же после праздника к нам в завком приходите, все сделаем, как надо! Согласны?
– Согласна, – кивнула головой Снегурочка.
– Не возражаю, – неожиданно густым басом ответил Черт.
– Тогда бежим на такси, – Дед Мороз взял в руки мешок, – вон машина стоит. Нам на Новый жилмассив.
– Я с металлургического, – рассказывал Дед Мороз, устроившись на переднем сиденье такси. – Люди у нас хорошие, работать умеют. Вот в завкоме и решили лучших с Новым годом поздравить. Боюсь только, не опоздать бы. У вас часы точно идут? – обратился он к водителю. – А то я пока рукава этого балахона подниму, – Дед Мороз тряхнул рукавами шубы, – полчаса пройдет.
– Отстают на полминуты, – ответила Снегурочка, бросив быстрый взгляд на запястье.
– Ох, и часы у вас! – восхитился Дед Мороз.
На тонкой руке Снегурочки светился циферблат невероятной формы. Внутри часов что-то позванивало, по окружности стояли странные четырехзначные цифры, яркой звездочкой горел рубиновый огонек. Слова Деда Мороза неожиданно смутили Снегурочку. Она покраснела и уткнулась в окно такси с таким видом, будто впервые видела ночной город, залитый огнем фонарей, радужными переливами елочных гирлянд, помигиванием светофоров…
– Приехали, – шофер остановил машину возле шестнадцатиэтажной громадины.
– Сейчас, сейчас, – Дед Мороз пытался засунуть руку в карман, безнадежно затерявшийся в складках гигантской шубы, – сейчас, минуточку…
– Я заплачу, – неожиданно вмешался Черт, щелкнул пальцами, в машине явственно запахло серой, а в руках водителя появилась новенькая банкнота.
– Ну, брат, ты даешь! – восхищенно воскликнул водитель и долго еще удивленно качал головой.
Дед Мороз взглянул на номер квартиры, еще раз сверился со списком, кивнул головой:
– Сюда. – И решительно нажал на кнопку звонка.
Дверь распахнулась. Удивленные и веселые лица смотрели на неожиданных гостей.
– Здравствуйте, хозяева! – неестественно тонким голосом затянул Дед Мороз.
Снегурочка смущенно покраснела.
Черт принялся внимательно рассматривать наряженную елку.
А Дед Мороз называл цифры выполнения плана, вручал подарки, а под конец прочитал стихи месткомовского поэта. Нескладные были стихи, Новый год рифмовался в них с металлопрокатом, зато от души, и покрасневший хозяин пытался спрятать смущенную улыбку, и аплодисменты звучали искренне и дружески. Потом гостей приглашали к столу, они благодарили и отказывались, а Дед Мороз всем показывал большущий список, но по бокалу шампанского выпить все равно пришлось. И уж когда совсем собрались уходить, дети, которым пора было бы спать, потому что передача «Спокойной ночи, малыши» закончилась почти два часа назад, что-то зашептали на ухо хозяину, показывая маленькими пальчиками в сторону насторожившегося Черта.
– Товарищи, – хозяин выступил вперед, – тут наши детки приз учредили за лучший костюм и присудить его решили, вы уж извините, товарищи Мороз и Снегурочка, решили присудить его товарищу Черту.
Черт был и вправду хорош! На голове кривые рожки, на ногах маленькие острые копытца, и хвост шевелился, как настоящий! А хозяин уже вкладывал в его узкую ладошку приз – самый большой шар, торжественно снятый ребятишками с елки.
Потом они ходили из квартиры в квартиру, шутили с какими-то веселыми людьми, а один раз их забросали снежками, и они никак не могли пробиться к нужному подъезду. Кругом смеялся, пел, встречал Новый год большой трудовой город.
Дед Мороз в очередной раз провел пальцем по списку, заглянул в мешок и улыбнулся:
– Все…
– Как, все? – не поняла Снегурочка.
– Все, всех обошли…
И в этот момент где-то далеко-далеко начали бить куранты. Их звон становился ближе, громче, казалось, заполнил площадку между домами, город, всю Землю…
– Двенадцать, – растерянно протянул Дед Мороз. – Новый год… С Новым годом!
– С Новым годом! – И, обхватив друг друга руками за плечи, они радостно запрыгали вокруг пустого мешка, лежащего на снегу.
– Ну, кому куда? – Дед Мороз вопросительно смотрел на своих спутников.
– Мне недалеко, – торопливо ответила Снегурочка, – провожать не надо. До свидания.
Она пожала руку Деда Мороза, узкую ладошку Черта, приветливо махнула рукой и исчезла за углом девятиэтажки.
– Мне тоже рядом, – пробасил Черт.
– Ну, а мне в общежитие, часа через два добегу. По Москве Новый год с ребятами встречу. Ну, пока. С Новым годом!
И Дед Мороз, смешно загребая большущими валенками, побежал по ночной улице.
«Славный парень, – думала тем временем Снегурочка, – да и второй тоже хороший, странный только немного. Ну, ладно, командировка закончилась, пора домой. Молодчина я сегодня, фильм получится – загляденье. «Народно-праздничные обряды последней четверти XX столетия»! Такого еще никто не видел. Конечно, когда-нибудь люди вновь смогут побывать и в Золотой Орде, и у костра кроманьонцев… Но это когда еще будет. А пока что никто не был в прошлом дальше, чем я. Подумать только – 300 лет! Где-то здесь встречает Новый год моя прапрапрабабушка. Может, я и у нее сегодня была! Вот забавно!»
Снегурочка взглянула на часы.
– Пора, как раз к Новому году домой успею, – и она решительно совместила рубиновый огонек на циферблате своих часов с цифрой 2288.
На площадке между домами остался один Черт. Присев на засыпанную снегом скамейку, он задумчиво ковырял копытцем смерзшуюся корку снега.
«Опять ничего не сделал, – вертелась в его голове печальная мысль. – Правда, всучил таксисту дьяволовы деньги, может, зачтут? Впрочем, какие они дьяволовы, заплатил-то я ему за честный труд. Не зачтут…»
Представилось его глазам недовольное рыло заведующего сектором мелких новогодних пакостей, послышался его скрипучий голос: «Плохо работаешь, Короткохвостый! Плохо, ох, плохо! Ядовитости в тебе не хватает! Мелкое хамство отсутствует, о крупном уж не говорю… Где твоя профессиональная гордость? Где горение? Где азарт? На полноценные пакости и то не способен! Эх, кадры, одна морока с вами…»
– Не зачтут, – окончательно решил Черт, – пожалуй, и командировочные не выплатят.
Но то ли вспомнились ему счастливые лица ребятишек, то ли запел хрустальным звоном елочный шар – «приз за лучший костюм», только Черт залихватски взвизгнул, крутнулся на копытце, вспыхнул ярким огоньком и исчез, оставив после себя быстро рассеивающееся облачко сернистого дыма.