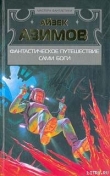Текст книги "Танго с манекеном"
Автор книги: Алекс Форэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Как хладнокровный крупье или опытный фокусник, Париж почти безразличен. «Дискретен». Здесь никого не касается, что с тобой происходит. Но он – наблюдает.
«Ах, месье, меня совершенно не интересует ваша личная жизнь, просто с детства очень привлекают замочные скважины».
Это не перверсия. Это философия созерцания.
Завсегдатаи кафе, полицейские и консьержи, клошары и зеленщики сутками не отрываются от экранов мониторов, каждый из которых демонстрирует в режиме реального времени кусочек жизни, происходящей на нескольких квадратных метрах, захватываемых камерой, глазом, замочной скважиной.
Парижане не покидают своих наблюдательных пунктов. Они не путешествуют. Куда ехать из самого прекрасного из городов?
Они не отвлекаются на постороннее. И поэтому – последовательно невежественны. «Позвольте, мы великолепно разбираемся во французских сырах, винах, парфюмерии, профсоюзах и шансонье. Чего же вам еще?»
Им безразлично, что происходит за пределами Парижа и происходит ли там вообще что-то. Центр вселенной – здесь, и стремиться к чему-то иному – бесполезная трата времени.
Именно эти несколько квадратных метров, видимых непосредственно каждым из них, – вечно текущая и неизменная картинка-фон, где происходит все, что можно себе вообразить, которую в разных направлениях пересекают туристы, клошары, жандармы, завсегдатаи кафе, другие наблюдатели – именно они являются предметом их забот.
Наблюдение как предназначение и смысл жизни.
Наблюдение за объектом изменяет поведение объекта… Мягко и не навязчиво, без вмешательства, без принуждения – просто объект наблюдения начинает вести себя не так, как обычно.
Что и требуется. Иначе ты так и не сдвинешься с мертвой точки.
В Париже, как и везде, есть два пути – внутрь или наружу.
Но внутрь тебе путь заказан.
Внешне бесшабашный, фривольный, безумный город функционирует по строго выверенным законам. Но они – часть внутренней кухни и должны быть скрыты от твоих глаз. Поэтому здесь, как нигде больше, гостей не пускают внутрь – иначе они узнают секрет.
В Америке тебя быстро обучат правилам и сделают своим, в Марокко ты легко и доброжелательно интегрируешься в местную жизнь, в Таиланде ты всегда будешь фарангом – белым человеком, но это и будет твое вполне комфортное место. А в Париже все очень нейтрально – все работает для тебя, тобой специально никто не интересуется, но… Ты – вне времени и пространства. Ты здесь, но не внутри. Ты можешь обладать идеями по переустройству мира, ты зачем-то знаком с географией, ты говоришь на несуществующем и несущественном английском языке, ты даже разбираешься в истории Франции, но все это – только твои личные причуды. Ты не парижанин.
Бульвары, парки, памятники, особняки, жонглеры, уличные музыканты – все это для кого угодно, кроме парижан. Для них это – повседневность. Жесткая, монотонная, часто дождливая и промозглая среда обитания. Праздник Парижа – для визитеров.
Это та цена, которую приходится платить за жизнь здесь. Парижан занимает быт, и их мечта – тихий дом в спокойном сельском уголке, где на склоне дней можно будет, ловя рыбу, вспоминать на пару с соседом славное прошлое и критиковать современное устройство мира.
Ты способен грезить об этом?
Вот видишь, ты не парижанин.
Приезжий может быть эксцентричным, он может быть выскочкой, он не способен вписаться в установленные рамки, он в любом случае столь дурно воспитан, что ничего уже не изменишь – он выпрыгивает из них. Он настолько безнадежен, что его даже не осуждают. Просто не пускают внутрь и этим же – выталкивают еще больше.
Это эффективно – если у тебя самого не хватит сил, тебя заставят выйти из рамок.
Как в любом механизме, здесь в цене логика и рациональность. Все выверено по среднему показателю Нормы, нормальности. Это обязательный критерий для всех местных жителей. Именно нормальность – их основное достоинство. Спокойнее, не нужно высовываться! Это по меньшей мере неприлично и даже опасно. Каждый знает свое место и не должен стремиться к его изменению, потому что это привело бы к неполадкам во всем механизме.
Парижане не должны отвлекаться на новое, обладать фантазией, уметь видеть необычное… И они не обладают этой способностью.
Без них не будет работать Машина Желаний.
Город – ее плоть, они – ее кровь.
В отличие от тебя, для них измененное состояние сознания – неисправность.
Абсолютная нормальность самого ненормального из городов…
Миру вообще проще с одинаковостью. Ему нужно очень немного тех, кто отличается. И Париж отбирает единицы. Все обставлено так хитро и мягко, что не прошедшие селекцию даже не узнают о ней.
Тем из гостей, кто послушно поднимается на Эйфелеву башню, застывает на площадях, сверяясь с туристическими путеводителями, а вечером в кабаре аплодирует стареющим старлеткам, десятилетиями исполняющим один и тот же спектакль – Париж непременно дает утешительный приз. Тем, кто добросовестно опустошает кредитки спутников в бутиках Сент-Оноре, а потом томно ужинает у Дюкаса, – всем им гарантирована расхожая награда маленького понимания Парижа, ограниченного его фасадом. Она называется «Увидеть Париж и умереть».
Это тест для тебя. Если ты не пройдешь, не увидишь, не почувствуешь, ничего не случится, ты будешь и дальше пребывать в ласкающем полусне этого праздника для всех. Ты просто не узнаешь, что могло быть по-другому.
Для того, кто ходит здесь иначе, такого поощрения нет. Для него нет даже осуждения. Он предоставлен сам себе и не нуждается в похвале. Здесь другие ставки. Голодному, если он на что-то способен, не дают рыбы. Ему дают удочку.
Но здесь все проще. Здесь нет даже приготовленной удочки. Хочешь – лови, как знаешь.
Есть только ты.
Тебе и решать.
Здесь все течет, но ничто не меняется.
При всей историчности Парижа в нем полностью отсутствует ощущение истории. История здесь – просто красивые картинки, объемные репродукции старых полотен – Ратуша, Лувр, Консьержери.
Неизменные декорации парижского спектакля, который заново играется здесь ежедневно. В Париже не существует времени, здесь нет ни прошлого ни будущего, только постоянное настоящее как поток практической деятельности. Жизнь ради жизни.
Carpe Diem. Живи сейчас.
Память иногда подкидывает расплывчатые картинки, смутно кажущиеся знакомыми, но при отсутствии свидетелей, подтверждающих и восстанавливающих для тебя прежнюю реальность, они так нечетки… Ты иногда натыкаешься на немногие привезенные с собой вещи, и разглядываешь их, как отвлеченные артефакты иллюзорного мира.
Всё отступает на задний план, ты забываешь то, что было до этого, как будто раньше вообще ничего не существовало. Понятие «раньше-позже» вообще становится очень сомнительным, есть лишь множество вариантов Сейчас.
Существование между реальностями, где-то на грани воображения, по ту сторону горизонта… Говорят, Время стирает воспоминания. Париж не стирает их, он превращает их в иллюзии.
Ты выброшен из контекста, ты выдавлен из обыденности, ты СВОБОДЕН. И эта твоя деперсонализация и дереализация – точные психиатрические термины – позволяют понять, что происходит.
От прошлого – иллюзия реальности. От настоящего – реальность иллюзии. И то и другое – Воображение.
Оно обладает способностью материализовывать фантазии.
Город, отлаженный, как часы, ходящий по вечному карусельному кругу, где конец одного цикла является просто началом следующего – почти вечный двигатель, такой невозможный и такой осязаемый.
Город-палиндром, который ты можешь читать в любом направлении – по часовой стрелке или, если закружится голова, – против нее, потому что, на самом деле, «ВЕРНО И ОБРАТНОЕ» – как ни читай, получится одно и то же:

Engage le jeu que je le gagne.
Начни игру, чтобы я ее выиграл.
Это нашептывает за тебя город, это повторяет кто-то, встрепенувшийся внутри тебя, это кровь стучит в висках, как перестук колес поезда, идущего по кольцу, как звук шарика рулетки, подпрыгивающего по колесу, прежде чем остановиться…
Делайте ваши ставки.
Рискни. Начни Игру.
Зачем? Для чего все это?
Должен же существовать замысел…
Замысел музыкальной шкатулки – не в самодостаточном механизме. Он в том, что испытывает открывший ее.
В тебе.
Город-мистификатор, подобно описанному фантастами мыслящему океану, обладающий способностью вытаскивать из твоего подсознания и снабжать плотью и кровью самые сокровенные образы.
Заигрывающий, смещающий привычные ориентиры, морочащий, сбивающий с наезженного пути, манящий прошлогодней листвой парков и вечерней дымкой соборов, позвякивающий колокольчиками светящихся каруселей – с одной целью – увлечь тебя на этот звук, заманить этим неясным образом, чтобы, когда ты оглянешься, было поздно. Не только дорога стала другой, но даже верстовые столбы маркированы иначе, и указатели – с новыми названиями. Поезд сошел с пути и мчится по бездорожью, впервые оторвавшись от проложенных кем-то рельсов.
Великий соблазнитель, провоцирующий на…
На что?
Зачем что-то менять? От добра добра – не искать.
Но так хочется войти в эту дверь, просто взглянуть, как там все устроено, какой там свет, воздух… Какой там Ты?
Получается не у каждого.
Слишком велика инерция. Слишком дорога привычка. Слишком пугает новое. Нет и не было такой странной, такой ненужной, такой мешающей привычки верить в чудеса…
Закон природы – «Тело стремится к покою», и ничего с этим не поделаешь. Но в нем, в этом теле бьется что-то, семь неуловимых тревожных грамм… На них вся надежда этого Города.
Семь смертных грехов, из которых худший – уныние.
Семь цветов белого.
Семь дней творения…
Семь принцесс должен был пробудить от смертельного сна сказочный принц Метерлинка. Нешуточная работа…
Вставайте, принц, вас ждут великие дела.
В Париже, как в хрустальном шаре гипнотизера, нет и не может быть никакой философии. Здесь нет никакой самоценности – когда тебя нет, здесь не происходит ничего интересного. Не бывает ни реальности, ни контекста самих по себе. Включение механизма вызвано твоим появлением здесь.
И тогда – есть только концентрированные непосредственно доступные эффекты.
Пахнет дождем и свежестью. Медленно падает красный лист. Шарф мягко поглаживает шею. Сидя на складном стуле, аккордеонист играет танго. Грациозная негритянка в синей униформе и белых перчатках, стоя на перекрестке, как дирижер, поднимает палочку.
Это зеленый. Проезд открыт.
Впереди – фантастический проход в параллельные миры. Если рискнешь, может случиться всякое, но одно можно сказать наверняка: все это затеяно ради того, чтобы ты уже никогда не стал прежним.
Суббота
Путешествие совершенно безопасно. Чтобы подвергнуться опасности, не требуется Путешествие. Это излишество.
Путеводитель
Сна не было.
Но голова была совершенно ясной и прозрачной. Семь утра и – удивительная, как когда-то, много лет назад, жажда деятельности.
Хотелось глотнуть свежего воздуха и выпить крепкого кофе.
Я оделся, взял фотоаппарат и через заднюю дверь вышел в переулок. Вот она, возможность осуществить давний замысел – поснимать утреннюю, безлюдную улицу Сен-Дени. Что-то должно в этом быть магриттовское, такое бытовое сочетание несовместимого – улица, всем своим существом предназначенная для того, чтобы жить ночью, снятая утром.
Впрочем, она не была совсем безлюдной. Недалеко от того места, где я вышел на нее, вяло переругивались две усталые с остатками ночного макияжа на лицах шлюхи. На удивление молодые и хорошенькие для этого места.
Картинка была почти постановочной: закрытые жалюзи секс-шопов, еще не убранный вчерашний мусор, две невыспавшиеся молодые женщины в кожаных мини-юбках, и над всем этим – утреннее чистейшее парижское небо.
Я снял крышку с объектива и поймал картинку. Одна из девиц, стоявшая ко мне лицом, заметила это и, набросив на лицо прядь длинных волос, приподняла подол юбки, кокетливо позируя. Вторая среагировала на это и, повернувшись, наоборот выставила вперед ладонь с расставленными пальцами и раздраженно крикнула что-то.
На крик почти мгновенно материализовался из ниоткуда высокий смуглый парень с курчавыми волосами в кожаном пиджаке и яркой рубашке под ним. Он быстро оценил ситуацию и крикнул:
– Эй, лысый, жить надоело? Быстро убери это!
Не знаю, что меня дернуло, но я почти рефлекторно ответил нечто в том же тоне.
Дальше все происходило очень быстро. Парень оказался рядом со мной, шею резанула резкая боль – лопнул ремешок фотоаппарата, который он вырвал у меня из рук; я мгновенно услышал звон и только после этого, как в замедленном кино, увидел, как моя камера с силой ударяется об угол дома, и брызгами разлетаются вокруг, играя на солнце, стеклянные осколки цейсовской оптики.
Я, кажется, успел схватить его за лацкан скользкого кожаного пиджака и даже замахнуться, но ударить, видимо не успел. Или успел, но только уже после того, как отключился.
Вероятно, какое-то время я отсутствовал, хотя и очень не долго, может быть, минуту. Я осознал себя сидящим, привалившись спиной к дому. Искореженный фотоаппарат лежал здесь же, и по всей голове расплывалась боль. Я дотронулся до макушки, и пальцы сразу ощутили теплую вязкость. Этого еще не хватало…
Ко мне бежали какие-то люди.
Тех девиц и их сутенера, конечно, больше не было.
Меня о чем-то спрашивали, но отвечать по-французски у меня сейчас как-то не получалось.
Удивительно быстро приехала полиция и – почти одновременно с ней – парамедики.
Поскольку беседа у нас не складывалась, а самочувствие мое было довольно очевидным, они, вероятно, решили отложить расспросы на потом, и я оказался в машине, распластанный на узкой жесткой койке, застеленной белой прорезиненной простыней. Заработала сирена, машина дернулась и начала набирать скорость.
Было дико досадно. Мысли путались, но не от боли, хотя немного мутило, а скорее от неожиданности. Никогда не был ярым борцом за общественную мораль, но сейчас больше всего на свете хотелось искоренить проституцию.
Не знаю, как назывался госпиталь, в который меня привезли, но персонал говорил на английском.
Все происходило быстро – санитары толкали каталку бегом, по пути врач в зеленовато-голубой робе умудрялся осматривать мою голову, в операционной уже суетились, зажигая свет, какие-то люди.
Пока они под местным наркозом латали мою башку, я развлекал себя философскими мыслями, хотя, боюсь, и несколько заторможенными.
Фотоаппарата было не очень жаль, несмотря на то, что я успел к нему привыкнуть. Беспокоило почему-то другое – я все не мог вспомнить, заменил ли я в нем флэш-карту. Если нет – пропали вчерашние кадры с коллекцией Гревена, я же не успел переписать их. Если только полиция не подобрала остатки фотоаппарата…
Попил утром кофейку…
Правда, нужна редкая глупость, чтобы размахивать фотоаппаратом на Сен-Дени. Все же недостаточно быть лысым, чтобы быть Юлием Цезарем… Ну, не любят в таких местах фотографов. Даже утром… Сам виноват.
Или не сам? А что – это ведь классический урок, так учили дзенские мастера – если особенно тупой ученик попадается и задает совсем уж дурацкий вопрос, – хвать его дубиной по голове… И ведь некоторым помогало.
Нет, друзья, такого мы не заказывали. Мы же с вами обсуждали – все будет мирно, без кровопролития, безопасно, дырок в голове не делаем. Даже если она бритая, будто для этого предназначенная.
Вплыла в больную голову невесть где хранившаяся история о том, как дикие аборигены поймали главу научной экспедиции и, увидев его сияющую лысину, решили сделать из его скальпа праздничный там-там. Но были они высоких нравственных принципов и позволили ему выразить последнее желание. И вот профессор, испросив наконечник стрелы, как шарахнет им себя по темечку, приговаривая «Вот вам праздничный там-там!»
Я лежал под яркими лампами в окружении копошащихся в моей голове врачей и чувствовал себя странно. Практически ничего из того, что я привык считать обычными средствами коммуникации с миром, у меня сейчас не было. Эти люди могли, в принципе, сделать со мной что угодно – не существовало никакой возможности повлиять на их действия.
Кроме одной… Забыть о ключе. Забыть об обезьянах.
Я попытался воспользоваться рецептом. И вот ведь смешно – помогло. Я вдруг почувствовал, что – получилось. Вот сейчас, здесь, на этой металлической хреновине, потеряв практически все, вплоть до имени, – получилось что-то очень важное. Нет ничего, что всегда было неизменными атрибутами меня, а я – есть. Нет ни ключей, ни обезьян. Нет адвокатов, помощников, телохранителей, телефона, одежды, даже имени своего нет! Ничего, кроме СЕБЯ.
Помять неожиданно выкатила откуда-то из захламленных глубин слова:
Дней творения было семь.
На седьмой из них вышел сбой.
Потеряв себя насовсем,
Становились мы до конца собой.
Было что-то такое… Где-то же я откопал эти слова…
Господи, кажется, бред начинается. Это я их писал тогда, миллион лет назад, сидя в прокуренной крошечной комнате под лимонным абажуром, не имея ничего, кроме странной несуществующей субстанции, ежесекундно напоминающей о себе вот такими полудетскими виршами, кроме той самой души, о которой я разучился не только разговаривать, но и думать уже лет двадцать тому назад, кроме этой идиотской души, которая обязана изо всех сил вытаскивать своего самоуверенного обладателя из тех дыр, в которые он себя старательно засовывает, кроме этих семи грамм, которые, оказывается, еще где-то есть во мне…
Я тогда марал бумагу, рифмуя слова, пытаясь понять, кто я такой и для чего… Извел кучу листов, а потом вдруг начался взрослый мир, и больше никогда к этому не тянуло. И вот, надо же, выплыло…
Семь дней. Я прилетел в Ниццу в воскресенье. Сейчас – суббота.
День седьмой…
Рана оказалась нестрашной.
Защитник парижских весталок, видимо, долбанул меня по макушке моим же собственным фотоаппаратом, но не со всей дури, а так – именно, чтобы поучить. Даже сотрясения мозга не было, так что дзенский урок может не дать результата. Хотя шов наложили очень дизайнерский, трех сантиметров в длину. Как теперь голову брить?
Пока я приходил в себя в палате, хмурый скучающий полицейский расспрашивал, как все произошло. С этим я как-то справился, хуже было другое – когда я представился ему фотографом, начались вопросы о разрешении на работу во Франции, об аренде моего лофта, а в этом я, мягко говоря, плавал.
Сославшись на дурное самочувствие, я умудрился свернуть разговор. Благо, местная полиция сочувственно относится к безвинно оглоушенным иностранцам. Но вопросы вполне могли продолжиться позже, что совсем не привлекало.
Позвонить Антуану? Мэттью? Все они знают меня как фотографа Таннера, и полицию, тщательно изучившую мой паспорт, это может привести к чрезмерной мыслительной работе. Потянется история с Клубом… Пожалуй, это тот самый случай, когда нужно звонить по волшебному телефону, который оставил месье Гратовски, рефлексировавший со мной в исповедальне.
Ненадолго выходя утром на Сен-Дени выпить кофе, я взял камеру, а вот телефон – оставил. Лучше было бы сделать наоборот… Но пострадавшим в битве с пороком здесь обязаны помочь с телефонными звонками.
Свежевыглаженная невозмутимая сестра милосердия придвинула мне телефонный аппарат. Я порылся в бумажнике и нашел черно-красную карточку Гратовски. Вот и номер… После четвертого гудка сработал стандартный автоответчик сети: «Вы позвонили на такой-то номер. Сейчас никто не может ответить на ваш звонок, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». Я не стал дожидаться заветного сигнала и повесил трубку. Такой вот волшебный номер… Что он там говорил – «джинна из бутылки не будет, но с любым срочным вопросом можно обратиться в любое время»? Обратились…
А если бы что-то случилось? Хотя, особенно мужественно этот вопрос звучит, когда произносишь его именно так – лежа на больничной койке с пробитой головой. Не перевелись герои.
В течение следующего получаса я звонил еще дважды – с тем же результатом. Наконец, разозлившись, я все же оставил сообщение:
«Это Грег. У меня был вопрос. Теперь есть ответ: забыть об обезьянах. Спасибо за содействие».
Однако, пора было выбираться отсюда. Чувствовал я себя сносно, дырка в башке была заштопана и опасности не представляла, и удерживать меня не стали.
Только выходя из госпиталя, я вспомнил, что в десять должен был отправиться с Мэттью снимать собрание этих его «бессмертных». И, конечно, безнадежно опоздал. Даже дозвониться Мэттью не мог – телефон-то был дома, второй раз обращаться к накрахмаленной медсестре почему-то не хотелось. Так себе получилось с Мэттью… Впрочем, снимать-то теперь в любом случае нечем. А жаль… После вчерашних восковых увековеченных хорошо было бы сегодня увидеть живых бессмертных…
Зеркалка разбилась, теперь в зазеркалье не войдешь. Закончился, кажется, фотограф…
А в три должна была приехать эта моя виртуальная подруга Сандра. И я, по совершенно необъяснимым сейчас причинам, обещал ее встретить. Нет уж, Сандра, придется тебе меня извинить.
Я машинально посмотрел на часы. Был почти час дня.
Нужно успеть заехать к себе – хотя бы переодеться. Майка вся в рыжих пятнах, и ехать так на вокзал чрезмерно эксцентрично даже для отставного фотографа.
Как тут у них с такси..?