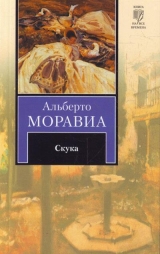
Текст книги "Скука"
Автор книги: Альберто Моравиа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
– А может быть, зайдем на минутку в мою студию?
Я видел, как она загорелась внезапной простодушной надеждой:
– Вы хотите, чтобы я вам позировала?
Я растерялся. В мои намерения не входило ее обманывать, но она вдруг сама предложила мне обман, который унижал меня вдвойне: и потому, что это был обман, и потому, что это был худший из обманов, к которому я мог прибегнуть, – художник приглашает к себе в студию красивую девушку под предлогом, что хочет ее писать, одним словом, обман, достойный Балестриери. И потому я раздраженно заметил:
– А что, Балестриери тоже первый раз пригласил вас к себе под предлогом, что он хочет написать ваш портрет?
Она серьезно сказала:
– Нет, я стала ходить к нему, чтобы брать уроки рисования. Потом он действительно захотел меня рисовать, но это позже.
Итак, для нее обман с позированием был не обманом, а вполне серьезным предложением. Она даже добавила:
– Сейчас у меня как раз есть время. Если хотите, я могу попозировать вам до ужина.
Я подумал, нужно ли объяснять ей, что я бросил рисовать и что даже в ту пору, когда еще рисовал, никогда не писал фигуративных картин. Но тогда, размышлял я, мне придется искать другой предлог, чтобы пригласить ее к себе, так как, судя по всему, предлог ей требовался. Тем более стоило принять этот, с позированием. И я произнес беспечно, ничего особенно не уточняя:
– Хорошо, пойдем ко мне.
– Я и для Балестриери всегда позировала в эти часы, – сообщила она с довольным видом, испытывая явное облегчение, и взяла со стола свой сверток. – Он всегда работал с четырех до семи.
– А по утрам?
– И по утрам тоже, с десяти до часу.
Мы направились к двери. Я понимал, что она в последний раз видит студию, где прошла значительная часть ее жизни, и полагал, что простая жалость к умершему заставит ее что-нибудь сказать или по крайней мере на прощанье оглядеться вокруг. Но она ограничилась тем, что спросила, бросив взгляд на стены:
– А сейчас, когда он умер, что будет с этими картинами?
Я ответил по-прежнему резко:
– Может быть, попытаются их продать. Потом, когда увидят, что никому они не нужны, свалят где-нибудь в подвале.
– В подвале?
– Да, в подвале.
– Но у него есть жена, с которой он был в разводе. Картины перейдут к ней.
– А уж она тем более их выбросит.
Она ничего на это не сказала, всем своим видом выражая безучастную сдержанность. И, глядя на то, как идет она с огромным свертком под мышкой впереди меня – словно бы принужденно и сопротивляясь, а на самом деле решительно и твердо, – я подумал, что она похожа на человека, который переезжает с одной квартиры на другую. Да, она меняла студию Балестриери на мою – вот в чем было дело. Догнав ее, я распахнул перед ней дверь со словами:
– Как видите, моя студия совсем не похожа на студию Балестриери.
Она не ответила, так что можно было подумать, что она как раз не видит никакой разницы между моей студией и студией своего старого любовника. Она просто подошла к столу, положила на него сверток и, обернувшись ко мне, спросила:
– Где здесь ванная?
– Вон та дверь.
Она направилась к ванной комнате и исчезла за дверью. Я подошел к дивану и поправил подушки, на которых недавно спал; потом принялся собирать бесчисленные окурки, которые бросал прямо на пол. Делая все это, я продолжал думать о девушке и пытался понять, нравится ли она мне, действительно ли мне хочется заняться с ней тем, чего она от меня ожидала, и вдруг понял, что не испытываю ни малейшего желания. И тогда я сказал себе, что расспрошу ее о Балестриери и об их отношениях, которые меня почему-то интересовали, а потом отошлю.
Я был так спокоен и так уверен в своем спокойствии, что совершенно забыл о предлоге, подсказанном мне девушкой и мною неосмотрительно принятом, – о рисовании. И потому был прямо-таки изумлен, когда дверь ванной комнаты отворилась и девушка появилась на пороге. Она была голой, совершенно голой, и шла на цыпочках, прижимая к груди полотенце. При виде ее у меня сразу же мелькнула мысль, что Балестриери не преувеличивал, когда изображал ее с теми пышными формами, в которые я не мог поверить. У нее действительно были великолепные груди, смуглые и крепкие, которые совершенно не соотносились с торсом, худеньким и хрупким, как у подростка, и существовали словно бы отдельно от него. И талия была тоже как у юной девушки, неправдоподобно тоненькая и гибкая, но бедра, плотные и крепкие, выглядели такими же зрелыми, как груди. Она шла, выставив вперед грудь и подобрав живот, с какой-то даже алчностью глядя на мольберт, который стоял у окна; подойдя к нему, она, не оборачиваясь, спросила своим лишенным всякого выражения голосом, сухо и коротко:
– Где мне встать?
Я спросил себя, была ли в ней в этот момент хотя бы капля притворства, и вынужден был признать, что не было. Она всерьез относилась к своим обязанностям натурщицы, даже если и подозревала, что то был предлог для завязывания отношений совсем другого рода. И, помню, я тогда подумал, что она, должно быть, просто не способна увязать в своем сознании одну вещь с другой, и это позволяет ей быть искренней. Я спокойно ответил:
– Никуда не надо вставать.
Она удивленно обернулась:
– Почему?
Я объяснил:
– Мне очень жаль, но я проявил легкомыслие, согласившись воспользоваться подсказанным вами предлогом. На самом деле я уже давно не пишу. Да и когда писал, никогда не изображал ни натурщиц, ни вообще какие-либо реальные предметы. Я искренне сожалею, извините.
Она сказала прежним своим бесцветным голосом, вовсе не выглядя при этом обиженной:
– Но вы же сказали, что хотите, чтобы я вам позировала.
– Да, это правда, но давайте считать, что я ничего не говорил.
Медленно, с видом человека, который не придает значения пустякам, она взяла полотенце, которое прижимала к груди, набросила его на плечи и плотно в него закуталась. Затем подошла к дивану, робко и неуверенно, словно я предложил ей сесть, в то время как ничего подобного у меня и на уме не было, и уселась на самом его краю, вдали от меня. Наступила пауза, а потом вдруг на ее детских губах появилась улыбка, которой она всегда улыбалась мне при встрече в коридоре. Я сказал в некоторой растерянности:
– Теперь вы будете плохо обо мне думать.
Ничего не говоря, она отрицательно покачала головой. Она смотрела на меня своим ничего не выражающим взглядом так, словно глаза ее были двумя темными зеркалами, которые просто отражали реальность, не понимая ее, а может быть, даже и не видя, и я чувствовал, как растет моя неловкость: было очевидно, что она не собирается уходить и ждет от меня, если можно так выразиться, второй части программы. В поисках общей темы я, естественно, вернулся к Балестриери:
– Вы давно познакомились с Балестриери?
– Два года назад.
– Так сколько же вам лет?
– Семнадцать.
– Расскажите, как вы с ним познакомились.
– Зачем?
– Просто так. – Я подумал немного и добавил совершенно искренне: – Мне интересно.
Она медленно сказала:
– Я познакомилась с Балестриери два года назад. У одной моей подруги.
– А кто она, ваша подруга?
– Одна девушка, ее зовут Элиза.
– А сколько лет Элизе?
– Она на два года старше меня.
– Что делал Балестриери в доме Элизы?
– Давал ей уроки рисования, как и мне.
– А какая она, Элиза?
– Блондинка, – сказала она, не вдаваясь в подробности.
Мне показалось, что я припоминаю одну из девушек, которую часто видел в нашем дворе, и сказал:
– Блондинка с голубыми глазами, длинной шеей, овальным лицом и пухлыми, плотно сжатыми губами?
– Да, это она. Вы ее знаете?
– Да нет, я просто несколько раз видел ее у Балестриери до того, как к нему стали ходить вы. Элиза брала уроки дома или у него в студии?
– И дома, и в студии, как придется.
– Вы не сказали, что произошло в тот день, когда вы встретили Балестриери в доме Элизы.
– Ничего не произошло.
– Хорошо, ничего не произошло. Но в конце-то концов Балестриери стал давать уроки рисования и вам тоже? Как это получилось?
На этот раз она только посмотрела на меня и ничего не сказала. Но я был настойчив:
– Вы слышали, что я сказал?
В конце концов она решилась заговорить. Она спросила:
– А зачем вам это знать?
– Предположим, вы меня интересуете, – сказал я, ясно сознавая, что не то чтобы лгу, но говорю неправду того рода, которая в тот момент, когда я облекаю ее в слова, становится правдой.
Она посмотрела прямо перед собой, как школьница, которая приготовилась отвечать урок строгому учителю, и сказала:
– Потом я еще раз встретила Балестриери у Элизы: мы дружили, и я часто у нее бывала. И однажды я попросила его давать уроки и мне, а он сказал, что не может.
Подумать только, я считал, что Балестриери бегает за всеми женщинами, которые попадаются ему на пути, а он, оказывается, вон как – отверг предлог, который подсказала ему сама девушка. Я спросил:
– И почему, вы думаете, Балестриери вам отказал?
– Не знаю, просто не хотел.
– Может быть, он был влюблен в Элизу?
– Не думаю.
– Но тогда почему он не захотел?
Она объяснила:
– Сначала я подумала, что это Элиза его отговорила, потом поняла, что она об этом даже не знает. Он просто не хотел, и все. Я подумала: может, ему не нравится, что я буду приходить к нему в студию, и сказала, что он может давать мне уроки у меня дома. Но он все равно отказался. Видно, ему не хотелось.
– Но вам-то зачем так нужны были эти уроки?
Она замялась и покраснела – ее бледное лицо вдруг пошло пятнами.
– Я влюбилась в него, – сказала она, – вернее, мне показалось, что влюбилась.
– И почему же он этим не воспользовался?
– Не знаю.
Она снова замялась, потом, словно перестав вдруг меня стесняться, заговорила гораздо свободнее, чем раньше, хотя и оставалась по-прежнему точной и немногословной.
– Все дело в том, что я ему не нравилась. Два или три месяца он даже старался избегать встречи со мной, и я очень от этого страдала. Я ведь действительно была влюблена. И тогда я пошла на хитрость.
– На хитрость?
– Да. Как-то раз я пригласила Элизу позавтракать со мной и выбрала тот час, когда, я знала, она должна была идти к Балестриери. Я сказала ей, что он звонил и просил в этот день не приходить, потому что был занят, а сама пошла к нему.
– И как Балестриери отнесся к вашей проделке?
– Сначала хотел меня выгнать. Потом стал любезнее.
– И вы прямо в этот день занялись любовью?
Она снова покраснела, как и раньше, пятнами, и молча кивнула.
– Ну а Элиза?
– Элиза так и не узнала, что в тот день я пошла к Балестриери вместо нее. А некоторое время спустя они разошлись.
– Вы по-прежнему с ней дружите?
– Нет, мы даже не встречаемся.
Возникла пауза. Я понимал, что устраиваю ей почти полицейский допрос, которому она, впрочем, охотно подчинялась, и спросил себя, что же я на самом-то деле хочу выяснить? Ведь ясно же, что меня интересовали не сами факты, а то, что за ними стояло, их сущность, их первопричина. В чем они состояли? И я резко спросил:
– А почему вы влюбились в Балестриери?
– То есть как это почему?
– Я имею в виду – почему именно в Балестриери, старика, который годился в отцы вашему отцу?
– Какие могут быть причины, когда влюбляешься? Влюбляешься, и все.
– Ну, положим, причины есть всегда и на все.
Она взглянула на меня, и, странная вещь, мне показалось, что сейчас она сидит ко мне гораздо ближе, чем раньше. Или то была оптическая иллюзия, возникшая оттого, что в результате допроса она стала мне ближе и понятней? Наконец она сказала почти шепотом, наклонившись вперед и пристально на меня глядя:
– Я испытывала к нему сильное влечение.
– Влечение какого рода?
Она ничего не сказала, только посмотрела на меня. Но я настаивал:
– Так какого рода?
– Ну, если хотите, пожалуйста, я могу сказать. Балестриери был чем-то похож на моего отца, а я, когда была маленькая, испытывала к отцу настоящую страсть.
– Страсть?
– Да, он даже снился мне по ночам.
– Итак, вы влюбились в Балестриери, потому что он был чем-то похож на вашего отца?
– Да, и потому тоже.
Снова наступила пауза, потом я спросил:
– А почему, вы думаете, Балестриери поначалу не хотел о вас и слышать?
– Я уже сказала: я ему не нравилась.
– «Не нравилась» – это ничего не объясняет. Могут быть тысячи причин, по которым кто-то нам не нравится.
– Наверное, были и причины, но я их не знаю.
– Но кое о чем вы могли бы догадаться. Как вы думаете, может быть, Балестриери не хотел иметь с вами дела, потому что, по его мнению, вы были для него слишком молоды?
– Нет, дело не в этом.
– А может быть, он испытывал к вам то же чувство, что вы к нему – то есть вы казались ему дочерью?
– Не думаю, если бы это было так, он бы сказал.
На некоторое время я замолчал, старательно обдумывая услышанное. Теперь мне было уже ясно, что я расспрашиваю девушку о Балестриери для того, чтобы понять кое-что про себя самого: ведь я тоже до сих пор отвергал все ее попытки к сближению, и мне тоже казалось, что она в меня влюблена.
– А вы не думаете, – сказал я наконец, – что Балестриери просто боялся познакомиться с вами ближе?
– Боялся? Почему он должен был меня бояться?
– Потому что предвидел то, что в действительности потом и произошло: боялся влюбиться. Любовь иногда внушает страх.
– Мне, – сказала она многозначительно, – она страха не внушает.
Но я продолжал упорствовать:
– Вы не ответили на мой вопрос: Балестриери избегал вас, потому что боялся?
– Да ничего он не боялся. Да, я еще вспомнила, что потом он как-то мне сказал: «Если бы не та твоя уловка, я бы никогда не поддался – ты мне не нравилась». – Помолчав, она добавила: – Это все, больше я ничего не могу сказать.
Я понял, что, двигаясь в этом направлении, ничего не добьюсь, и подошел к делу с другой стороны:
– Но потом-то он в вас влюбился, так или нет?
– Так.
– И сильно?
– Да, очень сильно.
– А почему?
Я видел, что она наклонилась вперед и внимательно на меня посмотрела. Она и в самом деле сидела сейчас совсем рядом, это не было оптическим обманом – ее колени касались моих. Она сказала:
– Откуда я знаю.
– Но разве он не говорил вам о своей любви?
– Говорил.
– И что он говорил?
Судя по всему, она задумалась над моим вопросом, но при этом почему-то так резко качнулась в мою сторону, что я испугался, что она на меня сейчас просто рухнет. Из-за полотенца, в которое ее тело было погружено, как в футляр, она казалась мне чем-то вроде до краев наполненного сосуда, который, накреняясь, словно бы предоставляет мне возможность из него зачерпнуть. В конце концов она сказала:
– Я не помню, что он говорил. Помню только, что делал.
– И что же он делал?
– Ну например, плакал.
– Плакал?
– Да, обхватывал вдруг голову руками и начинал плакать.
Я представил себе Балестриери, каким я его всегда видел: да, конечно, старый, седой, но еще такой крепкий, широкоплечий, твердо стоящий на ногах, с лицом, которое всегда пылало от кипящих в нем жизненных сил, и спросил в совершеннейшем смятении:
– Почему же он плакал?
– Не знаю.
– Он не говорил вам, почему плачет?
– Нет, говорил только, что плачет из-за меня.
– Может быть, он ревновал?
– Нет, он был не ревнив.
– Но у него были поводы для ревности?
Некоторое время она, словно не понимая, молча смотрела на меня, потом коротко ответила:
– Нет.
– Неужели он плакал молча, ничего не говоря?
– Нет, он всегда что-нибудь говорил.
– А, вот видите, значит, говорил. И что же он говорил?
– Говорил, например, что уже не может без меня обойтись.
– Ara, так, значит, у него были причины плакать: он хотел бы обходиться без вас, но не мог.
Она педантично меня поправила:
– Нет, он говорил только, что не может без меня обойтись. Он никогда не говорил, что хочет от меня избавиться. Наоборот, когда однажды я решила его бросить, он попытался покончить с собой.
Меня поражало, что ее тон совершенно не менялся, говорила ли она о какой-то ерунде или, вот как сейчас, сообщала о том, что Балестриери хотел из-за нее покончить с собой. Я переспросил:
– Пытался покончить с собой? И каким же образом?
– С помощью этих лекарств, знаете, которые пьют от бессонницы. Не помню названия.
– Барбитураты?
– Да-да, барбитураты.
– И ему было плохо?
– Да, ему было плохо два дня, но потом все прошло.
– А он вообще страдал бессонницей?
– Да, он принимал барбитураты. Бывали ночи, когда он спал самое большее два часа.
– А почему?
– Почему ему не спалось? Не знаю.
– Из-за вас?
– Он говорил, что все, что с ним случалось, было из– за меня.
– И больше ничего? Он никак это не объяснял?
– Да, сейчас я вспомнила, что он говорил, будто я для него как наркотик.
– Ну, это общее место, вам не кажется?
– А что такое общее место?
– Ну, неоригинальная мысль. Такое мог бы сказать всякий.
Снова пауза. Потом я опять начал допытываться:
– И все же почему Балестриери считал, что вы для него как наркотик?
И тут наконец она, в свою очередь, обратилась с вопросом ко мне. Она сказала очень медленно:
– А почему вы меня обо всем этом спрашиваете?
Я ответил вполне искренне:
– Потому что во всей этой вашей истории с Балестриери есть что-то, что вызывает у меня любопытство.
– Что именно?
– Сам не знаю. Потому я вас и расспрашиваю. Чтобы понять, зачем я это делаю.
Она не улыбнулась и снова взглянула на меня своим внимательным, хотя и невыразительным взглядом, наклонившись надо мною так низко, что я ощутил теплоту и свежий запах ее тела. Потом она попыталась что-то объяснить:
– Я думаю, Балестриери считал, что я для него как наркотик, потому что с каждым днем он нуждался во мне все больше. Он так и говорил: «Дозы, которой мне было достаточно раньше, теперь мне мало».
– В каком смысле он все больше в вас нуждался?
– Во всех смыслах.
– В смысле постели?
Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Я повторил вопрос. Тогда она, казалось, решилась и ответила без всякой уклончивости:
– Да, и в смысле постели.
– Вы часто занимались любовью?
– Сначала один-два раза в неделю, потом через день, потом каждый день, потом дважды в день. Под конец уже нельзя было сосчитать.
– И он никак не мог насытиться?
– Он уставал. Иногда ему даже становилось плохо. Но ему всегда было мало.
– А вам это нравилось?
Она замялась, потом сказала:
– Женщине не может не нравиться, когда мужчина показывает, как он ее любит.
– Но он действительно вас любил? Или просто нуждался в вас по привычке, как больной нуждается в наркотике?
– Нет, – сказала она с неожиданным жаром, – он меня действительно любил.
– И в чем это проявлялось?
– Разве это можно объяснить? Такие вещи просто чувствуешь.
– И все-таки?
– Ну например, он хотел на мне жениться.
– Разве он не был женат?
– Был, но он говорил, что сумеет добиться развода.
– А вы соглашались?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю. Мне не хотелось выходить за него замуж.
– Значит, вы его не любили?
– Я никогда его не любила. – Тут она запнулась, видимо боясь показаться неточной, и добавила: – Вернее, я его любила, но только в первое время, когда мы познакомились.
Наступила долгая пауза. Теперь она сидела совсем рядом, почти нависая надо мною, лежащим, и пристально на меня глядя; казалось, она вот-вот на меня упадет, и я снова подумал о сосуде, о прекрасной вазе с двумя ручками и округлыми боками, доверху наполненной желанием, которая вот-вот опрокинется и меня затопит. Наконец я сказал:
– Я устроил вам настоящий допрос, вы, наверное, устали.
– О нет, – ответила она поспешно, – я совсем не устала, наоборот.
– Что значит наоборот?
– Мне было даже приятно, – сказала она, помолчав, – вы заставили меня подумать о вещах, о которых я никогда не думала и не думаю.
– Вы никогда не думаете о Балестриери?
– Никогда.
– Даже сегодня, в тот день, когда отсюда вынесли его тело?
– А сегодня тем более.
– Почему?
Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Я повторил:
– Почему сегодня тем более?
Наконец она ответила очень просто:
– Потому что сегодня я думаю только о вас. Я хотела было пойти за гробом, проводить его издали, незаметно, но потом раздумала и вернулась. Я боялась, что они сменят замок.
– Ну и что?
– Тогда я уже не смогла бы воспользоваться этим предлогом для того, чтобы вас увидеть.
Сделав вид, что я пропустил это признание мимо ушей, я спросил:
– И все же Балестриери что-то для вас значил?
– Ну разумеется.
– Что же?
Она на мгновение задумалась, потом сказала:
– Не знаю. Конечно, что-то он для меня значил, но что – я никогда об этом не думала и потому не знаю.
– Подумайте сейчас.
– Я не могу об этом думать. Нельзя заставить себя думать о ком-то или о чем-то. Тут уж или думаешь, или не думаешь. Это получается само собой.
– А в эту минуту о чем вам думается «само собой»?
– О вас.
Я замолчал, потом зажег сигарету и сказал, как бы подводя итоги:
– Ну все, можете быть спокойны, с допросом покончено, мы подходим к финалу. Итак, если для вас Балестриери значил не так уж много, можно даже сказать, ничего не значил, вы для него были чем-то весьма реальным, весьма конкретным. Чем-то, без чего он не мог обойтись, говоря вашими словами, или чем-то вроде наркотика, если говорить его словами.
– Да, это так.
– То есть для Балестриери вы были не только чем-то весьма реальным, вы были единственной реальностью, которая для него существовала. Ведь когда вы ему сказали, что уйдете, он попытался покончить с собой. Он потому это и сделал, что ваш уход лишал его единственной реальности.
Слушая, она смотрела на меня с видом вежливым и благонравным, но было совершенно очевидно, что мои речи проходят мимо ее ушей; так смотрит ребенок на мать, когда та читает ему мораль, прежде чем дать конфету: он терпеливо пережидает проповедь, которой не придает никакого значения, чтобы по окончании вступить в обладание конфетой. Тем не менее она сказала:
– Да, это правда, я сейчас вспоминаю, что Балестриери всегда говорил, что я для него все.
– Вот видите? Таким образом, хотя он и был несчастливым любовником и плохим художником, кое в чем ему все-таки можно было позавидовать.
– В чем?
– В том, что он мог кому-то сказать: «Ты для меня все».
Она снова замолчала; казалось, она не была уверена, что хорошо поняла смысл моих слов, но доискиваться его не хотела; ей была важна конфета, а не мораль.
Я же опять вернулся к своему:
– Ну а теперь хватит о Балестриери, поговорим о нас.
Казалось, она оживилась – при всей ее сдержанности это было видно по еле заметным признакам: она слегка подалась вперед, как бы демонстрируя внимание и интерес, и легким движением бедер переместилась по дивану еще ближе ко мне.
– Вот уже три или четыре месяца, – сказал я, – мы сталкиваемся в коридоре, и каждый раз, когда вы меня видите, вы смотрите на меня с улыбкой, которую я назвал бы многозначительной. Это так? Если не так, скажите, значит, у меня сложилось неверное мнение.
Она ничего не сказала, только посмотрела на меня так, словно ждала, когда же я кончу этот разговор, который ее совершенно не интересовал. Я продолжил:
– Вы не отвечаете, и я заключаю из этого, что не ошибся. Я прекрасно понимаю, чего вы от меня хотите. Простите за грубость, но все эти четыре месяца вы даете мне понять, что охотно занялись бы со мною тем, чем занимаетесь с Балестриери. Во всяком случае, я так понял. Если я опять-таки ошибся, скажите.
Она по-прежнему молчала, но на лице ее выразилось нечто вроде робкого удовлетворения по поводу того, что ее так хорошо поняли. Я продолжал:
– Балестриери говорил вам, что вы для него все. Это «все» означало, насколько я мог понять, действительно все. Я же, к сожалению, ощущаю прямо противоположное: если для Балестриери вы были «все», для меня вы не значите ничего.
Я на минуту замолчал, глядя на нее, и не мог не восхититься ее невозмутимостью. Она сказала, скромно потупив глаза:
– Но мы знакомы всего полчаса.
Я поспешил объясниться:
– Мне хотелось бы быть правильно понятым. Это совершенно невозможно, чтобы вы стали для меня всем или по крайней мере хоть чем-то в том смысле, какой обычно придается этим словам. Мы действительно, как вы только что заметили, знакомы всего полчаса. Но дело не в этом. Пожалуйста, выслушайте, что я вам скажу, даже если мое объяснение вас не интересует. Итак, я попросил вас зайти ко мне в студию под предлогом, что хочу написать ваш портрет. Верно?
– Да.
– Но это был именно предлог, то есть неправда. Не говоря уже о том, что я много лет не пишу людей и вообще предметы реального мира, я солгал вам еще вот в чем: я не художник, вернее, с некоторых пор я перестал им быть, потому что мне нечего рисовать; я не способен вступить в контакт ни с чем, что имеет отношение к реальности.
Но она не сдавалась:
– Какое это имеет значение – напишете вы мой портрет или нет.
Я не выдержал и рассмеялся:
– Я понимаю, вы не видите никакой связи между тем фактом, что я больше не рисую, и тем, чего вам так хочется. А между тем такая связь есть. Послушайте: я сказал, что вы для меня ничего не значите, но вы не должны искать в этой фразе никакого эмоционального содержания. Как бы вам это объяснить? Скажем, так: вы предлагаете мне себя, как предлагает себя любая вещь. Возьмем конкретный пример: вот этот стакан, который стоит на столе. У него нет ни ваших прекрасных глаз, ни пышной груди, ни округлых бедер, и, прими я его предложение, он не стал бы ни обнимать меня, ни целовать. И тем не менее он предлагает себя ничуть не меньше, чем вы. И не больше. Точно так же, как вы, – откровенно, бесхитростно, без задней мысли. И я вынужден ему отказать, как отказываю вам, потому что он, как и вы, для меня ничто. Я взял в пример стакан, но мог взять что угодно, даже что-нибудь неосязаемое.
– Но почему так уж «ничто»? – сказала она тихо и несмело, заступаясь за стакан.
Я коротко ответил:
– Объяснение завело бы меня слишком далеко и было бы, в общем, бесполезно. Скажем так: этот стакан для меня ничто, потому что между нами не существует никаких взаимоотношений.
Она возразила, заступаясь на этот раз за себя:
– Но ведь отношения создаются, вам не кажется? Нам постоянно приходится вступать в отношения с людьми, которых мы раньше даже не знали.
Я сказал:
– Видите вы эту картину на мольберте?
– Да.
– Это чистый холст, я не нарисовал на нем ничего. И это единственный холст, который я могу подписать. Смотрите.
Я встал, подошел к мольберту, взял карандаш и поставил в углу свою подпись. Она провожала меня взглядом, пока я шел к мольберту и пока возвращался, но ничего не сказала. Сев на место, я продолжал:
– И точно так же единственно возможные отношения между мной и женщиной – это отсутствие отношений, то есть именно те отношения, которые были у нас до сих пор или, вернее, которых у нас не было. Я не импотент, поймите меня правильно, но практически это то же самое, как если бы я был им. Так что можете считать, что так оно и есть.
Я сказал все это решительно и резко, давая ей понять, что больше нам разговаривать не о чем. Но, увидев, что она продолжает сидеть, молчаливая и неподвижная, как будто чего-то ожидая, я не без раздражения добавил:
– Если я не испытываю ничего по отношению к вам, если между нами не существует никаких взаимоотношений, как я могу лечь с вами в постель? Это был бы акт механический, чисто внешний, совершенно бессмысленный и, главное, скучный. А значит…
Я прервал фразу и бросил на нее многозначительный взгляд, словно говоря: «А значит, тебе ничего не остается, как уйти». На этот раз она, кажется, поняла, и неохотно, медленно, делая над собой усилие, явно продолжая надеяться, что я остановлю ее и заключу в объятия, начала подниматься с дивана, ухитряясь при этом оставаться сидящей: она слегка приподняла зад, но торс оставался прямым, а ноги согнутыми. Но так как я не торопился заключить ее в объятия, ей все-таки пришлось встать.
– Простите, – сказала она смиренно, – но если вам все же понадобится натурщица, вы можете мне позвонить. Я оставлю вам телефон.
Я видел, как она подошла к столу и, придерживая на груди полотенце одной рукой, другой написала что-то на листке бумаги.
– Я до сих пор не сказала вам своего имени: меня зовут Чечилия Ринальди. Я написала его вот здесь вместе с адресом и номером телефона.
Она распрямилась и, ступая на цыпочках, направилась в ванну. Можно было подумать, что на ней вечернее платье: полотенце плотно облегло торс, оставляло открытыми плечи и руки и стелилось сзади, как шлейф. Она исчезла, закрыв за собой дверь, но при этом последнем движении полотенце вдруг соскользнуло, и я на мгновение увидел тело, которое Балестриери писал столько раз и которое, видя ее в платье, я не мог себе и представить.
Странно, но, едва она вышла, я почему-то стал думать именно о Балестриери. Я все время возвращался мыслью к ее рассказу о том, как старик ее отверг и месяцами избегал с ней встречаться: он чувствовал своим звериным чутьем, чем она для него станет, и боялся; и еще я спрашивал себя, а что бы было, если бы он не уступил ей в тот день, когда она явилась к нему вместо Элизы, а продолжала бы сопротивляться? Вполне вероятно, что в таком случае он был бы сейчас жив, потому что, конечно же, косвенной причиной его смерти были любовные отношения с Чечилией. Но тогда почему он в конце концов не оттолкнул ее, раз сразу понял, что должен был это сделать? Иными словами, что заставило Балестриери смириться с участью, которую он хотя и смутно, но предчувствовал? И вообще – можно ли уйти от судьбы? А если нет, то к чему тогда все, что он пытался сделать? И возможно ли, чтобы не было никакой разницы между судьбой, принятой бессознательно, и той, которую выбирают?
Сейчас, узнав о первой попытке самоубийства, предпринятой Балестриери после того, как Чечилия решила его бросить, я понял, что, продолжая свои отношения с девушкой, старый художник совершил второе, уже удавшееся ему самоубийство. Наверное, он и на первое-то пошел из боязни, что с уходом Чечилии у него уже не будет возможности совершить второе.
Размышляя обо всех этих вещах, я не переставал удивляться тому, что я о них размышляю, вернее, тому, что размышлять о них меня побуждало не праздное любопытство, а странное ощущение их роковой для меня притягательности, словно история Балестриери касалась и меня, и судьба старого художника была связана с моей судьбой. Я понимал, что, если бы это было не так, я не задавал бы Чечилии столько вопросов, я, может быть, переспал бы с ней, но уж никак не допрашивал.
А я вместо того, чтобы с ней переспать, принялся ее допрашивать, но как бы и о чем бы я ни допытывался, мое любопытство так и осталось неутоленным.
Как я уже сказал, я допрашивал ее именно для того, чтобы понять, почему мне было так нужно ее допрашивать. Это только кажется игрой слов, на самом деле это не игра. В результате мне стало понятно многое, но, судя по чувству неудовлетворенности, которое я испытывал, самое главное от меня все-таки ускользнуло.








