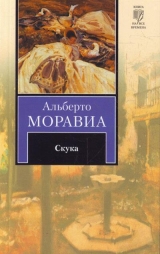
Текст книги "Скука"
Автор книги: Альберто Моравиа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Время от времени среди приступов скуки я спрашивал себя: а может быть, я просто хочу умереть? Это был резонный вопрос, раз уж мне так не нравилось жить. Но и тогда я с изумлением замечал, что хотя мне и не нравилось жить, я не хотел также и умирать. То есть принцип альтернативных пар, которые, как в каком-то мрачном балете, дефилировали перед моим внутренним взором, продолжал действовать даже в ситуации крайнего выбора – между жизнью и смертью. В действительности же, думал я иногда, мне не столько хотелось умереть, сколько не хотелось продолжать жить так, как я жил до сих пор.
Глава первая
Переехав на виа Маргутта, я сумел побороть то необъяснимое, почти суеверное отвращение, которое внушала мне вилла на Аппиевой дороге, и установил довольно регулярные отношения с матерью. Я ходил к ней раз в неделю, завтракать, так как это было то время дня, когда я мог быть уверен, что застану ее одну; я сидел у нее часа два, слушая обычные ее рассуждения, которые знал наизусть и которые касались двух предметов, единственно ее занимавших: ботаники, то есть цветов и плодов, которые она выращивала в своем саду, и денежных дел, которым она посвящала все свое время с тех пор, как вступила в сознательный возраст. Разумеется, матери хотелось, чтобы я навещал ее чаще и в другое время, тогда, например, когда она принимала друзей или принадлежащих к ее кругу людей из общества, но после того как я раза два твердо отклонил ее приглашение, она, по– видимому, смирилась с редкостью моих посещений. Разумеется, смирение это было вынужденным и могло исчезнуть при первом же представившемся случае. «Когда-нибудь ты поймешь, – частенько замечала мать, говоря о себе в третьем лице, что у нее всегда было верным признаком чувства слишком живого для того, чтобы она желала его скрыть, – когда-нибудь ты поймешь, что твоя мать не из тех женщин, которым наносят визиты по долгу вежливости и что твой настоящий дом здесь, а не на виа Маргутта».
В один из таких дней, вскоре после того как я бросил рисовать, я отправился к матери на обычный свой еженедельный завтрак. Хотя, если сказать правду, завтрак был не совсем обычный: на этот день приходился мой день рождения, и мать, боясь, что я позабуду, напомнила мне об этом уже утром, поздравив по телефону в характерной для нее забавной манере, – казенной и церемонной: «Сегодня тебе исполняется тридцать пять. Поздравляю и от души желаю счастья и успехов». И тут же сказала, что приготовила для меня сюрприз.
Итак, где-то около полудня я сел в свой старый расхлябанный автомобиль и двинулся в путь через весь город, как всегда с чувством неловкости и внутреннего протеста, которое нарастало по мере того, как я приближался к цели. Со все усиливающейся душевной тревогой я выехал наконец на Аппиеву дорогу, окаймленную на всем ее протяжении зелеными лужайками, кипарисами, пиниями и руинами кирпичных зданий. Ворота парка, в котором стояла вилла матери, находились примерно на середине дороги, по правую руку, и я, как всегда, поискал их глазами, как будто надеялся, что они каким-то чудом исчезли и я могу спокойно продолжать ехать дальше, до самого Кастелли, а потом вернуться в Рим, в свою студию. Но нет, вот они, распахнутые специально для меня, специально для того, чтобы остановить и затянуть меня внутрь, когда я буду проезжать мимо. Я сбросил скорость, резко повернул и, ощущая глухое и мягкое подпрыгивание колес на гравии, въехал в кипарисовую аллею. Незаметный подъем вел к вилле, которая виднелась в глубине, и, глядя на маленькие черные кипарисы, на их крутые пыльные завитки, на приземистый красный дом, словно прикорнувший под небом, затянутым серыми перистыми облаками, похожими на комки грязной ваты, я снова ощутил в душе тот тоскливый ужас, который чувствовал всегда, направляясь на свидание с матерью. Подобный ужас испытывает, наверное, человек, собирающийся совершить что-то противоестественное; словно въезжая в эту аллею, я возвращался в лоно, которое произвело меня на свет. Я попытался подавить в себе это неприятное ощущение возвращения вспять и изо всей силы нажал на клаксон, сообщая о своем прибытии. Затем, описав на гравии полукруг, остановил машину на подъездной площадке и вышел. Почти сразу же дверь первого этажа отворилась, и на пороге появилась горничная.
Я никогда прежде ее не видел; мать упорно нанимала для нашего огромного дома прислугу, которой едва хватило бы на пятикомнатную квартиру и которая поэтому никогда не задерживалась надолго. Новая горничная была высокая, с широкими мощными бедрами, огромным бюстом и странными, то ли слишком коротко, то ли просто плохо подстриженными, волосами (такие волосы бывают у заключенных или выздоравливающих после тяжелой болезни), с бледным веснушчатым лицом, которое из-за огромных очков в черной оправе, полностью скрывавших глаза, выглядело угрюмым. Еще я отметил рот, похожий на раздавленный цветок бледно-розовой герани. Я спросил, где мать, а она, в свою очередь, спросила у меня, очень мягко:
– Вы синьор Дино? – Да.
– Синьора в саду около парников.
Я направился туда, не преминув по дороге бросить любопытствующий взгляд на машину, которая стояла на площадке перед домом рядом с моей. Спортивная, низкая, мощная, с откидным верхом, металлически-синего цвета. Значит, мать пригласила к завтраку кого-то еще? Размышляя об этой вероятной неприятности, я обошел виллу кругом по идущему вдоль стен кирпичному тротуару, осененному деревцами лавра и каменными дубами, и оказался с другой стороны. Отсюда начинался обширный парк в итальянском стиле – с клумбами в форме треугольника, квадрата, круга, с деревьями, подстриженными то в форме шара, то пирамиды, то сахарной головы, с бесчисленными гравийными аллеями, окаймленными самшитом. Самая широкая аллея, крытая сверху белой металлической перголой, увитой виноградом, делила парк на две части; аллея начиналась от дома и шла до конца участка, где уже у самой ограды поблескивали стекла многочисленных парников. Как раз на полпути между виллой и парниками, под перголой, я увидел спину идущей впереди матери. Почему-то я ее не окликнул, а пошел следом, внимательно ее разглядывая.
Она шла медленно, очень медленно, как человек, который, глядя вокруг, наслаждается тем, что видит, и старается продлить это приятное созерцание. На матери был темно-синий костюм с очень узким в талии и широким в плечах жакетом и узкой, как футляр, юбкой. Она всегда одевалась так, в облегающие костюмы и платья, которые делали ее маленькую рахитичную фигурку еще более сухой, прямой и негнущейся. У нее была длинная нервная шея, большая голова, а белокурые тусклые волосы всегда тщательно завиты и уложены. Даже издали я прекрасно видел каждую жемчужину ожерелья на ее шее – так они были велики. Мать любила броские украшения: массивные кольца, которые свободно болтались на ее худых пальцах; огромные браслеты с амулетами и подвесками, которые, казалось, вот-вот соскользнут с тощих запястий; булавки, слишком роскошные для ее иссохшей груди; серьги, чересчур крупные для некрасивых хрящеватых ушей. С чувством привычной досады я в очередной раз отметил, какими огромными кажутся на ней туфли и сумка, которую она держала под мышкой. Наконец, собравшись с духом, я окликнул ее:
– Мама!
С характерной для нее подозрительностью, она резко, словно почувствовав на плече чью-то руку, остановилась и, не оборачиваясь, повернула на оклик голову. Я увидел худое лицо с запавшими щеками, иссохшим ртом, длинным узким носом и стеклянными голубыми глазами, которые смотрели на меня через плечо. Потом она улыбнулась и, повернувшись, пошла мне навстречу, опустив голову и произнося, словно бы по обязанности, традиционную фразу:
– Добрый день и еще сотню таких дней.
И хотя она вкладывала в эту фразу самые искренние чувства, я не мог не отметить, что голос ее, как всегда, звучал сухо и резко, как у вороны. Подойдя ко мне, она повторила:
– Еще сотню таких дней, ну поцелуй же меня.
Тогда я наклонился и чмокнул ее в щеку. Уже вдвоем мы пошли по аллее дальше. Первым делом мать сказала, указав на виноград, который вился по прутьям перголы:
– Знаешь, на что я смотрю? На виноград. Взгляни-ка!
Я поднял глаза и увидел, что почти все гроздья – одни больше, другие меньше – выглядели так, словно кто-то их высосал.
– Это ящерицы, – сказала мать тем странно-доверительным, сердечным и в то же время рассудительным тоном, каким она всегда говорила о своих растениях. – Эти зверюшки поднимаются по прутьям наверх и едят мой виноград. И тем самым губят мне перголу, потому что черные гроздья среди зеленых листьев выглядят замечательно, но если они наполовину высосаны – эффект уже не тот.
Я сказал что-то о потолке одного римского дворца, расписанном Цуккари, где был как раз использован мотив золотой перголы с черными гроздьями и зелеными листьями, а мать продолжала:
– А вчера вдруг, уж не знаю как, в сад пробралась курица. Одна из этих ящерок как раз была наверху, сосала мой виноград и вдруг свалилась вниз. Так вот, она еще не успела долететь до земли, как ее подхватила курица и буквально всосала в себя. Буквально – всосала.
– Раз так, – сказал я, – заводи кур. Они будут поедать ящериц, и те, будучи съедены сами, уже не смогут поедать твой виноград.
– Ради Бога! Куры, кроме ящериц, уничтожат вообще все, что тут есть. Уж лучше держать ящериц.
Тем временем мы прошли под перголой до самой ограды и прохаживались теперь вдоль парников. Мать то наклонялась, чтобы приподнять двумя пальцами венчик цветка, расцветшего этой ночью; то буквально замирала с остекленевшим взглядом перед глиняным горшком, из которого свисал до самой земли какой-то толстый мохнатый стебель, так похожий на змею, что казалось странным, что он не шипит; то в сухой, поучительной манере сообщала мне какие-то сведения из области ботаники, почерпнутые ею из бесед с двумя нашими терпеливыми – им очень хорошо платили – садовниками, к которым она приставала со своими разговорами все время, пока они работали в саду. Как я уже говорил, любовь к цветам и растениям была единственной поэзией ее жизни, которая во всем остальном была сплошной прозой. Разумеется, она любила меня – по-своему, а приумножением нашего состояния занималась с неподдельной страстью. Но как в делах, так и в отношениях со мной на первое место всегда выступала ее властная, грубая, корыстная и подозрительная натура, в то время как цветы и прочие растения она любила бескорыстно, с полным самозабвением и без всякого расчета. Ну а отец, какой любовью она любила отца? И мне тут же, как всегда, пришла в голову мысль, что по крайней мере в одном мы с отцом сходились: нам обоим не хотелось жить рядом с нею. И я вдруг без всякого перехода спросил:
– А кстати, можно узнать, почему отец всегда от тебя убегал?
Я увидел, что она поморщилась – так она делала всегда, когда я заговаривал с нею об отце:
– А почему «кстати»?
– Не важно, ты ответь на вопрос.
– Твой отец никогда от меня не убегал, – ответила она с холодным достоинством, мгновение помедлив, – он просто любил путешествовать. Посмотри-ка на эти розы – правда, красивые?
Но я продолжал настаивать не допускающим возражений тоном:
– Я хочу, чтобы ты рассказала мне об отце. Если он убегал не от тебя, почему ты не путешествовала вместе с ним?
– Прежде всего кто-то должен был оставаться в Риме, чтобы блюсти наши интересы.
– Ты хочешь сказать – твои интересы?
– Интересы нашей семьи. А потом, мне не нравилось то, как он путешествовал. Я люблю путешествовать с удобствами. Поехать куда-нибудь, где хорошие гостиницы, где живут люди, которых я знаю. Например, в Лондон, в Париж, в Вену. А он потащил бы меня куда-нибудь в Афганистан или Боливию. Терпеть не могу неудобств и не выношу экзотических стран.
Но я стоял на своем:
– Почему же он все-таки убегал из дому или, как ты говоришь, путешествовал? Почему он не хотел оставаться с тобой?
– Потому что он не любил сидеть дома.
– Почему он не любил сидеть дома? Ему что, было скучно?
– Меня это никогда не интересовало. Знаю только, что у него вдруг портилось настроение, он переставал разговаривать, не выходил из дому. Кончалось тем, что я сама давала ему деньги и говорила: «Бери и поезжай, куда хочешь».
– А тебе не кажется, что, если бы он тебя любил, он бы сидел дома?
– Да, наверное, – ответила она спокойно своим неприятным каркающим голосом, в котором, казалось, звучало удовлетворение от того, что произносит он чистую правду. – Но он меня не любил. Ведь это я захотела, чтобы он на мне женился. По своей воле он, вероятно, никогда бы этого не сделал.
– Он был беден, да? А ты богата.
– Да, у него не было буквально ни гроша. Он правда был из хорошей семьи. Но это все.
– А ты не думаешь, что для него это был брак по расчету?
– О нет, твой отец не был корыстен. В этом отношении он был, как ты. Он всегда нуждался, но не придавал деньгам никакого значения.
– Знаешь, почему я расспрашиваю тебя об отце?
– Честно говоря, нет.
– Мне вдруг пришло в голову, что в одном отношении мы с ним похожи. Я ведь тоже временами от тебя убегаю.
Я увидел, что она наклонилась и маленькими ножницами, которых я до того не заметил, аккуратно срезала какой– то красный цветок. Потом распрямилась и спросила:
– Как подвигается твоя работа?
При этом вопросе у меня словно петлей стянуло горло, и я почувствовал, как от меня, как будто кругами, пошлу, заполняя все вокруг, серое ледяное уныние – так бывает, когда на солнце наползет туча и скроет от него землю. Но я все-таки ответил, хотя голос мой звучал сдавленно:
– Я больше не рисую.
– Что значит не рисуешь?
– Я решил бросить живопись.
Матери никогда не нравились мои занятия живописью, прежде всего потому, что она ничего в ней не смыслила, хотя и не любила в этом признаваться и слышать, как ей говорят об этом; кроме того, она думала – и, может быть, была не так уж не права, – что живопись отдаляет меня от нее. Однако я лишний раз восхитился ее самообладанием. Другая на ее месте выразила бы по крайней мере удовлетворение. Она же приняла новость совершенно равнодушно.
– А почему? – спросила она, мгновение помедлив, тоном праздного, вежливого, как бы светского любопытства. – Почему ты вдруг решил бросить живопись?
В этот момент мы уже почти подошли к дому, из кухни доносился запах какого-то замечательного кушанья. Я чувствовал, что мое отчаяние не только не уменьшается, но растет, хотя я и твердил себе, как только мог, яростно: «Сейчас пройдет, сейчас все пройдет». И тут вдруг в моей памяти всплыло одно воспоминание: мне пять лет, и я, безутешно плача, бегу с кровоточащей коленкой вверх по аллее не этого, а другого сада и, добежав, в отчаянии бросаюсь на грудь матери; она же, наклонившись надо мной, говорит своим резким каркающим голосом: «Погоди, не плачь, покажи, что там у тебя; не плачь, разве ты не знаешь, что мужчины не плачут?» Я взглянул на мать, и мне показалось, что впервые за много лет я испытываю к ней чувство любви. И, отвечая на ее вопрос, я сказал:
– Да так. – Самое короткое, что мог придумать, потому что стыдился своего отчаяния и не хотел, чтобы она его заметила.
Однако я сразу же понял, что «да так» не помогло, отчаяние не проходило, я чувствовал его кожей и волосами, весь мир вокруг меня как будто увял и лишился цвета. А потом, втянув ноздрями запах того прекрасного кушанья, который донес до меня легкий порыв ветра, я вдруг ощутил страстное желание броситься матери на шею, чтобы она утешила меня в моем горе с живописью, как утешила она меня пятилетнего, когда я разбил коленку. И я вдруг сказал неожиданно для себя самого:
– Да, кстати, забыл сказать: я бросаю студию, которая мне теперь не нужна, и возвращаюсь сюда, к тебе. – На мгновение я замолчал, сам пораженный этими словами, которые вовсе не собирался произносить, а они вдруг вырвались, сам не знаю как. Потом, поняв, что отступать некуда, я с усилием добавил: – Разумеется, если ты по-прежнему этого хочешь.
Несмотря на изумление, в которое повергло меня мое собственное предложение, я не мог еще раз не восхититься умением матери скрывать свои чувства: на своем светском языке она называла это умение «держать форму». Я сказал ей сейчас то, чего она ожидала долгие годы; может быть, то единственное, что могло доставить ей радость, и вот пожалуйста – ни один мускул не дрогнул в ее сухом, словно бы одеревеневшем лице, ничто не отразилось в ее стеклянных глазах. Медленно, голосом, который звучал более чем когда-либо неприятно, с интонацией светской дамы, которая обменивается в гостиной комплиментами с совершенно безразличным ей человеком, она сказала:
– Как я могу не хотеть! В этом доме тебя всегда примут с распростертыми объятиями. Когда ты переедешь?
– Сегодня вечером или завтра утром.
– Тогда лучше завтра утром, у меня будет время приготовить твою комнату.
– Договорились, завтра утром.
После этих слов мы некоторое время молчали. Я пытался понять, что произошло, уж не было ли моим истинным предназначением сидеть с матерью дома, мириться со скукой, заботиться о нашем фамильном состоянии и быть богатым. По-видимому, и мать тоже уже пережила момент изумления и радости по поводу неожиданной победы и теперь, судя по напряженному выражению сухого неподвижного лица, думала о том, как получше организовать эту победу, то есть планировала свое и мое будущее.
В конце концов она сказала безо всякого выражения:
– Не знаю, нарочно ли ты так подгадал, но, в общем, это добрый знак. Сегодня твой праздник, и именно сегодня ты решил вернуться домой. Утром я уже говорила, что у меня есть для тебя сюрприз: будем считать, что я сделала его в связи с обоими событиями.
Я спросил без особого любопытства:
– Какой сюрприз?
– Пойдем, я тебе его покажу.
– Как бы то ни было, – сказал я раздраженно, – веселиться сегодня можно только по одному из двух поводов: по поводу моего возвращения домой. Вот это и есть праздник.
Почувствовала ли мать сарказм в моих словах? Или не почувствовала? Во всяком случае, она ничего не сказала. Она шла впереди меня, обходя дом по тротуару, пока мы не оказались на подъездной площадке. Там она решительными шагами подошла к красивой спортивной машине, которая стояла рядом с моей, остановилась и положила руку на капот – совсем как те девушки, которые фотографируются на рекламах автомобильных фирм.
– Ты как-то сказал, что хотел бы иметь быстроходную машину. Сначала я было подумала купить тебе гоночную, но они такие опасные, и тогда остановилась вот на этой. Агент фирмы сказал, что это последняя модель, выпущенная несколько месяцев назад. Она делает больше двухсот километров в час.
Я медленно подошел, спрашивая себя, сколько же может стоить автомобиль, который мать решила мне подарить: три миллиона, четыре? Машина была иностранной марки, исполнена в варианте «люкс», я знал, что автомобили этого типа стоят чрезвычайно дорого. А мать тем временем продолжала рассказывать мне о машине все тем же отвлеченно-любознательным, с оттенком сердечности тоном, каким она говорила обычно о цветах своего сада.
– Больше всего мне понравилось вот это, – сказала она, указывая на приборную доску, которая была вся черная, и никелированные кнопки и рычаги сверкали на этом черном фоне, как бриллианты на черном бархате ювелирной витрины. – А потом, мне нравится, что она надежна, как пара прочных башмаков ручной работы, предназначенных специально для дальних прогулок. Надежность, которая внушает доверие. Хочешь проехаться? Мы еще можем сделать небольшой круг до завтрака. У нас есть пара минут, но не больше – на сегодня у меня заказано блюдо, которое не должно перестаиваться.
Я пробормотал, тупо глядя на машину:
– Если хочешь – пожалуйста.
– Да, давай-ка попробуем, ведь надо еще подтвердить агенту, что мы ее покупаем.
Ни слова не говоря, я открыл дверцу и сел за руль. Мать села рядом, и пока я запускал двигатель и включал передачу, продолжала снабжать меня информацией о машине, говоря все тем же доверительно-поучительным тоном.
– У нее откидной верх. Но агент говорит, что зимой сюда не проникает ни малейшего дуновения ветерка. Впрочем, отопление тоже есть. А летом ты можешь ехать с поднятым верхом, так ведь приятнее.
– Да, разумеется, приятнее.
– А цвет тебе нравится? Мне показалось, очень красивый, я даже не захотела смотреть другие. Агент сказал, что металлизация эмали – процедура дорогостоящая, но зато как элегантно!
– Только очень непрочно, – не удержался я.
– Если эмаль обдерется, ее можно нанести заново.
Машина взревела именно так, как ревут гоночные, я развернулся на площадке и быстро понесся по въездной аллее. Автомобиль был мощным и в то же время послушным, я чувствовал, как он буквально уходит из-под меня при малейшем нажатии на акселератор. Мы выехали из порот, и я тут же вспомнил свое недавнее ощущение, когда, подъезжая сегодня к вилле, вдруг почувствовал, что возвращаюсь в лоно, которое меня породило. Сейчас я был внутри этого лона, и, видимо, мне уже не суждено было из него выбраться.
Выехав за ворота, я повернул направо и поехал по Аппиевой дороге в сторону Кастелли. День был хмурым и ветреным, и вершина Монте Каво была окружена черным дымящимся кольцом из грозовых туч. Все, мимо чего мы проезжали, – сосны, кипарисы, руины, поля, изгороди, – казалось матовым от пыли и обожженным летним зноем. Мать в своей прежней непринужденной манере продолжала время от времени, словно бы исподволь, нахваливать машину, как будто постепенно открывая для себя все новые ее достоинства. Ни слова не говоря, я проехал всю Аппиеву дорогу до развилки, повернул плево, на большой скорости добрался до Новой Аппиевой, развернулся у светофора и двинулся назад.
– Ну, что скажешь? – спросила мать.
– Скажу, что по всем статьям это прекрасная машина. Впрочем, я мог сказать это при первом взгляде,
– Как это при первом взгляде, если это совсем новая модель, выпущенная всего месяц назад?
– Я имел в виду, что знаю машины этой марки.
Вот ворота, вот кипарисовая аллея, вот подъездная площадка подле виллы. Описав полукруг, я остановился, затянул ручной тормоз, некоторое время посидел молча и неподвижно, потом резко повернулся к матери и сказал:
– Спасибо.
Она ответила:
– Я купила ее просто потому, что она мне очень понравилась. Если бы я не купила ее для тебя, я взяла бы ее себе.
Мне казалось, что она ждет чего-то еще, по крайней мере если судить по ее лицу – недовольному и требовательному. И я еще раз сказал:
– Нет правда она мне очень нравится, спасибо.
И, потянувшись, коснулся губами ее сухой, шершавой от пудры щеки. И она, видимо, для того, чтобы не показывать, как приятна ей моя ласка, сказала:
– Агент посоветовал – перед тем как начать ездить – прочесть вот эту инструкцию. – Она открыла бардачок и вынула оттуда желтую брошюру. – Дело в том, что этот тип машин требует очень осторожного обращения, они легко ломаются.
– Хорошо, я прочту.
– Имея такую машину, ты мог бы заняться и дальним туризмом. Например, отправиться осенью во Францию или Испанию.
– Поеду весной, в этом году я не могу.
– Весной тоже хорошо. Тут очень вместительный багажник – на три чемодана.
Вот теперь мать казалась полностью удовлетворенной; она даже поступилась формой, ибо по ней было видно – редчайший случай, – как она довольна. Мы пересекли площадку, и мать указала налево: там, в конце узкой и длинной аллеи, обсаженной лавровыми деревьями, виднелось небольшое красное одноэтажное здание.
– А вон и твоя студия, – сказала она, – там все, как было. Никто ни к чему не притрагивался; если хочешь, можешь начать работать хоть завтра.
– Но я же тебе сказал, что бросил живопись.
Она ничего не ответила. Может быть, она показала на студию лишь для того, чтобы заставить меня повторить, что я бросил живопись? Тем временем мы подошли к входной двери. Мать прошла вперед, бросив мне с повелительной интонацией:
– Иди мыть руки, потому что завтрак сейчас подадут.
Она отворила дверь, за которой, я знал, был коридор, ведущий на кухню, и исчезла. А я через другую дверь прошел в ванную. Очутившись посреди голубых кафельных стен, я сунул намыленные руки под теплую струю, невольно глядя на себя в зеркало. В этот момент позади меня приоткрылась дверь, и я увидел в зеркале голову то ли со слишком короткими, то ли с плохо подстриженными волосами: это была горничная, которая встретила меня, когда я приехал.
Не оборачиваясь, продолжая глядеть в зеркало, я спросил:
– Как вас зовут?
– Рита.
– Я вас никогда не видел.
– Я здесь всего неделю.
Я наклонился и с силой намылил лицо, хотя в этом не было никакой нужды: просто мне казалось, что я стал грязным от тоскливых мыслей. Смывая мыло, я услышал мягкий голос Риты: «Полотенце вот тут», – и покивал в знак того, что понял. Когда я снова поднял лицо, девушки уже не было. Я вышел из ванной и прошел через прихожую в гостиную, вернее в анфиладу из четырех-пяти маленьких гостиных, которые занимали весь первый этаж.
Эти парадные комнаты для гостей, сообщавшиеся друг с другом посредством арок и дверей без створок, образуя как бы одно целое, были обставлены совершенно безлико, с той пышной и скучной безликостью, которая всегда отличает мебель, купленную исключительно из-за ее дорогой цены. Вы могли быть уверены, что не найдете тут ни одной вещи, которая была бы не из самых дорогих или по крайней мере не принадлежала бы к категории самых дорогих. У матери не было ни вкуса, ни культуры, ни любопытства, ни любви к прекрасному; критерием выбора при покупке для нее всегда служила цена: чем выше она была, тем очевиднее для нее было, что продаваемая вещь обладает свойствами красоты, утонченности и оригинальности, которые другим способом она просто не в состоянии была бы распознать. Разумеется, мать не сорила деньгами, напротив, она была очень бережлива, и сколько раз приходилось мне слышать, как восклицает она в магазине: «Нет, нет, это слишком дорого, не стоит об этом и говорить». Однако я знал, что, говоря это, она имеет в виду лишь собственную покупательную способность, а вовсе не реальную ценность вещи, в которой она не понимала решительно ничего и которая, хотя и была ей не по карману, оставалась желанной именно потому, что стоила так дорого.
Благодаря такому критерию отбора в доме постепенно собралась коллекция мебели совершенно бесстильной и не создающей никакого уюта, но добротной и внушительной, потому что помимо денежной стоимости мать огромное значение придавала прочности вещи и ее размерам, то есть тем двум качествам, которые она способна была разглядеть и оценить. Глубокие диваны, огромные кресла, гигантские абажуры, монументальные столы, тяжелые шторы, массивные безделушки – все в этой гостиной наводило на мысль о дорогостоящей и добротной роскоши. Впечатление усиливалось сиянием натертого воском паркета, полированных деревянных поверхностей, до блеска начищенной медной и серебряной утвари – чистота тоже была одной из характерных примет этого дома. И наконец повсюду были вазы, в которых стояли букеты, выглядящие всегда почему-то немного похоронно: цветы для них мать каждое утро сама срезала в оранжерее.
Я заметил, что смотрю на все это не как обычно – рассеянно и равнодушно: мне как будто хотелось понять, какое впечатление производят на меня все эти пещи теперь, когда я решил вернуться. И обнаружил, что испытываю чувство какого-то извращенного, постыдного удовлетворения, как будто уступил давнему искушению, продолжающему быть для меня отвратительным даже после того, как я ему поддался. Я подошел к старинному зеркалу в тяжелой раме, которое висело над консолью в глубине гостиной, взглянул в него и, неожиданно для себя, громко сказал: «Кретин» – то ли с яростью, то ли злорадно. И в ту же самую минуту услышал рядом какой-то шорох.
Я обернулся и увидел Риту, которая стояла около сервировочного столика с баром и смотрела на меня вопросительным взглядом сквозь толстые стекла очков в черной оправе. Я спросил себя, слышала ли она, как я обругал себя вслух, но по ее бледному хмурому лицу ничего нельзя было понять. Мгновение помолчав, она сказала:
– Синьора сейчас спустится. Пока она просила предложить вам аперитив. Что вы желаете?
Я снова спросил себя, не было ли в ее голосе иронии, которую я не смог прочесть на ее лице. Но нет, голос был серьезный, по крайней мере казался серьезным. Я сказал, что хотел бы виски, и она, взяв бутылку, очень точными движениями налила немного виски в стакан, разбавила водой, положила кубик льда и протянула мне с вопросом:
– Что-нибудь еще?
Я ответил, что ничего больше не надо, и увидел, как она уходит, ступая в своих подбитых фетром туфлях совершенно беззвучно. Держа в руке стакан, я сел в одно из огромных кресел, зажег сигарету и принялся размышлять. Почему я обругал себя тогда, перед зеркалом? Очевидно, решил я в конце концов, самое опасное в этой комедии блудного сына, которую я разыгрывал перед самим собой, было то, что временами, именно тогда, когда я этого совсем не хотел, меня обуревало желание устроить что-нибудь скандально-безобразное. Иными словами, я был блудный сын особого рода, сын, который, падая в объятия старика отца, испытывает желание дать ему хорошего пинка, а съев праздничный обед, бежит в сад, чтобы его выблевать. Я не успел развить это интересное предположение, потому что вошла мать.
– Рита дала тебе выпить?
– Да, спасибо. Но кто она такая, эта Рита?
– Новенькая, с прекрасными рекомендациями; она служила раньше у американцев, но они уехали. Вообще– то у них она была чем-то вроде гувернантки, но тут детей нет, и я сказала: «Вот что, милая, мне придется разжаловать вас в горничные. Решайте сами, подходит вам это или нет». Она, разумеется, согласилась: еще бы, при нынешней-то безработице!
Мать продолжала рассказывать о Рите и тогда, когда мы уже вошли в столовую, где сама Рита стояла возле буфета в нитяных перчатках, кружевной наколке и маленьком овальном передничке. Я хотел было сказать матери: «Тише, ведь Рита здесь», но посмотрел на угрюмое лицо в очках и внезапно совершенно точно понял, что она видела меня в тот момент, когда я, глядя в зеркало, обзывал себя кретином. Мне показалось, что в глубине души мне не было это неприятно, как будто с той минуты мы с Ритой вступили в отношения некоего тайного сообщничества. Я сел, села и мать, и, усевшись, сказала Рите:
– Рита, синьор Дино – мой сын, и с завтрашнего дня будет жить здесь. Не забудьте, если к телефону позовут синьора по имени Дино, то это мой сын.
Мы сидели один против другого за маленьким круглым столом в небольшой, но очень высокой комнате, положив руки на кружевную флорентийскую скатерть, на которой лежали столовые приборы из английского серебра и стояли тарелки из немецкого фарфора и французские хрустальные бокалы. За спиной матери поблескивало в полутьме резное светлое дерево голландского буфета, а позади меня, я знал, стоял венецианский буфет. Итальянское окно, выходившее в сад, было открыто, но шторы плотно задернуты, потому что мать не любила, как она говорила, чтобы садовники считали куски у нее во рту. Мать сама налила мне вина из хрустального, отделанного серебром графина, потом сказала Рите, что можно подавать. Девушка взяла с буфета поднос с фарфоровым сотейником и поднесла его матери. Та сухо сказала:








