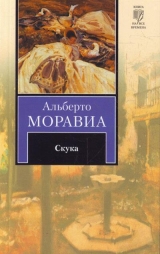
Текст книги "Скука"
Автор книги: Альберто Моравиа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Альберто Моравиа
Скука
Пролог
Я хорошо помню, как бросил рисовать. Как-то раз я просидел в своей студии восемь часов подряд – то работал минут по десять – пятнадцать, то бросался на диван и часа два лежал, уставив глаза в потолок, – и вдруг, словно бы в порыве вдохновения, осенившего меня после стольких бессильных потуг, раздавил в переполненной пепельнице последнюю сигарету, с кошачьей живостью вскочил с кресла, в котором только что расслабленно покоился, схватил острый нож, которым пользовался иногда для того, чтобы соскабливать краски, и, удар за ударом, начал полосовать холст, не успокоившись, покуда не изорвал его в клочья. Затем вытащил из угла чистый холст такого же размера, снял с подрамника изрезанный и натянул новый. И сразу же почувствовал, что вся моя, как бы это сказать, творческая энергия полностью ушла на этот, в сущности, совершенно разумный, хотя и разрушительный акт. Я работал над картиной целых два месяца, упорно и без передышки; изрезать ее ножом было в каком-то смысле то же, что и завершить; может быть, с точки зрения видимых результатов поступок мой носил чисто негативный характер, но для моего творческого состояния это, несомненно, было полезно. И в самом деле, изрезать холст – это было все равно что завершить наконец долгую беседу, которую я вел с самим собой Бог знает сколько времени. Это означало, что я ощутил под ногами твердую почву. Новый холст, натянутый на подрамник, был не просто обычным, еще не загрунтованным холстом, – нет, это был холст, который оказался там в результате долгих трудов. Одним словом, утешал я себя, стараясь подавить душившее меня отчаяние, именно этот холст – с виду такой же, как все прочие, но для меня исполненный смысла, как бы воплотивший в себе результат, – должен помочь мне ощутить себя свободным, способным начать все сначала, – так, словно не было у меня за спиной десяти лет занятий живописью, словно мне снова двадцать пять, как тогда, когда я ушел из дому, от матери, и переехал на виа Маргутта, чтобы никто не мешал мне спокойно работать. Впрочем (было, вполне вероятно, и такое), красовавшийся на подрамнике чистый холст мог выражать результат объективной, внутренней и при этом абсолютно негативной эволюции, которая привела меня к полному краху. И то, что верным было, пожалуй, именно это, второе предположение, подтверждалось, между прочим, тем обстоятельством, что скука, неотступно сопровождавшая мою работу в течение последних шести месяцев, начисто исчезла в тот момент, когда я изрезал холст, – так известковые отложения источника в конце концов настолько засоряют трубу, что вода перестает течь.
Тут, видимо, пришла пора сказать несколько слов об этой самой скуке, чувстве, о котором мне не раз придется упоминать на этих страницах. Дело в том, что, как бы далеко ни заглядывал я в свое прошлое, мне неизменно вспоминается, как мучила меня скука. Но наверное, нужно договориться и по поводу самого этого слова. Для большинства людей скука – это нечто противоположное состоянию, которое испытываешь, приятно проводя время, развлекаясь, а развлекаться – это значит отвлекаться, забываться. Для меня же, напротив, скука вовсе не противоположна ощущению, испытываемому при развлечении, я бы даже сказал, что в каком-то, хотя и очень специфическом смысле, она даже схожа с развлечением. Скука для меня – это ощущение неполноты, недостаточности окружающей меня реальности, ее скудости, ее несоответствия собственным возможностям. Если прибегнуть к сравнению, я могу уподобить свое состояние в тот момент, когда я скучаю, ощущениям человека, который в зимнюю ночь спит под слишком коротким одеялом: натянешь его на ноги – мерзнет грудь, натянешь на грудь – мерзнут ноги, и в результате так и не удается толком заснуть. Если поискать другое сравнение, то можно вспомнить о том, как иногда вдруг, совершенно необъяснимо, в комнате начинает мигать электрический свет: то светло, и все ясно видно – вот кресла, вот диваны, вон там, подальше, шкафы, этажерки, картины, занавески, окна, двери, то внезапно – мгновенье спустя – вокруг темно и пусто. Или вот еще третье сравнение: я мог бы определить скуку как своего рода болезнь окружающих меня предметов, которые словно бы увядают, блекнут, теряя жизненный тонус, – это то же самое, что на протяжении нескольких секунд вдруг увидеть, как цветок, только что бывший бутоном, увядает и превращается в прах.
Скука настигает меня в те мгновения, когда я ощущаю абсурдность окружающего меня мира, то есть тогда, когда он становится, как я уже говорил, каким-то неполноценным, не способным убедить меня в реальности своего существования. К примеру, мое внимание вдруг привлекает к себе вот этот бокал. И до тех пор, пока я говорю себе, что бокал – это стеклянный или металлический сосуд, предназначенный для того, чтобы, не расплескав, подносить ко рту налитую в него жидкость, то есть до тех пор, пока я сохраняю твердое о нем представление, мне кажется, между нами завязываются отношения, достаточные для того, чтобы я поверил в его реальность, а следовательно, и в свою тоже. Но стоит только этому бокалу поблекнуть в моих глазах, то есть утратить свою чувственную предметную убедительность в том смысле, о котором я уже говорил, а именно – стоит ему превратиться передо мной в нечто странное, не имеющее ко мне ни малейшего отношения, или, если говорить попросту, стоит ему показаться вещью совершенно бессмысленной, как из ощущения этой бессмысленности рождается скука, которая есть, в сущности (пора это сказать), выражение некоммуникабельности и полной невозможности ее преодолеть. Однако сама эта скука не доставляла бы мне таких мучений, если бы я не зная, что бокал, не имеющий ко мне отношения, мог бы его иметь, то есть что он существует в каком-то не доступном мне раю, где предметы ни на миг не перестают быть предметами. И из этого следует, что скука, то есть моя неспособность вырваться за пределы своего «я», – это теоретическое сознание того, что, случись чудо, я все-таки мог бы выйти за эти пределы.
Я уже сказал, что, сколько себя помню, я всегда скучал; добавлю к этому, что лишь совсем недавно я сумел достаточно ясно понять, что это такое – моя скука. В детстве же, отрочестве и в первые годы молодости я страдал от нее, будучи совершенно не в состоянии ее объяснить, – так человек страдает от хронических головных болей, не решаясь обратиться к врачу. А уж в детстве эта же самая скука принимала формы настолько неясные, не доступные не только моему – ничьему пониманию, что мать, которой я не мог ничего объяснить, приписывала ее нездоровью – примерно так, как дурное настроение младенцев объясняют тем, что у них режутся зубы. В те годы мне случалось неожиданно прерывать игру и на долгие часы застывать в полной неподвижности так, словно меня оглушили, – это было то самое болезненное состояние, которое вызывало у меня внезапное «увядание» окружающих предметов, а точнее – бессознательное ощущение того, что между мною и остальным миром перестала существовать какая-либо связь. Если в такую минуту в комнату входила мать и, видя меня молчаливым, бледным, безвольным, спрашивала, что случилось, я неизменно отвечал ей: «Мне скучно», объясняя этим ясным и плоским словом сложное и темное состояние своей души. Но мать принимала мое объяснение буквально и, наклоняясь, чтобы меня обнять, обещала сегодня же вечером сводить меня в кино или сулила еще какое-нибудь развлечение, которое, я точно знал, не могло быть лекарством против скуки, так как в самой идее развлечения не было ничего ей противоположного. И покуда матери казалось, что она успешно развеяла мое настроение, я, притворившись, что с радостью принимаю ее предложение, продолжал маяться все той же скукой, которая рождалась во мне и от прикосновения ее губ к моему лбу, ее рук к моим плечам, и даже от вызванного ее словами ослепительного видения киноэкрана. Как я мог объяснить матери, что развеять мою скуку невозможно? Я уже говорил, что скука – это прежде всего выражение некоммуникабельности. И вот, не в силах установить связь с собственной матерью, от которой я чувствовал себя отрезанным, как от всего остального мира, я был вынужден мириться с возникшим между нами недоразумением и лгать ей.
Не буду долго останавливаться на неприятностях, которые доставляла мне скука во времена отрочества. В ту пору мои плохие отметки неизменно приписывались «слабости здоровья» или врожденной неспособности к тому или иному предмету, и я сам принимал это объяснение за неимением другого, более убедительного. Но сейчас-то я прекрасно понимаю, что плохие отметки, которые сыпались на меня в конце каждого учебного года, объяснялись все тем же: скукой. Дело в том, что я с болезненной остротой чувствовал, что не в силах установить какую-либо связь между собой и всей этой кашей из афинских царей и римских императоров, рек Южной Америки и гор Азии, одиннадцатисложного стиха Данте и гекзаметра Вергилия, алгебраических действий и химических формул. Одним словом, вся эта уйма сведений из разных областей знания совершенно меня не затрагивала, а если иной раз и затрагивала, то в результате я лишь еще сильнее ощущал их изначальную бессмысленность. Но, как я уже говорил, ни перед самим собою, ни перед другими я никогда не кичился этими своими чисто негативными ощущениями: наоборот, я убеждал себя в том, что не должен был их испытывать, и страдал от этого. Помню, что уже тогда это страдание поселило во мне стремление как-то определить его и объяснить, но я был подростком со всею свойственной этому возрасту амбициозностью и педантизмом, и результатом моих усилий явился проект всемирной истории, рассмотренной с точки зрения скуки. В основе всемирной истории, рассмотренной под этим углом зрения, лежала очень простая мысль: пружиной истории была не биологическая эволюция, не экономические факторы, и вообще ни один из тех мотивов, которые выдвигаются историками разных школ – пружиной была скука. Воодушевленный своим замечательным открытием, я приступил к делу с самого начала. Итак, в начале была скука, вульгарно именуемая хаосом. Наскучив этой скукой, Бог создал землю, небо, воды, животных, растения, Адама и Еву; эти последние, соскучившись, в свою очередь, в раю, съели запретный плод. Они наскучили Богу, и он выгнал их из Эдема; Каин, которому наскучил Авель, его убил; Ной, когда заскучал сверх всякой меры, изобрел вино; Бог, которому снова наскучили люди, наслал на них потоп, но последний, в свою очередь, до того наскучил Богу, что он вернул на землю хорошую погоду, и так далее. Великие египетские, персидские, греческие и римские империи создавались от скуки и от скуки же погибали; скука язычества породила христианство, скука католицизма – протестантизм; соскучившись в Европе, люди открыли Америку; соскучившись от феодализма, сделали французскую революцию, соскучившись от капитализма – русскую. Я составил список всех этих сделанных мною замечательных открытий, а затем с большим старанием принялся писать саму историю. Не помню точно, но мне кажется, что я не пошел дальше чрезвычайно детального описания жестокой скуки, которая терзала в Эдеме Адама и Еву, и того, как от этой самой скуки они впали в смертный грех. Затем, соскучившись, в свою очередь, от своего проекта, я забросил дело, так и не тронувшись с места.
Надо сказать, что в период между десятью и двадцатью годами я страдал от скуки больше, чем в любую другую пору своей жизни. Я родился в тысяча девятьсот двадцатом, и, значит, моя юность прошла под черным знаком фашизма, то есть того политического режима, который возвел некоммуникабельность в систему: некоммуникабельность определяла отношения диктатора с массами, отдельных граждан между собою и их же отношения с диктатором. Скука, которая есть отсутствие каких-либо связей между человеком и окружавшим его миром, во времена фашизма была растворена в самом воздухе, которым мы дышали; а к этой, социальной, скуке следует добавить еще скуку неосознанной и безотлагательной сексуальной потребности, которая, как обычно бывает в этом возрасте, мешала мне вступить в подлинно человеческие отношения с теми самыми женщинами, в чьем обществе, мне казалось, я свою скуку рассеиваю. Однако эта же скука спасла меня от участия в гражданской войне, которая вскоре разразилась в Италии и опустошала ее в течение двух лет. Вот как это было. Я служил в дивизии, дислоцировавшейся в Риме; как только объявили перемирие, я снял форму и вернулся домой. Затем всем военнослужащим было приказано – под страхом смертной казни – возвратиться в ряды армии. Мать, с характерным для нее почтительным отношением к властям, которых в ту пору было две – немецкая и фашистская, советовала мне надеть мундир и вернуться в строй. Она желала меня спасти, но на самом деле толкала на путь депортации, что, вполне вероятно, повлекло бы за собой гибель в нацистском концлагере, как это и случилось со многими моими товарищами по военной службе. И именно скука, и только скука, то есть внутренняя невозможность уловить какую-либо связь между мною и этим приказом, мною и военной формой, мною и фашистами, скука, от которой я мучился двадцать лет, ибо она делала в моих глазах просто-напросто несуществующими обе великие мперии – и империю ликторского пучка, и империю свастики[1]1
То есть фашистскую Италию и нацистскую Германию. (Здесь и далее примеч. пер.)
[Закрыть], – эта скука на этот раз меня спасла. Не послушавшись уговоров матери, я укрылся в деревне, на вилле одного моего приятеля, и просидел там всю гражданскую войну, занимаясь живописью, – способ убивать время не хуже всякого другого. Так я стал художником, или, точнее сказать, поддался иллюзии, будто посредством художественного выражения смогу раз и навсегда установить связь между собой и окружающей меня реальностью. Я действительно испытал поначалу некоторое облегчение, вызванное энтузиазмом, с которым я приступил к работе, и даже почти убедил себя в том, что моя скука была скукой художника, который просто не догадывался о том, что он художник. Я ошибся, но в течение какого-то времени мне казалось, что я нашел способ излечения.
В конце войны я вернулся к матери, которая за это время успела купить большую виллу на Аппиевой дороге. Как я уже говорил, мне казалось, что занятия живописью окончательно развеют мою скуку, но вскоре я убедился, что это не так. Несмотря на живопись я снова начал скучать; больше того, так как скука автоматически прерывала мои занятия живописью, я наконец смог составить точное представление об интенсивности и частоте приступов этой болезни, куда более точное, нежели в ту пору, когда я еще не рисовал. Когда проблема скуки предстала передо мной во всей своей неизменности, я начал спрашивать себя, какие же у нее могли быть причины, и методом исключения пришел к выводу, что скучал я оттого, что был богат, и что будь я беден, я бы, по-видимому, не скучал. Эта мысль вырисовывалась в моем сознании не с такой ясностью, как сейчас, когда она предстает написанной на бумаге; тогда это была не столько мысль, сколько подозрение, правда принявшее вскоре почти маниакальный характер: мне казалось, что между моею скукой и моими деньгами существует несомненная, хотя и неявная связь. Я не хочу останавливаться слишком долго на этом достаточно неприятном периоде моей жизни. Так как я снова начал скучать, а когда я скучал, я бросал живопись, я от всей души возненавидел нашу виллу и роскошь, которая меня там окружала; возлагая именно на них вину за одолевавшую меня скуку, которая лишала меня возможности рисовать, я стал страстно мечтать оттуда уехать. Но так как речь шла – как я уже говорил – всего лишь о подозрении, я не решился прямо сказать матери то единственное, что, в сущности, должен был сказать: я не хочу жить у тебя, потому что ты богата, а богатство нагоняет на меня скуку, а скука мешает мне рисовать. Однако я инстинктивно вел себя так, чтобы, потеряв терпение, мать сама приняла решение о моем отъезде.
Я вспоминаю тот период моей жизни как время вечных споров, бесконечных размолвок, ожесточенной вражды, почти болезненной неприязни. Никогда я не вел себя с матерью так ужасно, как в ту пору, и таким образом к испытываемой мною скуке примешивалась еще и смутная жалость к той, которая никак не могла понять причин моей грубости. Но больше всего я страдал от чего-то вроде паралича, поразившего меня в те дни и сделавшего немым, апатичным, упрямым; мне казалось, что я заживо замурован внутри самого себя, как внутри наглухо запертой душной тюрьмы.
Моя жизнь на материнской вилле и вызываемое этой жизнью душевное состояние, вероятно, продлилось бы много дольше, если бы, на мое счастье, мать не решила бы, что узнает в моей скуке чувство, подобное тому, которое однажды уже испортило ее отношения с моим отцом. И тут, по-видимому, надо хотя бы коротко рассказать и о нем, то есть о том человеке, который прошел по дороге скуки раньше меня.
Так вот, насколько мне удалось выяснить, отец мой был прирожденным бродягой, одним из тех людей, которые, сидя дома, постепенно перестают разговаривать, теряют аппетит и вообще отказываются жить (так некоторые птицы не могут жить в клетке), но, очутившись на палубе корабля или в купе поезда, сразу обретают свойственную им жизнерадостность.
Он был высокий, атлетически сложенный, белокурый – как я; но я некрасив, потому что рано полысел, и лицо у меня чаще всего тусклое и мрачное, отец же был именно красив, если верить дифирамбам матери, которая в свое время женила его на себе насильно, несмотря на то что он не переставал твердить, что не любит ее и непременно от нее уйдет.
В сущности, я его совсем не знал, потому что он вечно где-то путешествовал; последний раз, когда я его видел, волосы у него были уже почти совсем седые, а все еще молодое лицо изрезано тонкими глубокими морщинами; тем не менее он продолжал носить легкомысленные галстуки бабочкой и клетчатые костюмы времен его молодости. Он приезжал и тут же уезжал, вернее убегал от моей матери, с которой ему было скучно; потом возвращался, вероятно затем, чтобы раздобыть денег для нового побега, потому что у самого у него не было ни гроша, хотя и считалось, что он занимается «экспортом-импортом». В конце концов однажды он не вернулся. Сильный порыв ветра перевернул в одном из внутренних морей Японии ferry-boat[2]2
Паром (англ.).
[Закрыть] с сотней пассажиров, и отец оказался в числе утонувших. Что делал он в Японии, был ли он там в связи с «экспортом-импортом» или занимался чем-то еще, я так никогда и не узнал. По мнению матери, которая любит научные и наукообразные определения, у отца была дромомания, то есть страсть к перемене мест. Может быть, этой мании, объясняла она, словно размышляя вслух, был обязан он и своею страстью к маркам, этим крохотным ярким свидетельствам многообразия и обширности мира; отец собрал прекрасную коллекцию, которую она продолжала хранить, тем более что география была единственным предметом, который она хорошо изучила в школе. Мне казалось, что мать рассматривает дромоманию отца как сугубо индивидуальную и малосущественную особенность; меня же именно эта особенность заставляла испытывать поистине братское сочувствие к его патетической, почти стершейся и чем дальше, тем больше стиравшейся из памяти фигуре, в которой, мне казалось, я различал, во всяком случае в сфере отношений с матерью, черты некоторого сходства с собою. Но, как понял я позднее, сходство было чисто внешним: отец действительно страдал от скуки, но избавлялся от нее в счастливом бродяжничестве, переезжая из страны в страну; иными словами, его скука была самой обычной скукой, которая проходит от новых и необычных ощущений, Да и в самом деле, достаточно сказать, что отец верил в мир, во всяком случае географический, в то время как я не мог поверить даже в существование бокала.
Однако мать не пожелала углубляться во все эти тонкости и решила, что, без сомнения, узнает в моей скуке то легко излечимое уныние, которое когда-то осложняло ее отношения с мужем: «К сожалению, от отца ты взял больше, чем от меня», – твердо сказала она мне как-то однажды. «А я знаю, что, когда на вас это находит, лучшее средство – расстаться. Так что уходи, уезжай куда угодно, а когда все пройдет, возвращайся».
Я сразу же с облегчением ей ответил, что в мои намерения вовсе не входило куда-нибудь уезжать: путешествия меня совершенно не интересовали. Мне просто хотелось уйти из дому и зажить самостоятельно. Мать возразила, что это глупо – жить отдельно, когда в моем распоряжении роскошная вилла, в которой я к тому же могу делать все, что захочу. Но я уже решил воспользоваться подвернувшимся случаем и резко ответил, что уйду прямо завтра, ни на минуту не задержавшись. Таким образом мать поняла, что это серьезно. И ограничилась лишь тем, что с горечью ко всему привыкшего человека заметила, что даже в тоне моего ответа она узнает отца; так что ладно, пусть я делаю, что хочу, и живу там, где вздумается.
Оставалось решить денежный вопрос. Как я уже говорил, мы были богаты, и до сих пор я пользовался своего рода неограниченным кредитом: когда мне нужны были деньги, я брал их со счета матери. Однако мать, полагая, что повторяет со мной опыт, уже проделанный с отцом, которому она давала денег достаточно для того, чтобы он мог уехать, но недостаточно для того, чтобы остаться вдали от нее навеки, сухо ответила, что с этой минуты она определит мне месячное содержание. Я ответил, что о лучшем и не мечтаю; а когда она, скрывая неловкость за раздражением, назвала сумму, которую собиралась мне назначить, я тут же сказал, что готов удовольствоваться и половиной. Мать, видимо, приготовившаяся к спорам того рода, что бывали у нее с отцом, которому всегда было мало, очень удивилась моему неожиданному бескорыстию. «Но, Дино, на такие деньги невозможно прожить!» – невольно воскликнула она. Я ответил, что это мое дело, и, чтобы не изображать из себя аскета, добавил, что надеюсь вскоре начать зарабатывать живописью. Мне показалось, что мать взглянула на меня с сомнением: я знал, что она не верит в мои способности как художника. Несколько дней спустя я нашел студию на виа Маргутта и переехал туда со всем своим имуществом.
Как и следовало ожидать, перемена местожительства ничего не изменила в моем душевном состоянии. Как только прошло первое облегчение, которое обычно следует за всякой переменой, меня, как и прежде, стала периодически одолевать скука. Я сказал: «как и следовало ожидать», потому что, конечно же, можно было предвидеть, что скука не рассеется только оттого, что я переменил квартиру; ведь не говоря об остальном, я мог считать себя богатым не только потому, что обитал на Аппиевой дороге, но и потому, что располагал определенной суммой денег. То, что я не желал ими пользоваться, дела не меняло: многие богачи, если они скупы, тратят лишь крохотную часть своих доходов и живут бедно, однако никому не придет в голову считать их из-за этого бедняками.
Таким образом, первая моя идея, вернее, сделавшаяся навязчивой мыслью догадка о том, что скука и связанное с нею творческое бессилие объясняются жизнью в доме матери, постепенно сменилась другой, еще более навязчивой: отказаться от собственного богатства попросту невозможно; быть богатым – это то же, что иметь голубые глаза и орлиный нос; тончайшими нитями богач связан со своими деньгами, которые окрашивают в цвет денег даже его решение ими не пользоваться. И в самом деле, ведь я не мог даже отнести себя к категории бедняков, которые когда-то были богаты: я был богач, который лишь притворяется бедным перед собою и перед людьми.
То, что дело обстоит именно так, я доказывал себе следующим образом. «Что делает настоящий бедняк, когда у него нет денег? Умирает с голоду. Что делаю в таком случае я? Иду просить помощи у матери. И даже если не иду, все равно меня нельзя считать бедным – разве что сумасшедшим. К тому же, продолжал я, в моем случае нет даже ничего особенного. Это самый заурядный случай: ведь я не отказывался от материнских денег, я только ограничивал себя самым необходимым. По отношению к настоящим беднякам я находился в том заведомо нечестном, привилегированном положении, в котором находится богатый игрок по отношению к игроку бедному: первый может проигрываться до бесконечности, второй – нет. Но главное: первый может действительно «играть», то есть развлекаться, в то время как второй должен непременно стремиться выиграть».
Трудно пересказать, чту я испытал, обдумывая все эти веши. Я чувствовал себя жертвой каких-то низких козней, против которых ничего не мог предпринять, потому что не знал, где и когда напущена на меня эта порча. Иногда я вспоминал евангельское изречение: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное», и спрашивал себя, что же все-таки значит быть богатым. Богатый – это тот, у кого много денег? Или тот, кто родился в богатой семье? Или тот, кто всю жизнь прожил и продолжает жить в обществе, ставящем богатство выше всего на свете? Или тот, кто считает, что самое главное в жизни – это богатство, и при этом не важно, хочет ли он разбогатеть или сожалеет о том, что богат? Или как в моем случае, богач – это тот, кто, будучи богатым, не хочет им быть? Чем больше я над этим раздумывал, тем труднее мне было определить точный смысл положения и предназначения человека, которого можно назвать богатым. Разумеется, всего этого не было бы, если бы я сумел избавиться от своей исходной навязчивой мысли, будто испытываемая мною скука ведет свое происхождение от богатства, а творческое бессилие – от скуки. Но все наши мысли, даже самые рациональные из них, уходят в темную глубину чувства. А от чувства избавиться не так легко, как от мыслей: мысли приходят и уходят, чувства остаются.
Вы, конечно, можете мне на это сказать, что все дело в том, что я был плохим художником, хотя и (редкий случай) сознающим свое ничтожество. Это верно, но это не все. Разумеется, я был плохим художником, но не потому, что не умел писать картины, которые нравились бы людям, а потому, что чувствовал – мои картины не выражают меня, то есть не дают мне ощущения связи с окружающим миром. А ведь рисовать-то я, между прочим, начал именно для того, чтобы развеять скуку. И если я продолжал скучать, стоило ли продолжать рисовать?
Если не ошибаюсь, от матери я съехал в марте тысяча девятьсот сорок седьмого года; и вот прошло более десяти лет, и я, уничтожив свою последнюю картину, решил бросить живопись. И сразу же скука, которую занятия живописью хоть как-то сдерживали, навалилась на меня с неслыханной силой. Я уже говорил, что скука – это прежде всего потеря связи с окружающим миром; так вот, в эти дни мне не хватало связи не только с миром, но и с самим собой. Я понимаю, что всё это вещи труднообъяснимые, и попытаюсь прибегнуть к помощи сравнения: в течение всего того времени, которое последовало за решением бросить живопись, я был для самого себя чем-то вроде несносного попутчика, которого путешественник неожиданно обнаруживает в своем купе в самом начале длинного пути. Купе старого типа, то есть не сообщающееся с другими, поезд остановится только на конечной станции, и, следовательно, наш путешественник вынужден терпеть общество ненавистного соседа до самого конца. Ну а если отбросить сравнения, то можно сказать так: скука, пусть даже слегка смягченная занятиями живописью, изглодала мою жизнь до такой степени, что не оставила во мне живого места, и стоило мне бросить живопись, как я незаметно превратился в развалину, в какой-то жалкий бесформенный обрубок. Теперь, как я уже говорил, главным в моей скуке стало ощущение полной невозможности наладить связь с самим собой, а между тем я как раз и был тем единственным в мире человеком, избавиться от которого никакими силами не удавалось.
Я стал в ту пору ужасно нетерпелив. Что бы я ни делал, все мне не нравилось или, казалось, не заслуживало внимания; с другой стороны, я не представлял себе, что могло бы мне понравиться или по крайней мере хоть ненадолго меня занять. Я только и делал, что приходил в студию и тут же уходил под любым ничтожным предлогом, какой только мог придумать, чтобы оправдать свой уход: пойти за сигаретами, которые были мне не нужны, или выпить кофе, которого мне совсем не хотелось, или купить газету, которая меня не интересовала, или сходить на выставку, которая не вызывала у меня никакого любопытства. С другой стороны, я чувствовал, что все эти предлоги есть не что иное, как отчаянная попытка смены личин, которыми прикрывалась моя скука; так что иной раз я даже не доводил начатое до конца, и вместо того, чтобы купить газету, или выпить кофе, или сходить на выставку, я, сделав несколько шагов, возвращался в ту самую студию, откуда с такой поспешностью вышел минуту назад. Но и в студии, разумеется, меня поджидала скука, и все начиналось сызнова.
Я брал книгу – у меня была маленькая библиотека, я всегда был усердным читателем, – но она очень скоро выпадала у меня из рук: романы, статьи, пьесы – вся литература мира сводилась в конце концов к одной-единственной странице, которая не в силах была удержать моего внимания. Да и почему она была обязана его удержать? Слова – это символы вещей, а именно с вещами у меня рвалась всякая связь в минуты скуки. Я откладывал книгу или в припадке ярости швырял ее в угол и призывал на помощь музыку. У меня был прекрасный проигрыватель, подарок матери, и сотня пластинок. Но кто сказал, что музыка непременно должна «действовать», то есть что она способна заставить себя слушать даже самого рассеянного человека? Тот, кто так сказал, был неточен. Потому что мои уши отказывались не только слышать, но и слушать. И потом в тот самый миг, когда я выбирал пластинку, меня парализовала мысль: какой же должна быть музыка, чтобы ее можно было услышать даже в те минуты, когда тебя одолевает скука? Кончалось тем, что я выключал проигрыватель, бросался на диван и начинал думать о том, что бы мне еще сделать.
Больше всего меня поражало, что я не хотел делать решительно ничего, страстно при этом желая сделать хоть что-нибудь. Все, что я собирался сделать, тут же представало передо мною – как сиамский близнец с братом – в паре со своею противоположностью, которая отвращала меня в той же степени. В результате я чувствовал, что мне не хотелось видеть людей, но и не хотелось оставаться в одиночестве; не хотелось сидеть дома, но и не хотелось выходить; не хотелось путешествовать, но и не хотелось продолжать жить в Риме; не хотелось рисовать, но и не рисовать тоже не хотелось; не хотелось бодрствовать и не хотелось спать; не хотелось заниматься любовью, но и отказываться от нее тоже не хотелось, и так далее. Я говорю «чувствовал», но точнее было бы сказать, что я чувствовал это с отвращением, омерзением, ужасом.








