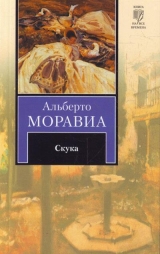
Текст книги "Скука"
Автор книги: Альберто Моравиа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Я не захотел оставаться; попрощавшись с вдовой, я вернулся в свою студию и, бросившись на диван, погрузился в раздумье. Доказательства того, что Чечилия была продажна, все множились, но, странное дело, эти доказательства ничего не доказывали. Даже будучи доказанной, эта продажность вдруг обнаруживала в себе что-то, что начисто опровергало саму идею продажности: деньги Балестриери, как сказала сама же вдова, она отдавала любовнику, Тони Пройетти. О том, что так это и было, свидетельствовала бедность гардероба Чечилии и то, что у нее не было ни одной, даже самой жалкой, драгоценности. Если она не отдавала деньги Пройетти, куда же они в таком случае могли деться?
На следующий день после визита вдовы, дождавшись появления Чечилии, я сразу же в упор ее спросил:
– Кто такой Тони Пройетти?
Она без колебаний ответила:
– Саксофонист, он играет в «Канарино».
– Нет, кто он тебе?
– Он был мой жених.
– Вы были помолвлены?
– Да.
– И что?
– Что «и что»?
– Что произошло?
Она ответила с некоторым напряжением:
– Он меня бросил.
– Почему?
– Ему понравилась другая девушка.
– Балестриери знал о вашей помолвке?
– Конечно. Я была помолвлена в четырнадцать лет, то есть за год до знакомства с Балестриери.
Пораженный, я пробормотал:
– Но ты же всегда говорила, что Балестриери ни о ком ничего не знал, что он был ревнив, что он даже обращался в сыскное агентство, чтобы тебя выследить.
Она ответила очень просто:
– К Тони Балестриери меня не ревновал, потому что он сам появился уже после Тони, и я сразу же ему сказала, что я помолвлена. Он ревновал, когда думал, что я изменяю ему с кем-то другим.
– Но кто-то другой в самом деле был?
– Да, но это длилось очень недолго.
– Другой был одновременно с Тони?
– Нет, он появился сразу после того, как мы расстались.
– А Тони знал о Балестриери?
– Да что ты! Он убил бы меня, если бы узнал.
– Но кто же в таком случае был у тебя первым?
– Что значит первым?
– Первым, с кем ты спала.
– Тони.
– А сколько тебе было лет?
– Я тебе уже сказала – четырнадцать.
– А сейчас ты видишься когда-нибудь с Тони?
– Иногда мы встречаемся и здороваемся.
– Скажи мне еще вот что: Балестриери давал тебе деньги?
Она посмотрела на меня, помолчала и сказала, как бы преодолевая какое-то странное внутреннее сопротивление:
– Да, давал.
– Много или мало?
– Когда как.
– Что значит «когда как»?
Она снова промолчала, потом сказала:
– Я не хотела, но он давал мне их насильно.
– То есть?
– Насильно. Он знал, что у Тони нет ни гроша и что, когда вечерами мы выходим с ним погулять, у нас нет денег, даже чтобы пойти в кино, и он заставлял меня брать деньги, чтобы я отдавала их Тони.
– Это он тебе сказал, чтобы ты отдавала их Тони? —Да.
– И как это случилось в первый раз?
– Как-то я сказала ему, что из-за того, что у нас нет денег, по вечерам мы просто бродим по улицам. Тогда он взял десятитысячную банкноту, вложил ее мне в руку и сказал: «Возьми, так вы сможете по крайней мере сходить в кино».
– А ты?
– Я не хотела, но он заставил меня взять. Он пригрозил, что, если я не возьму, он расскажет Тони, что мы любовники, и тогда я взяла.
– А потом он продолжал давать тебе деньги?
– Да.
– А давал он тебе более значительные суммы?
– Так как он знал, что мы с Тони собираемся пожениться и обзавестись домом, он заставил меня взять деньги на мебель.
– И что стало с этой мебелью?
– Она стоит в доме у Тони, я ему ее оставила.
– А машина?
– Какая машина?
– Разве не Балестриери заплатил за машину, которую купил Тони?
– А, да, за малолитражку. А кто тебе сказал?
– Вдова Балестриери.
– А, эта…
– Ты ее знаешь?
– Она приходила ко мне, требовала, чтобы я отдала ей деньги.
– И что ты ей сказала?
– Я сказала ей правду. Что ее муж заставлял меня брать деньги и что у меня ничего нет, потому что я все отдала Тони, как хотел ее муж.
– Сколько времени Балестриери давал тебе деньги?
– Почти два года.
– А как ты объясняла Тони, откуда берутся деньги?
– Я говорила, что у меня богатый дядя, который меня любит.
– А после того как Тони тебя бросил, Балестриери продолжал давать тебе деньги?
– Да, время от времени, если я просила.
– Но тому, другому, который появился после Тони, к которому ревновал Балестриери, ему ты тоже давала деньги?
– Этому деньги были не нужны. Он был сын промышленника.
– И он тоже тебя бросил?
– Нет, это я его бросила, потому что разлюбила.
– А кого ты полюбила?
– Тебя. Помнишь, мы встречались в коридоре, и я всегда на тебя смотрела? Вот тогда я его и бросила.
– Балестриери заметил, что ты в меня влюбилась?
– Нет.
– Ты никогда не говорила обо мне с Балестриери?
– Как-то раз. Он тебя не выносил.
– Что он обо мне говорил?
– Говорил, что ты выскочка.
– Выскочка?
– Да. И еще он ненавидел твою живопись. Говорил, что ты не умеешь рисовать.
Из этого разговора я вынес впечатление, что моя попытка доказать себе самому продажность Чечилии потерпела полный провал. Чечилия не была продажной, во всяком случае ее личность в это понятие не укладывалась. Кроме того, мне стало ясно, что Балестриери пытался утвердить свое превосходство над Тони тем, что посредством Чечилии его содержал, так что саксофонист об этом даже не догадывался, а Чечилия, хотя и предоставила себя для этого психологического маневра, не знала о нем и в нем не участвовала. Иными словами, как и со мной, Чечилия и с Балестриери умела разграничивать мир денег и мир любви. Разумеется, мы с Балестриери могли утверждать, что давали ей деньги, но она всегда могла доказать, что не считает себя «оплаченной». Ну и, наконец, то, как вел я себя с Чечилией, все больше напоминало поведение Балестриери, с той только разницей, что старый художник пошел дальше меня. Но зато моя мания была сильнее: ведь у него не было предшественника, который мог служить ему зеркалом, и естественно, что он не сумел остановиться. А у меня был он, который при каждом шаге предупреждал меня о том, чем я рискую, но, несмотря на это, я повторял все его ошибки, и мне даже как будто нравилось их повторять.
Глава девятая
Чечилия между тем продолжала встречаться с Лучани каждый день, включая и те дни, когда виделась со мной, и таким образом ее неуловимость, то, о чем я давно подозревал, стала неопровержимым фактом, очевидным, как тавро, и отныне мне надлежало считаться с этим фактом и как-то к нему приспосабливаться. Я чувствовал, что моя к ней любовь, порожденная невозможностью обладания, после долгих метаний между скукой и страданием приобрела вид болезни, состоящей из четырех последовательных фаз: попытка овладеть ею помимо сферы сексуальных отношений, провал этой попытки, потом яростная и ничего не дающая сексуальная фаза, снова провал и – опять все сначала. И все-таки единственным, с чем я так и не мог примириться, была именно неуловимость Чечилии: я просто не в силах был делить с Лучани ее благосклонность. Помню, что, подобно Балестриери, который не ревновал ее к Тони Пройетти, потому что тешил себя мыслью, что это Тони она изменяет с ним, я пытался утешиться тем, что я знаю, что Чечилия спит с актером, а он не знает, что она спит со мной. Иными словами, по отношению к Лучани я пытался занять позицию, которую занимает любовник по отношению к ничего не подозревающему мужу: ведь любовники не ревнуют к мужьям именно потому, что «знать» в иных случаях значит «обладать», а «не знать» – «не обладать». Это было жалкое утешение, но оно давало мне возможность бесконечно заниматься построениями типа: «Я знаю о Лучани, а Лучани обо мне не знает, следовательно, Чечилия не мне изменяет с ним, а ему со мной». Кроме того, как когда-то у Балестриери, тут были замешаны деньги: я давал ей деньги, а Лучани не только не давал, но тратил их вместе с нею, тратил мои деньги; и раз платил я, а не он, значит, опять-таки в каком-то смысле она изменяла ему со мной. Однако нельзя было исключить, что с Лучани она спала из любви, а со мной из-за денег, а значит, она изменяла мне с Лучани. С другой стороны, у меня было много случаев убедиться, что Чечилия не придавала деньгам никакого значения. Стало быть, деньги в наших отношениях приобретали чисто духовный характер, а раз актер их ей не давал, то это ему она изменяла со мной. И так далее, до бесконечности.
Однако все эти замечательные рассуждения все-таки не могли зачеркнуть того грубого и очевидного факта, что Чечилия спала с Лучани и что до тех пор, пока это будет длиться, я не смогу считать ее своей, потому что настоящее обладание не может быть неполным. И если б Чечилия хотя бы давала мне забыть об этой неполноте! Но нет, будучи уверена, что она раз и навсегда разрешила проблему одновременного присутствия в ее жизни двух мужчин, она не только по всякому поводу совершенно спокойно рассказывала мне о своих отношениях с актером, но не заботилась даже о том, чтобы скрыть следы любовных ласк, которые Лучани оставлял на ее теле. Впрочем, в голосе Чечилии, когда, отвечая на мой вопрос, она говорила: «Это Лучани, он меня укусил» или: «Белое пятно на платье? Это Лучани, последний раз мы занимались любовью, не раздеваясь», – не было ни малейшего злорадства, а одна только спокойная уверенность человека, которому приятнее сказать правду, чем выдумывать всякие небылицы. Чечилия была настолько уверена в том, что необходимость делиться с Лучани уже не причиняет мне боли, что в конце концов стала в моем присутствии назначать ему по телефону свидания, а потом еще и просить меня ее к нему провожать. И как-то однажды, когда я вез ее на улицу Архимеда, где ее ждал Лучани, она внезапно сказала: «Я была бы рада, если бы вы с Лучани познакомились и подружились». Я ничего на то не ответил, но подумал, что, если бы мир был устроен по образу и подобию Чечилии, он был бы совсем не похож на тот, в котором мы живем: то был бы мир, где все перемешано и свалено в одну кучу; мир бесформенный, случайный и ирреальный; мир, в котором все женщины принадлежали бы всем мужчинам, и не было бы такой женщины, у которой был бы только один мужчина.
Но я страдал. И постепенно из этого страдания проросла фантастическая мысль, и меня поразило, что она не пришла мне в голову раньше: может быть, единственным средством избавиться от Чечилии, то есть сделать так, чтобы она мне наскучила, было жениться на ней. Чечилия-любовница никак не могла мне наскучить, но я был почти уверен, что она наскучит мне, как только станет женой. Мысль о браке становилась все притягательнее, открывая передо мной перспективу, совершенно не похожую на ту, которая живет обычно в воображении мужчины, собирающегося жениться: тот тешит себя мыслью о вечной любви, меня, наоборот, тешила мысль о том, что так я наконец смогу покончить со своей любовью. Я с удовольствием представлял себе, как, выйдя замуж, Чечилия станет самой обыкновенной женой, озабоченной домашними и светскими обязанностями, и, найдя в них полное удовлетворение, лишится наконец своей тайны, так сказать угомонится. Может быть, и теперешняя ее неуловимость была всего-навсего выражением матримониальных амбиций: вполне вероятно, что она инстинктивно искала среди своих любовников мужа, который заставил бы ее остановиться и успокоиться. Я женюсь на ней, сыграю свадьбу со всею принятой в нашем кругу церковной и светской пышностью и наделаю ей множество детей, что тоже будет способствовать прояснению ее образа, так как ограничит ее рамками материнства, в котором нет ничего загадочного.
Вы скажете, что решение прибегнуть к браку там, где не удалось выстроить отношения, основанные на любви и на деньгах, было абсурдным, потому что неадекватным, – все равно что поджечь собственный дом, для того чтобы прикурить сигарету! Но, как вы уже, наверное, поняли, со всяким обществом, а особенно с тем, в котором жила моя мать, я порвал, и при полном отсутствии корней и ответственности, посреди абсолютной пустоты моей скуки, и брак был для меня чем-то несерьезным и незначительным и именно потому для моей цели вполне годился.
Разумеется, женившись, я перееду на Аппиеву дорогу и стану жить там с женой и матерью. Брак, вилла, моя мать, круг знакомых моей матери – все это были детали той дьявольской ловушки, в которую Чечилия должна была войти как загадочный и очаровательный дух, а выйти из нее – заурядной светской дамой.
Впрочем, мысль о браке родилась у меня совершенно стихийно, это казалось мне самым верным средством прекратить отношения Чечилии и Лучани. Я считал, что, согласившись выйти за меня, Чечилия легко бросит Лучани. Хотя, по правде сказать, мне казалось, что, если Чечилия станет моей женой, мне будет не так уж важно, останется ли при ней Лучани или кто-нибудь другой.
Тут я должен еще сказать, что, помимо перспективы избавиться наконец от любви к Чечилии, брачный вариант позволял мне надеяться, что я снова вернусь к живописи, как только Чечилия, поселившись в доме моей матери, перестанет загораживать мне горизонт. Я представлял себе, как Чечилия отдастся светской жизни и заботам о детях, а я тем временем, уединившись в своей студии в глубине сада, займусь наконец своей дорогой, своей чистой, своей интеллектуальнейшей живописью. Это вам не Балестриери с его грязными горячечными холстами! Я чувствовал, что смогу теперь создать самые абстрактные из картин, которые когда-либо знала абстрактная живопись. Ну а под конец я просто брошу Чечилию со всем ее выводком на мать, а сам вернусь на виа Маргутта.
Вы скажете, что все это плохо согласуется с тем, что происходило до сих пор, и что проблема стояла совершенно иначе. На самом деле любовь к Чечилии и занятия живописью никак не зависели друг от друга, а были равноправны и автономны. Вовсе не любовь к Чечилии мешала мне рисовать: просто я не умел рисовать, как не умел овладеть Чечилией; и, таким образом, то, что я избавлюсь от любви, вовсе не означало, что я тут же смогу вернуться к живописи. К тому же я всегда ненавидел дом матери, деньги матери, круг знакомств моей матери и на виа Маргутта переселился в свое время именно потому, что чувствовал, что на Аппиевой дороге я не могу рисовать. А теперь я собирался вернуться именно в этот дом, в этот мир, который был мне так отвратителен. Всему этому я не могу дать никакого другого объяснения, кроме того, что противоречивость и непоследовательность составляют, по-видимому, вечно меняющуюся и непредсказуемую основу человеческой души. К тому же я испытывал такое глубокое отчаяние, что даже этот вид самоубийства, каким являлось для меня возвращение к матери, был для меня предпочтительнее сложившейся ситуации, поскольку открывал передо мною возможность избавиться от Чечилии.
Стояло лето, и однажды во время обычного утреннего разговора по телефону я предложил Чечилии вместо встречи в студии поехать прогуляться за город. Я знал, что Чечилия любит такие прогулки, но все-таки был удивлен жаром, с каким она приняла мое предложение.
– Тем более, – добавила она неожиданно, – что сегодня мы можем быть вместе целый день, до ночи. Я свободна.
– Что случилось? – спросил я саркастически. – Неужто твой суровый отец разрешил тебе встречаться со мной?
Она ответила, и в голосе ее прозвучало удивление, так как, по-видимому, она успела позабыть о той лживой уловке, с помощью которой хотела в свое время скрыть от меня свои свидания с Лучани:
– Да нет, просто Лучани сегодня не может, и я подумала, что тебе будет приятно, если мы проведем вместе целый день.
– Поблагодари от меня Лучани за его щедрость.
– Вот видишь, какой ты. Значит, это неправда, что тебе нужна одна только правда.
– Ладно, ладно, я заеду за тобой около одиннадцати, мы вместе позавтракаем.
– Нет, нет, в одиннадцать – нет. Завтракаю я с Лучани.
– То-то мне показалось странным, что ты готова не видеть его целый день.
– Я сама приеду в студию к трем.
– Хорошо, к трем так к трем.
Чечилия появилась в назначенный час с обычной своей пунктуальностью. На ней был новый зеленый костюм, и я сказал ей, что она прекрасно выглядит. Она ответила со старательной поспешностью, которая почему-то смутно меня встревожила:
– Я купила его на твои деньги. И еще вот это. – Она показала на туфли. – И это, – добавила она, подняв ногу, чтобы показать чулки. – В общем, – заключила она, – и сверху, и снизу я вся одета на твои деньги.
Я спросил, выводя машину со двора:
– А зачем ты мне все это говоришь?
– Ты сам мне как-то сказал, что тебе приятно, когда я об этом говорю.
– Это правда. Но мне было бы гораздо приятнее, если бы ты была моя не только сверху и снизу, но и внутри.
– Внутри чего?
– Внутри себя!
Я увидел, что она засмеялась своим детским смехом, приподнимавшим верхнюю губу над остренькими резцами.
– Внутри я ничья. Внутри у меня легкие, сердце, печень, кишки. На что они тебе?
Она была сегодня весела, и я спросил почему. Она беспечно ответила:
– Мне весело, потому что я с тобой.
– Спасибо, ты очень любезна.
Я миновал Пьяцца-дель-Пополо, переехал Тибр, проехал до конца улицу Кола ди Риенцо и, обогнув все выступы ватиканской стены, выехал на виа Аурелиа и двинулся по ней в направлении Фреджене. Чечилия неподвижно сидела рядом со мной – прямая, высокая шея, облако густых курчавых волос вокруг круглого личика, руки на коленях. Время от времени, продолжая вести машину, я искоса поглядывал на нее и снова и снова отмечал черты, которые загадочным образом делали ее столь желанной и в то же время столь ускользающей: детскость лица, которой противоречили резкие, сухие складки по углам маленького рта; угловатая хрупкость плеч, которой не соответствовали мощные, тяжелые очертания груди; гибкость и тонкость талии, которая никак не соотносилась с округлостью бедер и плотностью зада. А на коленях – руки, большие и некрасивые, однако привлекательные и даже красивые, если только согласиться, что некрасивая вещь может быть красивой. Никогда еще она так мне не нравилась, причем это чувство, возбуждающее и неуловимое, было чем-то похоже на нее самое. Едва мы выехали из Рима, как я понял, что не дотерплю до шести, то есть до часа, когда мы должны были вернуться в студию. В моем распоряжении было десять часов, а значит, я мог переспать с ней два раза: прямо сейчас и вечером, после ужина. Сейчас – на любой лужайке, после ужина – в студии.
Дорога бежала то вверх, то вниз посреди безлесных холмов, поросших пышной, густой голубовато-зеленой травой, которая поднялась из пропитанной влагой почвы после двух месяцев обильных дождей. Небо еще не очистилось: черные тучи, клонившиеся к земле под тяжестью непролившегося дождя, неподвижно стояли над этой еще совсем весенней зеленью. Идя на большой скорости, я не переставал взглядом искать по сторонам подходящее место, но ничего не находил: то слишком близко от дороги, то слишком открыто, то склон слишком крутой, то в опасной близости стоит сыроварня. Так я проехал еще несколько километров, по-прежнему ничего не говоря и чувствуя, как растет среди этой тишины сила и ярость моего желания. Наконец на ближайшем перекрестке я свернул, и Чечилия спросила:
– А мы не на море разве едем?
Я ответил:
– Сначала заедем в укромное местечко, чтобы заняться любовью, а потом поедем на море.
Она ничего не сказала, и я на максимальной скорости помчался по деревенскому проселку, белому и каменистому. После нескольких километров тряски по хрустящему щебню пейзаж, как я и предполагал, начал меняться. Исчезли поросшие травой безлесые холмы, появились небольшие возвышенности, покрытые лесом, а за ними виднелись луга, на которых паслись лошади и целые табуны. Это было именно то, чего я искал. Около какой-то изгороди я внезапно остановился и сказал Чечилии:
– Выйдем.
Она повиновалась, вышла и посторонилась, пропуская меня вперед. Но я сказал, сам не знаю почему:
– Нет, я хочу, чтобы ты шла впереди.
Она ничего не ответила и, толкнув калитку, пошла по тропинке, вернее по следу, протоптанному в густой высокой траве. И только тогда я понял, почему попросил ее идти впереди: мне хотелось видеть мощное и ленивое движение ее бедер. Я понимал, что их покачивание обращено ко мне не больше, чем сексуальный призыв самки, который направлен к мужчине вообще. Если бы впереди пошел я, у меня могла быть по крайней мере иллюзия, что это я ее веду. Атак, пропустив ее вперед, я лишний раз убедился, что покачивание бедер относилось не столько ко мне, сколько к наслаждению, которое ожидало ее где-то в лесу, наслаждению, которое, правда, доставлю ей я, но при этом буду не более чем его инструментом.
Мы молча шли среди спутанной скользкой травы. Тучи над нашими головами, низкие и набухшие, как беременный живот, словно расслоились на куски тумана. Теплый влажный воздух был полон непрекращающегося жужжания. Я смотрел на бедра Чечилии, которые, как машина, постепенно входящая в свой нормальный ритм, по мере приближения к лесу двигались все сильнее и ритмичнее, и думал, что между этими движениями и теми, что она будет делать, лежа на спине, не было, в сущности, никакой разницы: Чечилия всегда была готова к сексуальному сношению, точно так, как всегда готова к работе машина, хорошо заправленная горючим. Должно быть, она почувствовала мой взгляд, потому что неожиданно обернулась и спросила:
– Что с тобой? Почему ты молчишь?
– Я слишком сильно тебя хочу, чтобы говорить.
– Ты всегда меня хочешь?
– А тебе это неприятно?
– Нет, я просто спрашиваю.
Мы прошли еще немного, потом среди густой луговой травы начал попадаться редкий высокий подлесок, первые деревья поднялись на неровной почве – сначала отдельные, далеко разбросанные, потом их стало больше. Еще несколько шагов, и вот между двух холмов маленькая ложбинка, поросшая деревьями и кустами, скрывающими неровности почвы. Я поискал взглядом, где можно лечь, и мне показалось, что я нашел – ровная поросшая мхом поляна, окруженная высоким папоротником и густыми зарослями дрока. Я уже собрался показать ее Чечилии, как вдруг она обернулась и рассеянно сказала:
– Да, я забыла тебе сказать – сегодня мы не можем заниматься любовью.
У меня было такое чувство, будто я угодил ногой в капкан.
– Почему? – спросил я.
– Я нездорова.
– Неправда!
Ничего не ответив, она своим сильным, медленным шагом прошла вперед, миновала заросли папоротника и дрока, поднялась на маленький округлый пригорок, повернулась ко мне, наклонилась и, взявшись обеими руками за подол, приподняла его до пояса. Показались стройные, схваченные шелком бедра, а внизу живота, там, где обычно за прозрачной тканью слипов просвечивало темное пятно лобка, виднелась матовая белизна ватного тампона.
– Теперь веришь?
Я ответил в ярости:
– Да, ты права, ты всегда и во всем права!
Она молча опустила юбку, потом спросила:
– Почему ты так говоришь? Ведь в другие дни я тебе никогда не отказываю!
Я чувствовал, что схожу с ума: оскорбленное желание как бы наложилось на ставшее уже почти манией убеждение в ее недоступности, и сегодняшняя неприятность предстала передо мной как одно из проявлений все той же бесконечно повторяющейся ситуации. Я сказал:
– Я так тебя хотел, а оттого, что ты пошла со мной и словно бы согласилась, желание стало еще сильнее. Почему ты не сказала мне сразу, что нездорова?
Равнодушно глядя на меня, она ответила тоном торговца, который взамен распроданного товара предлагает покупателю совсем другой, гораздо более дешевый:
– Но зато мы можем быть вместе целый день.
– Да, но я хотел с тобой спать!
– Спать будем в другой раз, может быть, завтра.
– Но я хотел сегодня, сейчас!
– Ты просто как ребенок.
Наступила пауза. Чечилия шла среди зарослей дрока, опустив глаза, как будто что-то искала. Потом наклонилась, сорвала травинку и зажала ее в зубах. Я в ярости воскликнул:
– Так вот почему ты предложила мне провести вместе целый день. Ты знала, что сегодня ты не можешь спать с Лучани.
– И Лучани хотел со мной спать, но я сказала ему то же, что и тебе.
– Да, но Лучани спал с тобой вчера, а я три дня назад.
– Лучани не спал со мной вчера: он, как и ты, спал со мной три дня назад.
Она продолжала идти впереди меня, сквозь заросли дрока, такая беззаботная, с травинкой в зубах. Я злобно спросил:
– А куда, собственно, ты идешь, что ты собираешься делать?
– Все, что тебе угодно.
– Ты знаешь, что мне угодно.
– Я тебе уже сказала, что это невозможно.
– А если это невозможно, то я не знаю, чем можно заняться еще.
– Хочешь, вернемся в город и сходим в кино?
– Нет.
– Хочешь, поедем к морю?
– Нет.
– Хочешь, поедем в Кастелли?
– Нет.
– Может быть, ты хочешь остаться здесь?
– Нет.
– Хочешь, уедем?
– Нет.
– Но что же ты тогда хочешь?
– Я уже сказал, что хочу спать с тобой.
– А я тоже тебе сказала, что сегодня это невозможно.
– Тогда пошли отсюда.
– И куда мы поедем?
– Не знаю, пошли.
Мы вернулись к машине, и на этот раз я шел впереди нее, хотя в отличие от Чечилии, которая как будто всегда знала, если не умом, то телом, куда она идет, я совершенно не понимал, куда иду.
Едва мы сели в машину, я сразу же рванул с места на большой скорости, не подождав даже, чтоб Чечилия как следует захлопнула дверцу. Я чувствовал, как растет во мне ярость, которую невозможно было утолить, как нельзя утолить огонь, который находит для себя все новую пищу. Именно ярость порождала преследующие меня навязчивые видения, словно, не сумев взять Чечилию, я был теперь обречен с тупым упорством искать и находить ее образ во всем, что имело с нею хотя бы отдаленное сходство. Так, скажем, вид некоторых полян, которые не сплошь заросли травой, напоминал мне о ее животе, округлые пригорки – о ее груди, в очертаниях некоторых лужаек мне виделся ее профиль. Если дорога начинала петлять между двумя округлыми холмами, мне виделись раздвинутые ноги Чечилии, лежащей на спине, и казалось, что между холмами проходит щель ее лона и машина бежит как раз к этой щели. Но после того как гигантская Чечилия, ставшая землей, поглотила и меня, и машину, и все окружающее, перспектива вдруг изменилась, вместо двух холмов появилось четыре, и не стало ни ног, ни лона – так, обычный пейзаж, и ничего больше. Вдобавок, как я уже говорил, я и сам не знал, куда ехал; мне казалось, что я пытаюсь догнать что-то такое, что, сколько ни старайся, не догонишь. Это что-то всегда оставалось впереди – то в той вот группе деревьев, то на том холме, то на той насыпи, то на том мосту, но, добравшись до деревьев, до холма, до насыпи, до моста, я видел, что там ничего нет, и должен был из последних сил устремляться в погоню за новой обманчивой целью. И все это время, несмотря на бредовое состояние, вызванное бессильной яростью, меня ни на минуту не покидало ясное и четкое ощущение, что Чечилия тут, рядом со мной, близкая и в то же время недоступная.
Не знаю, сколько времени я так ехал – без цели, наугад выбирая дорогу на развилках, то и дело возвращаясь назад, километры и километры, то вдоль моря, то среди леса – может быть, час. Внезапно на какой-то дороге посреди просторного поля, окаймленного рядами тополей, я резко остановился и повернулся к Чечилии:
– Я хочу сделать тебе одно предложение.
– Какое?
Пока я ехал, я об этом не думал. Но последние дни и сегодня утром, перед свиданием с Чечилией, я думал об этом все время, и потому мне казалось, что то, что я скажу, должно прозвучать совершенно естественно:
– Я хочу, чтобы ты стала моей женой.
Я увидел, что она посмотрела на меня без удивления, со спокойным недоверием.
– Ты хочешь, чтобы мы поженились?
– Я уже давно об этом думаю, и сейчас, по-моему, самое время.
Она смотрела на меня, а я испытывал в это время головокружительное и сладостное ощущение человека, который после долгих колебаний бросился наконец в бездну. Я схватил ее за руку и торопливо произнес:
– Ты станешь моей женой, и мы переедем к моей матери. Ты, наверное, не знаешь, но я ведь богат.
– Богат?
– Да, вернее, мать богата, но раз мы будем жить у нее на Аппиевой дороге, ее богатство станет и моим, то есть нашим.
Она ничего не отвечала, и я заговорил снова.
– Мы поженимся со всей возможной пышностью. Бракосочетание в церкви, подарки, конфеты, цветы, приемы и так далее. Сразу же после уедем в свадебное путешествие на север, например в Скандинавию, или на юг, в Египет. По возвращении твоя жизнь совершенно переменится. Ты станешь дамой высшего римского общества – вроде тех, что ты видишь иногда на виа Венето или на площади Испании.
Она продолжала молчать, и я со все возрастающей яростью, сжимая ей руку, возобновил свою речь:
– У нас будут дети, я хочу много детей. По тебе видно, что ты можешь нарожать сколько угодно. Я сделаю тебе двух, трех, четырех, восьмерых – в общем, сколько захочешь.
Ее молчание начало меня беспокоить, и я резко спросил:
– Ну что ты об этом думаешь?
Она наконец-то решилась и медленно произнесла:
– Я не могу ответить тебе вот так, с налету. Мне нужно подумать.
– Подумай. Можешь ответить мне завтра, послезавтра. Когда захочешь. А тем временем, – добавил я внезапно, – мы прямо сейчас поедем к матери, и я представлю тебя как свою невесту.
Мне вдруг пришло в голову, что Чечилия может не поверить, что я богат, и я хотел, чтобы она убедилась в этом собственными глазами. С другой стороны, представить ее как свою невесту значило скомпрометировать ее и в каком-то смысле принудить ее согласиться.
Она спросила:
– Зачем нам ехать прямо сейчас? Мы можем познакомиться в другой раз.
– Нет, лучше сегодня. Ты увидишь ее и сможешь понять, о чем идет речь.
– Но ты не можешь представлять меня как свою невесту, я еще не решила.
– Какая разница? Если мы не поженимся, я скажу матери, что ты передумала.
– Ответ я дам тебе сегодня, – сказала она неожиданно и каким-то странным тоном, словно уже приняла решение, но собирается сообщить мне его через несколько часов. – Сегодня вечером.
– А почему вечером? Почему не сейчас?
– Нет, вечером.
Я ничего на это не сказал, сбросил тормоз, включил зажигание, и мы поехали. Я так ее хотел, что мне казалось, будто предложенный мною брак – это еще слишком малая цена даже не за вечную любовь, а за одно мимолетное соитие. Для того, чтобы взять ее хотя бы раз, я готов был не только жениться, но вступить в союз с дьяволом и обречь на проклятие собственную душу. Вы скажете, что это фраза, и к тому же романтического толка. Но в тот момент проклятие было для меня не фразой, а чем-то совершенно реальным, подстерегающим меня не в том, ином мире, в который я не верил, а в мире этом, где я был вынужден жить. И, как ни странно, это ощущение нависшего надо мной проклятия не лишало меня смутной надежды на избавление, которое я надеялся обрести в тот день, когда Чечилия станет моей.








