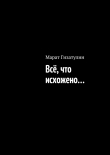Текст книги "Марат"
Автор книги: Альберт Манфред
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Марат не присоединился к этому требованию. Он продолжал уклоняться от ответа на вопрос, волновавший народ, и, больше того, в некоторых статьях даже прямо высказался против республики.
Марат утверждал, что республика может стать аристократической. Следует отметить, что эту же ошибку в свое время совершил и другой выдающийся деятель Великой французской революции, Максимилиан Робеспьер. Как и Марат, Максимилиан Робеспьер также до поры до времени высказывался против республики, опасаясь, что республика станет орудием в руках буржуазной аристократии. Но– это была ошибка – ошибка Робеспьера и Марата, которые не сумели свои верные политические обоснования завершить правильными политическими выводами.
Эта ошибочная тактика привела к некоторому ослаблению позиции Марата в революционно-демократическом движении. Многие честные демократы, всегда верившие Марату, не могли понять позиции Друга народа.
Между тем борьба против монархии не ограничивалась только словесной или чернильной войной.
Она была перенесена на улицы. Революционно-демократические организации – клуб Кордельеров, Социальный клуб, множество парижских секций – организовали широкие народные демонстрации в защиту республики.
17 июля 1791 года на Марсовом поле должна была состояться большая мирная демонстрация демократических организаций, явившихся с петицией о низложении монархии во Франции и установлении республики. Но с санкции Национального собрания и по приказу Лафайета, командующего национальной гвардией, эта безоружная демонстрация была расстреляна правительственными войсками.
Кровавые события 17 июля – расстрел демонстрации на Марсовом поле – явились переломной вехой в развитии французской революции. Эти события показали, что некогда единое третье Сословие окончательно раскололось, что одна часть третьего сословия с оружием в руках выступила против другой его части. События 17 июля показали контрреволюционность крупной буржуазии, не остановившейся перед тем, чтобы стрелять в своих вчерашних союзников: Лафайет и Байи отдали приказ – стрелять в героев Бастилии, участников великого народного восстания 14 июля.
Марат, как и другие революционные демократы, выступил с гневным осуждением преступления 17 июля. Буржуазия еще раз своей антинародной политикой подтвердила правоту Марата. Сколько раз Друг народа обличал Лафайета, сколько раз он предостерегал, что «игрушечный герой» станет главнокомандующим контрреволюции и обагрит свои руки кровью народа. Жизнь подтвердила справедливость этих утверждений.
И все-таки Марат даже после событий 17 июля во взволнованной гневной статье «Страшная резня мирных граждан, женщин и детей…» и в других статьях «Друга народа» все еще не ставит вопроса об уничтожении монархии вообще.
Вареннский кризис закончился поражением сил демократии. Крупная буржуазия сумела сохранить Людовика XVI на престоле, подавила революционно-республиканское движение в стране и перешла к жестоким репрессиям. Истинные вожди революции подверглись гонениям. Дантон должен был бежать в Англию. Множество революционных демократических газет было закрыто. Деятельность революционных клубов была взята под контроль. Полицейские, шпионы, соглядатаи преследовали революционных демократов, и многим из них пришлось уйти в подполье.
Конечно, одним из первых должен был скрыться с поверхности, уйти в подполье Марат. Его газета давно уже была вычеркнута из списка терпимых; теперь на нее обрушились с яростью. Владельцы типографий боятся ее печатать, книжные лавки и газетчики не рискуют ее продавать. Сам Марат скрывается, но уже чувствует на своих плечах дыхание настигающей погони.
«Друг народа» в это время выходит лишь случайно, с большими перерывами. Так, с 1 по 15 августа удалось выпустить всего лишь пять номеров. В сущности, Марат лишен возможности издавать свою газету. Некоторое время он еще пробует продолжать борьбу: преодолевая неисчислимые препятствия и подстерегающие на каждом шагу опасности, он выпускает номера «Друга народа», и газета сохраняет все то же воинствующее, боевое содержание.
Но порою его охватывает отчаяние. 11 сентября 1791 года он пишет на страницах «Друга народа»: «Народ умер после резни на Марсовом поле. Напрасно я пытался его пробудить». Эти горестные настроения усиливаются еще оттого, что реакционной крупной буржуазии на первый взгляд удается осуществить все свои планы. 13 сентября Людовик XVI, которому полностью были возвращены все прерогативы монарха, подписал выработанную Учредительным собранием конституцию. Это была антидемократическая конституция, призванная увековечить политическое господство крупной буржуазии и бесправие народа. Отныне конституция вошла в силу, и 1 октября собралось созванное на основе антидемократической избирательной системы Законодательное собрание.
Народ даже не пытался воспрепятствовать вступлению в силу конституции 1791 года.
Марат, потеряв надежду на пробуждение народной энергии, истощив все силы в неравной борьбе с могущественным противником, на какое-то короткое время поддался чувству горести и отчаяния.
У него не хватало сил продолжать борьбу, и в середине сентября он покидает Париж.
Что означало это поспешное бегство? Признание своего поражения? Отказ от борьбы? Короткую передышку?
Марат и сам этого хорошо не знал. Одну из своих статей он озаглавил: «Друг народа берет отпуск у отечества»; другую он назвал: «Последнее прощание Друга парода с отечеством»; по-видимому, в нем боролись различные чувства, и он не мог окончательно определить, как он должен поступить.
Его поспешный отъезд из Парижа был вполне объясним. Продолжать далее ту жизнь, которую он вел в подполье, не было больше ни сил, ни возможности. В «Последнем прощании Друга народа с отечеством» Марат писал так:
«Все время ведя войну против изменников отечества, возмущенный их гнусностями и жестокостями, я срывал с них маски, выставлял их напоказ, покрывал их позором; я презирал их клевету, их ложь, их оскорбления; я не боялся их злопамятства, их гнева… Моя голова была оценена; пять жестоких шпионов, шедших по моим следам, и две тысячи оплаченных убийц не могли ни на минуту заставить меня изменить долгу. Чтобы избежать ударов убийц, я осудил себя на жизнь в подполье. Время от времени меня поднимали батальоны альгвазилов; вынужденный бежать, странствуя по улицам посреди ночи, не зная иногда, где найти убежище, проповедуя посреди мечей дело свободы, защищая угнетенных, готовый сложить голову на плахе, я становился от этого еще более страшным для угнетателей и политических мошенников».
Марат был прав, когда он напоминал о том, что его неоднократно пытались подкупить, что его обольщали разного рода предложениями: «Мне бы покровительствовали, меня бы чтили, ласкали, если бы только я согласился хранить молчание. И сколько бы расточали мне золота, если бы я захотел опозорить свое перо. Я отвергал соблазнительный металл, я жил в бедности, я сохранял чистоту сердца».
Нельзя усомниться в искренности этих слов. Они подтверждаются всей жизнью Марата. Он отверг все обольщения и продолжал вести ту же трудную жизнь гонимого, преследуемого, травимого политического борца.
В середине сентября Марат оказался в Клермоне; затем, как это явствует из его корреспонденции, он был в Бретейле, через некоторое время в деревушке под Амьеном.
Эта частая, почти непрерывная перемена мест вызывалась не только или, вернее, не столько смятением чувств. Для этого были и более веские причины. Марат бежал из Парижа, но он не сумел оторваться от своих преследователей. И в провинции ему приходилось скрываться в подполье; он менял города, деревни, но погоня шла по его следам. Однажды ему пришлось укрыться от своих преследователей в поле. Но именно тогда, как он сам в том признался, когда, усталый, измученный, преследуемый по пятам врагами, он сидел в раздумье, «как Марий на развалинах Карфагена», он почувствовал, как в «глубине его сердца» засветился «луч надежды». Эти новые бодрые настроения родились под влиянием окружающей среды: в деревне Марат увидел боевой дух, революционную энергию крестьянства; он услышал здесь также о восстаниях в армии; когда он был на грани отчаяния, он убедился в том, что ом не так одинок, как казалось, что парод не мертв, что он даже не спит, что он лишь набирает силы для предстоящих жестоких боев.
27 сентября Марат вернулся в Париж. Борьба возобновилась.
И вот, к удивлению, к страху, к неистовой ярости господ из правящей партии конституционалистов, после совсем короткой паузы снова, неизвестно откуда, как гром среди ясного неба загремели громовые статьи Друга народа.
Нет, Жан Поль Марат не склонил головы и не сложил оружия!
Невидимый, недостижимый для шпионов и полицейских, как прежде неустрашимый, он вновь поражает своим мечом враждебных народу прислужников буржуазной аристократии в Законодательном собрании. Новое собрание, раскрывает глаза народу Марат, не лучше прежнего. Оно избрано на основе цензовой, антидемократической избирательной системы; оно представляет не народ, а его врагов – узкую клику богачей, стремящихся присвоить себе плоды народной борьбы.
Марат снова зовет народ в бой. Революция не закончена; она только еще начинается. До тех пор, пока справедливые требования народа не будут удовлетворены, до тех пор, пока власть будет сохраняться в руках кучки злых и богатых людей, революция должна продолжаться.
К голосу Марата, «голосу из подземелья», как писали журналисты тех дней, теперь прислушивались с возрастающим вниманием. Этот преследуемый властями, травимый собратьями по перу журналист, обрекший себя добровольно на' подвижническую жизнь мученика, завоевывал все большее доверие масс.
«Друг народа» выходил все реже и реже, но зато сколько новых читателей он завоевал, какую моральную силу он приобрел в глазах народа!
И все же в декабре 1791 года, когда кольцо преследователей сжималось вокруг Марата все сильнее, когда возникла прямая и трудноотразимая угроза ареста, Марат счел разумным на время покинуть поле борьбы. С 15 декабря 1791 года по 12 апреля 1792 года не вышло ни одного номера «Друга народа». Марат уехал в Англию, чтобы перевести дыхание; скрываться далее во Франции становилось уже невозможным.
Весной, в мае 1792 года, Жан Поль Марат вновь вернулся в Париж.
Самая революционная, самая демократическая организация столицы – клуб Кордельеров – приняла специальное постановление: просить Марата возобновить издание своей газеты. «Сегодня больше чем когда-либо чувствуется необходимость энергичного выступления, чтобы разоблачить бесконечные заговоры врагов свободы и будить народ, заснувший на краю пропасти… Мы надеемся, что «Друг народа» не покинет родину в то время, когда она больше всего нуждается в просвещении», – говорилось в постановлении кордельеров. И, отвечая на это требование демократических организаций, Марат возобновляет издание «Друга народа».
Авторитет и популярность Марата к этому времени чрезвычайно возросли. Он уже становится самым авторитетным, самым популярным журналистом. Простые люди называют его так, как обозначена газета: «Друг народа». И действительно, он является другом французского народа и в широком смысле, сражаясь за его демократические права, за всемерное развитие революции; и он является другом народа в узком смысле слова – защитником бедноты, защитником неимущих, защитником людей труда.
Уже давно прошло то время, когда Марату приходилось добиваться, чтобы его голос был услышан. Он уже не был тем безвестным журналистом, над которым посмеивались знаменитые литераторы эпохи. Его имя гремело теперь по всей стране. Его боялись, его считали самым опасным противником.
Время подтвердило правоту большинства обвинений Марата. Враги Марата создали легенду о том, что Марат был человеконенавистником, что он любил говорить только дурное о людях, что ему было чуждо чувство добра, что он не имел друзей. Нет клеветы подлее, чем эта. Достаточно перелистать страницы «Друга народа», чтобы убедиться, как наряду со словами хулы, обвинений, направленных против врагов народа, Марат с глубоким сочувствием и одобрением отзывается о ряде выдающихся деятелей революции. Марат различал людей, сражавшихся за революцию, исходя из того, как они служат интересам народа.
Марат был одним из первых, кто сумел оценить высокие достоинства и важную политическую роль Робеспьера. Он всегда отзывался о нем с чувством глубокого уважения, с сочувствием, симпатией. Уже в ноябре 1791 года Марат писал: «Робеспьер – вот человек, который более всего нужен нам», и тогда же: «Его имя всегда будет дорого для честных граждан»; он считал его единственным настоящим патриотом в Учредительном собрании. Они не стали лично близки: сдержанный, строгий Робеспьер редко с кем шел на тесную дружбу; им случалось расходиться в мнениях, но при всем том Марат поддерживал борьбу, которую вел Робеспьер в Национальном собрании, поддерживал его политическую линию.
До определенного времени Марат отзывался с уважением и симпатией о Жорже Дантоне; выдающийся трибун кордельеров внушал ему тогда полное доверие. Он вел также дружбу, вполне совмещавшуюся с критическим, иногда насмешливым, иногда сердитым словом, с талантливым и легкомысленным, «генеральным прокурором фонаря» – Камиллом Демуленом. До конца 1792 года он оказывал постоянную поддержку Петиону и ряду других передовых деятелей революции.
Марату случалось и ошибаться. Как всякому человеку, ему были свойственны и промахи и просчеты. Так, проницательность обманула его в оценке Луи Мари Станислава Фрерона. Луи Фрерон, издававший в первые годы революции журнал «Оратор народа», пользовался особым расположением Марата. Друг народа называл его своим учеником и публично, со страниц своей газеты, призывал относиться с доверием к Фрерону. Марат ошибся. Позже, когда Марата уже не было в живых, Фрерон стал перерожденцем, одним из главных деятелей термидорианского контрреволюционного заговора, главарем банд «золотой молодежи», громившей последние демократические учреждения якобинской диктатуры. Он стал злобным, воинствующим врагом народа.
Марат не сумел разглядеть будущего лица своего ученика. Но, как правило, его политическая прозорливость была почти безошибочной.
Утверждение о том, что Марат любил лишь чернить людей, а не хвалить, опровергается всеми известными фактами его биографии. Марат добровольно взял на себя самую трудную задачу – сражаться с сильными мира сего.
Что приносила ему эта борьба? Она создавала ему лишь неисчислимые затруднения, влекла за собой травлю, преследования, репрессии; она обрекала его на страшную, непосильную борьбу из подполья.
Но время шло, и оно убеждало, доказывало, кто прав и кто виноват. Когда Марат начинал свою борьбу, его политические противники были на вершине могущества. Неккер, Мирабо, Лафайет – это были самые громкие во Франции да и во всей Европе имена. Казалось, их популярность и сила их влияния не имеют предела. Но прошло три года, и доктор Марат, чудаковатый журналист, над которым посмеивались на всех званых обедах политические главари новой Франции, оказался единственно. правым в этом споре. Жизнь подтвердила все его обвинения.
Он обвинял Неккера, и жизнь подтвердила, что Неккер был действительно замешан в тех злоупотреблениях, на которые указывал «Друг народа», жизнь подтвердила, что он стал противником революции и переметнулся в стан ее врагов.
Марат обвинял Мирабо в ту пору, когда тот был на вершине славы. Не было в то время имени во Франции, которое могло бы соперничать с ним в популярности в стране. Марат обвинял знаменитого трибуна в продажности и измене. Уже после смерти Мирабо поползли всякого рода слухи, подтверждавшие обвинения Марата. Когда же после свержения монархии в 1792 году народ овладел Тюильрийским дворцом, то в железном потайном шкафу короля были найдены секретные письма Мирабо к королю; тогда ужасавшие современников страшные догадки получили неопровержимые подтверждения.
Марат обвинял Лафайета, могущественного командира национальной гвардии, популярного в народе «героя обоих полушарий». Он предсказывал, что Лафайет перейдет в стан контрреволюции и выступит против народа. Многие возмущались Маратом, другие смеялись над ним. Даже его друзья и те считали, что Марат преувеличивает, что он заходит в своих обвинениях слишком далеко. Камилл Демулен летом 1790 года сетовал: «Марат, этот излишне правдивый, к нашему несчастью, писатель, выступает все время в роли Кассандры…» Он дружески предостерегал: «Господин Марат, мой дорогой Марат, вы наносите себе вред, и вам придется вторично скрыться за море». Марат отвечал спокойно-иронически: «Несмотря на весь ваш ум, дорогой Камилл, вы в политике все еще новичок. Быть может, милая веселость, составляющая основную сущность вашего характера и брызжущая из-под вашего пера даже в самых серьезных случаях, не допускает серьезного размышления и основательности обсуждения…»
События 17 июля подтвердили всю обоснованность предположений Марата. Роль Лафайета в последующих драматических перипетиях революции даст новые подтверждения правильности политической характеристики, данной генералу Другом народа.
Так сбывались на глазах пораженных соотечественников все предсказания доктора Марата. Люди начинали верить в поразительную силу прозрения этого загадочного человека, который постигает истину, недоступную другим.
Уже минуло почти три года, как большинство парижан не видело, нигде не встречало самого знаменитого публициста революционной Франции. Где он, этот таинственный Жан Поль Марат? Как может длиться это непостижимое чудо: правительство, власти, полиция ищут человека, обвиненного во всех смертных грехах, а он ускользает от своих преследователей, он остается вне досягаемости ударов, и откуда-то из расщелин, из пор земли мечет молнии в своих могущественных преследователей.
Чуда не было. Марат не скрывался в катакомбах Парижа, не прятался в подземелье. Он был защищен от своих врагов могущественной поддержкой народа. Всякий раз, когда власти готовили против него удар, он уходил к народу, сливался с ним, и безбрежное народное море прикрывало и защищало его.
Для любого из читателей «Друга народа» оказать гостеприимство знаменитому редактору газеты, приютить у себя, укрыть от полицейских ищеек было великой честью. Простые люди знали и любили Марата – он был для них подлинным другом, и они охотно, хотя бы малой помощью, соучаствовали в борьбе, которую он возглавлял.
Теперь все во Франции – и друзья и враги – старались прочесть запретные номера «Друга народа». К чему призывает Марат? Что он предвещает отечеству? Это хотели узнать в плебейских кварталах Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий, и в особняках богачей в квартале Сент-Оноре, и в кулуарах Законодательного собрания.
Шевремон насчитал свыше трехсот разных изданий фальшивого «Друга народа», подделок под Марата. Это не прямое, а косвенное свидетельство популярности его газеты. Но оно ценнее многих иных: идти на расходы по изданию, на риск наказуемой литературной подделки можно было лишь в расчете на большой денежный выигрыш; тем самым косвенно подтверждался громадный спрос на запрещенную крамольную газету доктора Жана Поля Марата.
* * *
Марат вернулся во Францию, когда за короткое время многое уже изменилось. Он нашел Париж возбужденным, встревоженным. Столицу трясла лихорадка. В клубах, на собраниях секций, на улицах – везде были слышны разговоры о близкой войне. Война между революционной Францией и феодальной Европой действительно, казалось, была неотвратима.
С начала французской революции правительства европейских монархий отнеслись к ней с нескрываемой враждебностью. Они увидели в ней не только дерзкое покушение на священные права «помазанника божьего», но и крайне опасный пример, способный воодушевить на подобные же или сходные действия их собственных подданных.
И верно, почти повсеместно в Европе общественно-прогрессивные силы, передовые люди своего времени восторженно приветствовали французскую революцию и рукоплескали ее победам. Фридрих Шиллер, Виланд, Клопшток, Эммануил Кант, Фихте – цвет Германии – славили революцию в стихах и прозе. Лидер партии вигов Фокс назвал падение Бастилии «величайшим событием в мире». Кольридж, Вордсворт, Шеридан – все литературные знаменитости Англии с горячим сочувствием следили за великими событиями, совершавшимися по ту сторону Ла-Манша. В самодержавно-крепостнической России Екатерины II в обеих столицах, в дворянских усадьбах и в среде разночинной интеллигенции с огромным вниманием, а многие и с сочувствием прислушивались к необычайным известиям, приходившим из Парижа. Александр Радищев, опубликовавший в 1790 году свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», «царям грозился плахою», как сказала хорошо понявшая смысл книги императрица. Радищев был сослан в Илимский острог, но Н. И. Новиков, Федор Кречетов, И. Г. Рахманинов и другие продолжали вести «вольные речи» до тех пор, пока и их голос не был пресечен жесткой рукою царской власти.
Европейские монархии – оплот феодально-абсолютистского строя – в выражениях симпатии к французской революции видели прямое доказательство приближавшейся к ним вплотную опасности.
«Мы не должны, – говорила Екатерина II, – предать добродетельного короля в жертву варварам; ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии».
В Вене, Берлине, Петербурге, Лондоне, Турине, Стокгольме с 1790 года обсуждался вопрос о том, как подавить французскую революцию, как организовать интервенцию против Франции в целях восстановления государя в его законных правах.
В августе 1791 года в замке Пильниц, в Саксонии, император Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II подписали декларацию о совместных действиях против революционной Франции. В феврале 1792 года Австрия и Пруссия заключили договор о военном союзе против мятежной Франции. Это значило, что правительства феодальной Европы (при деятельной поддержке буржуазно-аристократической Англии) поставили интервенцию в порядок дня. Однако острые противоречия между державами затрудняли переход от слов к делу.
Подготовка интервенции против Франции происходила при непосредственном участии французских эмигрантов, братьев короля, и при косвенном участии самого французского двора.
После провала попытки бегства все расчеты двора строились на вмешательстве иностранных держав. Подавить революцию можно было только извне, армиями европейских государств, и Мария Антуанетта и Людовик XVI теперь рассчитывают обрести освобождение с помощью иностранного оружия.
Так внутренняя контрреволюция перерастала во внешнюю контрреволюцию.
Европейские державы готовили интервенцию против революционной Франции. Это было бесспорно. Но какова должна быть позиция самой Франции? Что должно делать французское правительство? Что должен делать французский народ перед лицом надвигающейся угрозы иностранного нападения?
По этому вопросу в рядах французской демократии обнаружились различные мнения.
20 октября 1791 года Пьер Бриссо, не без труда удовлетворивший свое честолюбивое стремление стать депутатом, выступил в Законодательном собрании с речью, произведшей большое впечатление.
В заносчивом тоне Бриссо грозил иностранным державам. Он доказывал, что государства Европы, предоставляющие приют беглым эмигрантам и угрожающие Франции, только кажутся сильными и опасными; на самом деле они слабы; они страшатся своего народа; французам их нечего бояться. «Заговорим, наконец, языком свободных людей с иностранными державами! – воинственно восклицал Бриссо. – Пора показать миру, на что способны свободные люди и французы!»
Бриссо долго рукоплескали: его речь имела шумный успех в Собрании.
Это выступление Бриссо не было случайным. С этого времени главной темой его речей в Законодательном собрании, его статей в печати становится идея революционной наступательной войны.
«…Народ, завоевавший себе свободу после десяти веков рабства, нуждается в войне. Ему нужна война, чтобы утвердить свободу», – провозгласил он в речи 16 декабря. Но и этого ему кажется мало. Две недели спустя, 29 декабря, снова доказывая необходимость революционной наступательной войны, он с легким сердцем произнес такие слова: «Война является в настоящее время национальным благодеянием; единственное бедствие, которого можно опасаться, это что войны не будет».
Бриссо был не одинок. Эту воинственную позицию вместе с ним разделяла вся его партия – партия бриссотинцев, как ее называли в те дни, партия жирондистов, как ее стали именовать позднее. Пьер Викторьен Верньо, Маргерит Эли Гаде, Жансонне, Гранжнев, Дюко и ряд иных депутатов, представлявших департамент Жиронды или по политическим мотивам примкнувших к группе Бриссо, горячо поддерживали идею революционной наступательной войны.
Их речи звучали крайне революционно. Народы Европы стонут под игом тиранов; они ждут лишь сигнала для того, чтобы сбросить тягостное ярмо. На Франции лежит священный долг. Она должна сделать первый шаг – начать войну против европейских монархий и поднять знамя освободительной войны в Европе. Такова была примерно фразеология жирондистских ораторов.
Они торопились. 18 января 1792 года Пьер Верньо, лучший оратор Жиронды, который не в пример Бриссо умел в горячей импровизированной речи находить слова, увлекавшие аудиторию, потребовал немедленного объявления войны австрийскому императору.
«К оружию! К оружию! – восклицал Верньо, – Граждане, свободные люди, защищайте свою свободу и обеспечьте надежду на освобождение человеческого рода, иначе вы в своих несчастьях не будете даже достойны его сожаления».
Эти призывы, эти речи, звучавшие так патриотически и революционно, встречаемые обычно громом восторженных рукоплесканий взволнованной толпы, тем не менее вызвали энергичные возражения со стороны передовых демократов.
Главным оппонентом бриссотинцев стал Максимилиан Робеспьер. Он решительно отвергал идею наступательной революционной войны. В ряде речей у якобинцев он доказывал, что эти зажигательные призывы к войне чужды интересам революции. Свободу не приносят на острие штыка. «Никто не любит вооруженных миссионеров, и природа и благоразумие прежде всего советуют оттолкнуть их как врагов». Мысль о том, что народы Европы примут с восторгом вооруженное вторжение французов, заблуждение и авантюризм. Но идея войны опасна еще и потому, что она отвлекает внимание народа от главного – от борьбы против врагов внутри страны. Нельзя победить внешней контрреволюции, не подавив предварительно внутреннюю контрреволюцию. «Прежде чем последствия нашей революции скажутся у иноземных наций, нужно, чтобы она упрочилась, – говорил Робеспьер. – Желать дать им свободу раньше, чем мы сами завоевали ее, значит утвердить порабощение и наше и всего мира…»
Робеспьер был прав; его взгляды поддерживала группа его приверженцев, но они составляли меньшинство, и их голос заглушался громкими воплями пылких сторонников немедленной революционной войны.
Случилось так, что этот призыв к войне неожиданно встретил поддержку и сочувствие самых различных общественных сил.
Жирондисты, связанные с торгово-промышленной буржуазией и выражавшие ее интересы, надеялись путем войны добиться расширения границ Франции на севере и востоке и общего усиления ее позиций – экономических и политических – в Европе. К тому же они полагали – и это, по-видимому, было для них главным, – что война с неизбежностью приведет их к власти и закрепит их политическое господство.
Народные массы, введенные в заблуждение революционной фразеологией жирондистов, принимали ее всерьез: идея освободительной войны отвечала их патриотическим чувствам, и они ее поддержали.
Но идея войны соответствовала и. тайным расчетам и вероломным замыслам короля и двора. В окружении короля полагали, что война намного облегчит выполнение главной цели – разгрома революции. Война должна быть «малой», недолгой; при обоих возможных вариантах она должна дать выигрыш двору: если она будет победоносной, то король сможет сам подавить революцию; если она будет неудачной, 'то революцию задушат интервенты. Как бы ни развернулись события, наивно полагали в Тюильрийском дворце, они пойдут на пользу монархии.
В декабре 1791 года военным министром был назначен граф Нарбонн. Людовик де Нарбонн был тесно связан с фейянами, и его приход на этот важный пост, казалось, обеспечивал двору самую энергичную поддержку конституционалистов. Но, человек авантюристической складки и огромного честолюбия, Нарбонн мечтал о большем. Он стремился к войне, чтобы прославить свое имя, и на гребне успехов стать первым лицом в королевстве. В свою очередь, Мария Антуанетта, державшая в маленькой руке запутанные нити сложных политических интриг, решила использовать нового человека для тонкой и опасной игры, которую вел дворец.
Нарбонн был близок с госпожой де Сталь, дочерью Неккера, литературной дамой, полной самомнения, салон которой посещали знаменитые философы и политические деятели. Королева не выносила Жермен де Сталь и должна была с предубеждением отнестись к ее избраннику. И все-таки в декабре 1791 года умная и злая Мария Антуанетта писала графу Ферзену: «Граф Людовик де Нарбонн, наконец, стал со вчерашнего дня военным министром. Какая слава для г-жи де Сталь и какое удовольствие для нее иметь… в своем распоряжении целую армию!»
Но дальше шли деловые соображения: «Он может быть полезным, если захочет, потому что он достаточно умен, чтобы привлечь конституционалистов, и умеет говорить нужным тоном с нынешней армией…»
И, наконец, откровенные признания: «Как я буду счастлива, если мне когда-нибудь удастся опять стать настолько сильною, чтобы доказать всем этим плутам, что я не одурачена ими…»
В этой игре каждый старался одурачить другого. Эта игра велась не на мелочь; ее ставкой были судьбы Франции. Но это нимало не смущало игроков. Двор и Нарбонн (и стоявшие за Нарбонном фейяны) быстро сговорились: пропаганда жирондистами войны им только на руку; надо поддерживать идею войны и приблизить ее начало.
В марте 1792 года король призвал к власти жирондистов. Министром внутренних дел был назначен Ролан де ла Платьер; министром иностранных дел популярный в то время генерал Дюмурье. Остальные министерские посты были также замешены жирондистами или близкими к ним лицами. Бриссо в состав правительства не вошел – для этого он был слишком незначителен. Но, не входя в министерство, он оставался тайным руководителем нового кабинета.
Образование жирондистского министерства было тонким маневром двора. Новое правительство, во главе которого стояли люди, пользовавшиеся доверием страны, должно было прикрыть тайные планы короля и его окружения. Жирондистское правительство должно было – это оставалось его главной целью – стремиться к войне. Но это же было и ближайшей задачей королевского двора. Теперь, после того как жирондисты пришли к власти, война была неизбежна.