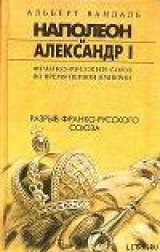
Текст книги "Разрыв франко-русского союза"
Автор книги: Альберт Вандаль
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 44 страниц)
После этого смелого поступка прошла ночь с ее зловещей темнотой. Королю казалось, что на него уже насела армия Даву; ему чудилось, что вокруг него уже носятся своры наших союзников, готовые ринуться на добычу. Через восемь дней, думал он, если он будет упорствовать, французские сигналы раздадутся в его ушах и вражьи пушки тяжело загромыхают по мостовым столицы. Гарденберг, еще менее гордый и более фальшивый, чем король, умолял его лишний раз покориться с тем, чтобы потом вернее стать на ноги. Достойный жалости монарх уступил, унизился, раскаялся в своих прегрешениях и обещал исправиться. Лефевр, снабженный пропуском прусского правительства, получил разрешение под предлогом ревизии наших консульств, ехать, куда ему заблагорассудится. По секрету приняты были меры к тому, чтобы, делая вид, что от него ничего не скрывают, показать ему как можно меньше. Гарденберг с кислой миной попросил Сен-Марзана вернуть ему записку и просил не говорить императору о его поползновении к непослушанию.[329]329
Сен-Марзан Маре, депеша от 20 октября, конфиденциальное письмо от 23.
[Закрыть]
Пока наш комиссар совершил свой объезд, Фридрих-Вильгельм, с нетерпением ожидая исхода объезда, или блуждал, кружась вокруг своей столицы, между Шарлоттенбургом и Потсдамом, или топтался на одном месте, снедаемый сознанием своего унижения, терзаемый горькими чувствами. Гарденберг с отчаяния написал в Петербург, прося, умоляя и даже требуя ответа. Ради Бога, – пишет он, – пусть согласятся сказать хоть что-нибудь; пусть скажут, может ли Пруссия рассчитывать на вступление русских в Германию, или же король должен считать себя покинутым и покориться жесткой необходимости? Каково бы ни было решение, нельзя долее медлить. Пруссия умирает от смертельной тоски: “неизвестность нас убивает”[330]330
Duncker, 391.
[Закрыть].
К осложнениям и опасностям настоящего времени прибавилось еще и то обстоятельство, что Наполеон, имея в виду испытать Пруссию и вернее узнать, что у нее на душе, отправил Сен-Марзану необходимые полномочия для открытия переговоров о союзе. Прусский же министр, как известно, в глубине души решил не связывать себя с нами обязательствами до тех пор, пока существует надежда, что Александр подпишет предлагаемый ему договор. Но как увильнуть от наших предложений после того, как сами, чуть не на коленях, просили о союзе? Как, не осуждая самого себя, не изобличая себя в обмане, оттянуть переговоры, о которых так горячо просили?
При сообщении о получении полномочий, Гарденберг изобразил на своем лице чувство удовлетворения. Наконец-то, – сказал он, – император согласился принять Пруссию в союзницы и избавить ее от беспокойства. И вздох облегчения, с которым он произнес эти слова, его просиявшее лицо и громкий смех составляли резкий контраст с мрачным настроением предыдущих дней; мало сказать, что он был рад – он был в “восторге”.[331]331
Сен-Марзан Маре, 27 октября.
[Закрыть] 29 октября Гарденберг и Гольц собрались на совещание с Сен-Марзаном, чтобы выслушать предложения Франции. Наполеон предлагал Пруссии или принять ее в Рейнский Союз, или подписать с нею отдельный договор о союзе. К договору должна быть прибавлена секретнейшая конвенция на случай войны с Россией и французский кабинет заранее наметил следующие основные черты конвенции: вся прусская территория, за исключением Силезии, куда на время мог бы уехать король, должна быть открыта вашим войскам и находиться под их охраной; прусские войска должны быть удалены из занятых местностей в должны безотлучно находиться в двух или трех крепостях; вспомогательный контингент должен быть установлен в двадцать тысяч человек; Наполеон может распоряжаться им по своему усмотрению.[332]332
Инструкции графу Сен-Марзану от 22 октября 1811 г. опубликованные Stern’ом, 350 – 366.
[Закрыть]
Эти условия были переданы королю, который не нашел их безусловно неприемлемыми. Он готовился к худшему, и с этих пор мысль подчиниться французскому союзу внушала ему меньший ужас. Но вот, наконец, приходит от Шарнгорста донесение о добытых им результатах, с извещением о скором возвращении, вследствие чего решено было дождаться его приезда и тогда уже принять окончательное решение. Под разными предлогами совещания с Сен-Марзаном были приостановлены. Сперва было выиграно четыре дня, затем еще два и в заключение еще двадцать четыре часа. Тем временем Шарнгорст приближался к Берлину, послав вперед донесение и текст договора, который он заключил с царем, сохранить за королем право утвердить или отвергнуть. Наконец, он прибыл и сам дал отчет о своей миссии. Найдет ли король в подписанном Шарнгорстом договоре, в его письмах, в его словах указание, которое определило бы его решение, найдет ли в них руководство для своего поведения и уверенность за будущее?
II
В исполнение своей задачи Шарнгорст вложил все усердие, всю душу, всю свою несокрушимую энергию. Ни усталость, ни неприятности, ни физические лишения, ни нравственные страдания – ничто не устрашило его. Нужно сказать, что он ехал в Россию под чужим именем, и, чтобы не быть узнанным, вынужден был объезжать большие дороги и избегал пользоваться почтовыми лошадьми. Он жестоко страдал от неимоверной тряски крестьянских телег, и, несмотря на то, что ехал день и ночь, приехал в Петербург только через две недели. В Петербурге он остановился, или, вернее, спрятался у бывшего камердинера императора. Тут ему пришлось восемь дней ждать аудиенции. Наконец, 4 октября его провезли по проселочным дорогам в Царскосельский дворец, куда тайком отправился и император. Между ними произошло несколько свиданий; они обменивались мыслями и на словах, и письменно.[333]333
Рассказ о миссии Шарнгорста находится у Duncker'a 418 – 423, а более подробный, у Lehmann'a, 402 – 415.
[Закрыть]
Вначале Александр был холоден, сдержан и не поддавался ни убеждениям, ни настойчивым просьбам. В это время его главным желанием было оттянуть разрыв с Францией до заключения мира с турками, поспешность же Пруссии расстраивала все его расчеты. Союз c нею, являясь слишком рано, преждевременно вовлекал его в войну. Уже при первом известии о вооружениях Пруссии, он умолял короля и его советников прекратить вооружения, не подвергать себя безрассудно опасности, не навлекать на себя удара молнии. Сверх того, он советовал им не показывать и вида, что они в добрых отношениях c ним, и, до известной степени, относиться с уважением к желаниям императора. Его так же, как и Наполеона, Пруссия ставила в неудобное и стеснительное положение. Своим волнением, своим беспорядочным метанием из стороны в сторону, своим безумствованием несчастная нация была в тягость обоим императорам. И тот и другой старались, сохраняя за собой право воспользоваться ею и впоследствии лишить ее воли теперь.
Александр согласился c Шарнгорстом, что война неизбежна; что она будет, ужасна и решит все. Тем более нет причин, говорил он, не приступить к столь важному шагу. Он все время высказывал трогательное участие к королю, предлагал тайный договор, обещал смотреть на вторжение на прусскую территорию как на нападение на самого себя; но лишь только Шарнгорст начинал настойчивее просить его о практическом согласовании действий России и Пруссии, так у него являлась склонность возбуждать, а не разрешать затруднения. Тем не менее, он позволил Шарнгорсту сообщить относящиеся к ведению войны идеи, на которых останавливались в Берлине, а затем и сам развил идеи, внушенные ему Фулем. Оба плана – прусский и русский – были рассмотрены и сравнены.
По прусскому плану, как только будет произведено нападение на Пруссию, русские войска должны, сейчас же покинуть свои пределы и лететь на Вислу. Не останавливаясь на этой реке, они переправятся через нее. Затем, развернувшись между Вислой и Одером, примкнув левым и правым флангами к прусским позициям в Померании и Силезии, имея опору для своих флангов в двух группах крепостей и в союзных войсках, они станут лицом к врагу и смело попытают счастья в открытом бою. Пример в прошлом показал, что в строю они могут померяться силами с Наполеоном, при условии, что место сражения будет хорошо выбрано и что они не впадут в некоторые тактические ошибки. Они должны постараться воспроизвести Эйлау и избегнуть Фридланда. Что касается русского плана, в том виде, как он был установлен в июне, то читатель вспомнит, что предварительное вступление в восточную Пруссию и в Польшу допускалось только, как побочное средство, нечто вроде усиленной разведки, за которой должно последовать добровольное отступление на позади стоящие войска; затем новое отступление до следующей группы войск – и так вплоть до позиций, на которых решено было ждать врага, уже ослабленного изнурительным походом и измученного постоянными мелкими стычками. О соединении русских армий с прусскими, за исключением наличности исключительно благоприятных условий, не было и речи. Прусские войска должны были запереться в своих крепостях, держаться в них как можно дольше, и, так сказать, образовать по сторонам пути, по которому пойдет великая армия, ряд укрепленных мест, занятых ее врагами.
Шарнгорст подверг этот план основательной критике. В особенности он дал понять, что признать a priori необходимость отступления при приближении французов– значит отдать им всю низменную часть Пруссии с ее крайне ценными средствами. Что же касается прусских войск, то, запертые в нескольких крепостях, предоставленные самим себе, лишенные свободы, – они, рано или поздно, будут раздавлены, и монархии, бесполезно пожертвовавшей собой ради общего дела, неизбежно придется сдаться. В выражениях, откровенность которых граничила с дерзостью, Шарнгорст объяснил, что Пруссия не может осудить себя на неблагодарную роль жертвы, не может уподобиться покинутой крепости, которую оставляют на погибель среди полчищ врагов только для того, чтобы задержать их наступление; что, если царь будет упорствовать в своих намерениях, король вынужден будет испробовать единственный остающийся ему открытым путь к спасению – выслушать предложения Франции.
Из этих слов Александр понял, что Пруссия предоставляет ему на выбор только два решения: или идти в Пруссию, или смотреть на нее, как на врага. Но в будущей войне, когда Наполеон может иметь в своем распоряжении огромное количество войск, когда на его стороне наверное будет численный перевес, русским нельзя пренебрегать прибавкой от восьмидесяти до ста тысяч хорошо вооруженных, хорошо снаряженных, воспламененных патриотизмом и чувством ненависти пруссаков. К тому же, если царь допустит этой силе перейти на сторону врага, такая измена послужит дурным примером: она может заразить и других. Это облегчит составление коалиции, которой Наполеон старается охватить соперника. Пред такой перспективой Александр смутился и уступил. Нехотя, скрепя сердце, он, мало-помалу, согласился изменить еще раз свой план и вернулся к мысли о наступлении, сохраняя за собой право не переходить известных пределов. Он перестал упорствовать и согласился подписать с Пруссией военную конвенцию, которая объединила бы обе армии и, до известной степени, связала бы их судьбу. Шарнгорст был направлен к военному министру Барклаю-де-Толли и к канцлеру Румянцеву. В целом ряде совещаний, потребовавших большого труда, конвенция была подвергнута подробному обсуждению. Каждая статья устанавливалась только после долгих разговоров, и, наконец, 7 октября, конвенция была подписана.[334]334
Текст конвенции опубликован Martens' ом, Traites de la Russie, VII, 24 – 37, Cf. Lehmann, 412 – 415.
[Закрыть]
По этому акту – если Наполеон, несмотря на соблюдаемое обоими государствами корректное и осторожное поведение, даст заметить, что хочет занять какую-нибудь часть прусской территории или примет слишком угрожающее положение – русские войска должны выступить в поход и с возможной быстротой двинуться к Висле. Они постараются даже, насколько позволят обстоятельства, переправиться через Вислу, но относительно этого пункта Александр не принял на себя положительных обязательств. Он приказал вычеркнуть из конвенции статью, по которой ему вменялось в обязанность продвинуть до Силезии часть своих войск. Пруссаки же с своей стороны должны уходить от нападающего, и, проскальзывая между его колонн, бежать навстречу своим союзникам и стараться соединиться с ними. Если быстрота наступления не допустит соединения с русскими, тогда они должны броситься в крепости Померании или Силезии, где сопротивление будет им облегчено близостью русских, которые станут на Висле.
Дабы русские могли скорей прийти на Вислу, Шарнгорст просил, чтобы войска царя, которые в настоящее время были в пяти переходах от границы, заблаговременно получили приказание вступить в Польшу и Германию, как только прусские власти подадут им знак и потребуют их присутствия. Александр никогда не признавал за чужими властями права распоряжаться его войсками. Поэтому было условленно, что войска выступят в поход самое позднее через восемь дней после того, как русское правительство получит от прусского короля или его генералов извещение об опасности. Одну же часть прусского государства Россия уже теперь обязывалась взять под свою охрану. Теперь же русский корпус из двенадцати батальонов и восьми эскадронов должен был выдвинуться за первую линию и стать на самой границе Пруссии, недалеко от того места, где восточная Пруссия внедряется между морем и русскими владениями. Как только начнутся враждебные действия, этот корпус должен перейти границу, прикрыть Кенигсберг и защитить от внезапного нападения этот важный город, которому будут угрожать и французский гарнизон в Данциге, и варшавские поляки. Вместо Берлина, который придется покинуть в первый же момент войны, Александр обязался сохранить королю другую столицу-колыбель Пруссии, куда тот мог бы перенести свою столицу и свое правительство и где мог бы укрыться на время вторжения французов.
Вот каких уступок добился Шарнгорст от русского правительства. Если бы заключенная в Петербурге конвенция, за которой должен был последовать договор о союзе, была утверждена в Берлине, Наполеон, без сомнения, бросился бы на не переставшую вооружаться Пруссию, и война наступила бы семью месяцами раньше. Военные операции начались бы на низовье Вислы. Вместо того, чтобы в 1812 г. попасть в беспредельные пространства России, императору пришлось бы в конце 1811 г. снова начать кампанию 1807 г., и можно думать, что то, чего он так боялся, вероятно, было бы его спасением.
III
Заключенная в Петербурге военная конвенция, с ее недомолвками и оговорками, не прекратила колебаний короля; более того, она заставила его пережить ужасные дни. Если в августе он решился броситься к России, вместо того, чтобы обратиться к Франции, то это было сделано потому, что предполагаемые им у Наполеона намерения не оставляли ему другого выбора. Думая, что Наполеон не хочет иметь его своим союзником, что он собирается свергнуть его с престола, он не видел другого исхода, и в припадке отчаяния обратился за помощью к России. Теперь же более или менее определенные предложения Франции, давая ему возможность выбора, окончательно сбили его с толку. Получив свободу принять решение, он не был способен ею воспользоваться. Очевидно было, что сделать в этот решительный момент его жизни выбор между двумя открывшимися перед ним путями было свыше его сил. Он не верит, да и прежде никогда не верил, в возможность – с серьезной надеждой на успех – сопротивляться победителю при Йене. Восстать против непобедимого полководца, даже с некоторой помощью русских войск, не значило ли идти на верную смерть? С другой стороны, подчиниться Наполеону – та же смерть, правда не сейчас, но все-таки смерть – медленная и позорная. Не скрывается ли в предположениях императора западни, думал он; нет ли тут гнусного намерения – получив в свое распоряжение Пруссию, склонив ее на унизительное дело и воспользовавшись ею – впоследствии, когда у ней не будет средств к защите, вернее поразить ее? Видя на обоих путях только ужасы, Фридрих-Вильгельм никак не мог разобраться, откуда грозит меньшая опасность, не мог составить себе мнение, а тем более принять решение. “Остается только бросить жребий, – растерянно говорил он, – разве что Провидение каким-нибудь чудом откроет нам глаза”.[335]335
Duncker, 402.
[Закрыть] От этой терзавшей его внутренней борьбы он терял голову, лишался рассудка. Сен-Марзан, на основании ложных сведений думал, что король успокоился, сделался доверчивым и был даже “очень весел”[336]336
Письмо к Маре, 1 ноября 1811 г.
[Закрыть], а, между тем, несчастный монарх писал 31 октября Гарденбергу: “Мне кажется, что у меня припадок горячки; мне чудится, как вокруг меня, со всех сторон, разверзаются пропасти”.[337]337
Duncker, 402.
[Закрыть]
В конце концов, несмотря на все усилия более твердого и более последовательного в своих суждениях Гарденберга, король дал понять ему, что считает себя осужденным на французский союз[338]338
Id. 413 – 414.
[Закрыть]. Ответ России, – говорил он, – дает только условное утешение. Россия дает обязательство защищать едва половину Пруссии. Конечно, ее войска пойдут на Вислу. Но пойдут ли они с желательной скоростью? Ведь Александр согласился поневоле. А вдруг он воспользуется первым представившимся ему случаем, чтобы стать на прежнюю строго оборонительную почву, от которой отказался, когда ему приставили нож к горлу. Фридрих-Вильгельм выставлял на вид все эти соображения, которые, конечно, имели большое значение. В сущности, если бы русские дали более успокоительные обещания и тем лишили его всякой возможности извинить свою трусость, он, вероятно, остался бы недоволен ими. Главную причину его действий в это критическое время следует искать в неисправимой слабости его характера. Людям со слабым и нерешительным характером присуще в критическую минуту предпочитать то решение, которое обещает им безопасность, хотя бы на самый короткий срок. Они считают себя счастливыми, когда им удается отсрочить опасности, когда они могут отдохнуть от душевных тревог; дальше они не заглядывают. Они хлопочут не о своем будущем, а о завтрашнем дне. Такую кратковременную выгоду и доставлял королю союз с Наполеоном; ясно было, что император, добившись покорности Пруссии, конечно, позволит ей жить или, по крайней мере, прозябать некоторое время. Таким образом, в перспективе у Фридриха-Вильгельма открывался период времени относительного спокойствия. Поэтому, в ту минуту, когда самые смелые из его генералов и министров, запасшись русскими обязательствами, надеялись довести его до цели своих усилий, он выскользнул у них из рук; с трудом дотащенный ими до энергичного и мужественного решения, он не в силах был удержаться на нем. Мужество окончательно покинуло его, и он упал в объятия французского союза. Партия действия, только что выигравшая дело в Петербурге, проигрывала его в Берлине.
Однако, она не сочла себя побежденной и прибегла к последней надежде. Дело в том, что, объясняя причины, заставившие его перейти на сторону Франции, король сделал оговорку. Возвращаясь к одной из своих излюбленных тем, он дал понять, что все изменилось бы в его глазах, если бы Австрия, по примеру царя, тоже согласилась защитить его от нападения, и, поддержав его левое крыло, поставила вторую подпорку под его колеблющуюся монархию. Гарденберг, думавший, что имеет основание не отчаиваться в Австрии, поймал его на слове. Он предложил обратиться к Вене с отчаянным воззванием о помощи, и, в конце концов, лихорадочные споры свелись к принятию решения, благодаря которому все осталось в неопределенном положении и которое, ничего не предрешая, задерживало окончательно решение короля. Совещания с Сен-Марзаном возобновились 6 ноября. Решено было так: приступить к более серьезным разговорам с Францией, дабы в случае необходимости сохранить за собой возможность заключить с ней союз. Тем временем Шарнгорст должен был снова пуститься в путь и через Силезию пробраться к австрийской границе. Путешествуя с еще большей, чем в предыдущую поездку, таинственностью, избегая больших дорог, делая крюки и объезды, чтобы не попасться на глаза французских шпионов, скрываясь под чужим именем, переряживаясь и гримируясь на всевозможные лады, он должен был незаметно проскользнуть в Вену. Там он откровенно расскажет австрийцам о затруднениях и об ужасном положении Пруссии, доверит им, полагаясь на их скромность, русские предложения, выяснит значение и недочеты этих предложений и будет умолять императора Франца согласиться на взаимно-оборонительный договор между обоим и германскими дворами. Теперь решение зависело уже не от Петербурга, а от Вены, куда за ним и должен был поехать странствующий ради правого дела рыцарь[339]339
Lehmann, 429 – 435; Duncker, 418 – 423.
[Закрыть].
Фридрих-Вильгельм согласился на этот шаг ради очищения своей совести, чтобы доказать, что не пренебрег никаким средством избавиться от ненавистного союза. В глубине души он не ждал ничего хорошего от Австрии, да и вообще ни от кого. В своем беспросветном пессимизме он смотрел яснее на вещи, чем его пылкие и экзальтированные приближенные. Он более чем достаточно поплатился за эгоизм кабинетов, чтобы поверять, что в минуту глубокой скорби Пруссия добьется чего-нибудь в Вене, конечно, не считая пустых соболезнований. Вообще жестокосердная судьба отучила его верить в счастье. Он находил, что во всех его начинаниях его преследовал злой рок, и теперь предвидел самый неблагоприятный исход дела.
Как ни мрачны были его предположения, все-таки они не доходили до такой степени, чтобы он мог предвидеть висевшую уже несколько дней над его головой опасность – самую большую и самую ужасную, какая когда-либо угрожала его короне и династии. Наполеон, все более убеждавшийся в том, что Пруссия его обманывает, что она по-прежнему продолжает военные приготовления, потерял, наконец, терпение. Он занялся тем, чтобы привести в исполнение свои угрозы.
Первые донесения Лефевра не доставили ему ни малейшего удовольствия. Приехав в Кольберг, французский ревизор заметил у властей явную наклонность, по возможности, все скрыть от него. Однако, несмотря на предписанные предосторожности, он застал рабочих за работой; заметил в большом количестве солдат, массы людей и материалов; видел выраставшие из земли вокруг крепостных стен редуты.[340]340
“Едва мы приехали на дюны, – писал Лефевр 27 октября, – как очутились среди целой рощи спиленных деревьев: рабочие, которых было много, заготовляли фашины (Фашина – перевязанный прутьями или проволокой пучок хвороста, применяемый для укрепления насыпей, плотин, для прокладки дорог в болотистых местностях.). Мне показалось, что генерал Тауенцин (комендант крепости) был крайне смущен этим открытием. Мы поехали дальше, и вскоре снова наткнулись на довольно большое количество рабочих, занятых устройством шоссе, которое с одной стороны должно примкнуть к большой кольбергской дороге, а с другой – к форту, о котором я упомянул выше... Очевидно, шоссе предназначено обслуживать этот редут... Насколько я мог судить, граф Тауенцин, не ожидавший этого открытия, был в большом затруднении. Он сказал несколько слов в оправдание этой работы; подходящие выражения не давались ему; он был, как на иголках. Мы в глубоком молчании проехали все шоссе от одного конца до другого и поздно вечером вернулись обратно. Я видел все наружные работы, но не в подробностях: считаю своим долгом заметить, что мы подъезжали к редутам не ближе известного расстояния. Как только предметы делались слишком хорошо видными, тотчас же давалось кучеру приказание повернуть обратно”. Archives des affaires étrangéres.
[Закрыть]
В то же время наши агенты, проживавшие на побережье, доносили ему о непрерывных работах по снабжению крепости провиантом и оружием. Один из них донес о проезде нескольких тяжелых повозок; каждая из них была запряжена девятью лошадьми и везла по направлению к Кольбергу огромный ящик, будто бы наполненный товарами, а между тем в каждом из этих ящиков была тщательно уложена и скрыта под деревянной оболочкой пушка – на что имеются доказательства.[341]341
Донесение консула в Штеттине, 28 октября. Archives des affaires étrangéres, volume citè. Cf. Corresp., 18241.
[Закрыть] Таким образом, все, кто ни наблюдал за Пруссией, ловили ее с поличным в обманных деяниях. Сверх того, узнав о прекращении переговоров с Сен-Марзаном и не зная еще о их возобновлении; император Наполеон вынес из этих затяжек впечатление, которое вполне оправдывало его раздражение и недоверие. Около того же времени до него дошло известие о выдающейся победе русских на Дунае под Рушуком, что окончательно вывело его из себя. Его гнев вылился в яростных возгласах по адресу этих “собак, этих подлецов турок”[342]342
Донесение Чернышева. 18 декабря, вышеупомянутый том, стр. 226. Наполеон писал Даву: “Русские одержали большую победу над турками, которые вели себя, как глупые животные. Я чувствую, что мир вскоре будет заключен”. Corresp., 18259.
[Закрыть], давших себя побить, но под влиянием обсуждения последствий этой победы, император перенес свой гнев на Пруссию. Думая, что турки понесли более тяжелое поражение, что они больше пали духом, чем это было в действительности, считая, что теперь уже невозможно помешать их миру с царем, он боялся, чтобы русские, развязав себе руки на Восток, не решились броситься в Германию и не начали войны, подстрекнув к восстанию Пруссию, которая, обманывая его, протягивает им руку. Чтобы отнять у русских эту опору, он задумал уничтожить ее с корнем, покончив с Пруссией, ибо она непременно хочет погибнуть. “Я вижу, – говорил он, – сколько недобросовестности в прусском кабинете; я так мало верю ему, что, думаю, невозможно будет помешать его гибели”.[343]343
Corresp., 18259.
[Закрыть] И, не принимая еще окончательного решения, он принимает меры к нападению. Ввиду того, что в настоящее время Пруссия лучше вооружена, чем два месяца тому назад, и, может быть, окажет более серьезное сопротивление. он уже не хочет предоставить это дело самостоятельному руководству Даву. 14 ноября, возвратясь из путешествия, он приглашает маршала подготовить заблаговременно и представить на его одобрение план военных операций, задача которых – внезапно напасть на Пруссию и сразу же овладеть королем, двором, правительством, администрацией и армией.[344]344
Id.
[Закрыть]
Маршал всегда свято исполнял приказания. Тем более теперь, когда дело шло об изыскании средств разрушить такое государство, как Пруссия, которую он считал лживой, вероломной, всегда готовой воспользоваться малейшей неудачей нашего оружия, чтобы схватить нас за горло. Он приложил к данной ему задаче все силы ума, с давних пор освоившегося с жестокостями и хитростями войны. В нем не шевельнулось ни малейшего угрызения совести при выполнении задачи, возложенной на его преданность и его патриотизм. Для нас должно быть предметом скорби, что жестокие средства, которые он предлагал применить, не возмутили его, не вызвали колебаний в его великой душе. Составив и выработав до мелочей план внезапного нападения на Пруссию и ее уничтожения, он 25 ноября отправил его императору: то был ужасный план.
В день, определенный заранее, дивизия Фриана c конными егерями Бордезуля, дивизия Гюдена с двумя кирасирскими дивизиями и несколькими резервными частями, и дивизии Морана и Компана с тем, что будет к ним прибавлено, охватят со всех сторон прусскую территорию. Дивизия Фриана, выступив из Мекленбурга, где она стояла по квартирам, бросится на Штеттин и на линию Одера. Дивизия Гюдена, выйдя из Магдебурга, окружит Шпандау и все истребит в Берлине. Дивизия Морана и Компана будут действовать в промежутке между дивизиями Фриана и Гюдена, вестфальские отряды примут участие во всех движениях. Чтобы не вызывать сразу же слишком большой тревоги, приказано будет сказать в Берлине, что русские вторглись в Польшу и что, вследствие этого, французские войска занимают прусскую территорию, имея в виду двинуться против них. “Можно даже будет поручить толковому офицеру передать на словах эти уверения, а, чтобы вернее заставить поверить, он сам будет введен в обман.[345]345
Проект Даву, из которого мы даем подробные выдержка, находится в национальных архивах, AF, IV, 1656.
[Закрыть]
Вслед за тем в Штеттин прибудет и сам маршал с частью 5-ой дивизии, Дезе и лично будет руководить делом разгрома. “Пруссакам не дадут соединиться. Все войска и отдельные отряды будут разоружены, обозы захвачены. Властям будут даны строгие приказания: не допускать скопления отпускных (людей, уволенных в отпуск), рекрут и рабочих”. В то же время, даже в тот же или на другой день по нашем вступлении, Понятовский выступит со всеми своими полками из Торна, двинется вниз по Висле и присоединится к вышедшей из Данцига дивизии Гранжана с тем, чтобы, сомкнув круг, помешать бегству и прервать все отношения между восточными провинциями и попавшим в тиски центром Прусской монархии.
До момента приведения в исполнение приговора все будет держаться в строжайшем секрете. “Этот секрет будет открыт только в последнюю минуту, – продолжал маршал, – и то только тем, кому знать надлежит. Я думаю принять меры, чтобы ввести в заблуждение о цели похода даже дивизии Фриана, Морана, Гюдена, Компана и др. Войска узнают истинную цель похода только в тот день, когда план разоружения прусской армии уже будет приводиться в исполнение. Саксонцы получат приказ двинуться на Глогау только в тот день, когда мы будем почти на Одере. До тех пор повсюду будет царить величайшее спокойствие, и это спокойствие в значительной степени поможет ввести в обман пруссаков. Я бы предложил взять от саксонцев два или три кавалерийских полка, один или два пехотных, и одну или две батареи легкой артиллерии и употребить их для охраны путей из Берлина в Саксонию, для задержания всех, кто захочет спастись этим путем, даже частных лиц, у которых с особой заботливостью будут отбираться бумаги. Это даст возможность захватить многих агитаторов и забрать бумаги, которые дадут верные сведения об их планах. Это войско войдет как можно скорее в сообщение с колонной генерала Гюдена и будет действовать смотря по обстоятельствам: завладеет Кроссеном и т. д.”.
“Я должен установить предположение, что король может быть захвачен врасплох в Берлине. Взятие в плен короля будет иметь настолько важное значение, что, по-моему, не следует упускать этого случая.
“Осмеливаюсь просить распоряжений Вашего Величества относительно всех проживающих в Берлине иностранных послов; присутствие этих господ всегда чрезвычайно вредно”.
“Предлагаю задерживать всех иностранных курьеров, которые едут в Петербург или возвращаются оттуда, и, соблюдением всевозможных приличий, отбирать у них депеши”.
“Я избегаю, Государь, посвящать кого бы то ни было в этот план, так что даже князь Понятовский узнает о нем только при получении приказаний; и не потому, чтобы не доверял ему,– я считаю его честным и преданным Вашему Величеству человеком, – но письмо может валяться, а в Польше много очень ловких женщин”.
“Можно надеяться, что результатом этого плана будет полный разгром и что никто в Пруссии не будет знать, ни что ему делать, ни в каком положении дела, так как почти все курьеры будут перехвачены”.
“Чтобы избегнуть со стороны гарнизона всякого поползновения к сопротивлению, можно на всякий случай потщательнее сфабриковать фальшивый договор, в котором будет сказано, что король, решив действовать в тесном единении с Францией, согласился отдать на время в наше распоряжение крепости, крепостные сооружения и укрепленные пункты своей монархии. Возможно, что, по предъявлении этой бумаги, перед нами откроются все двери, и все средства будут отданы в наше распоряжение. Можно будет уверить прусские войска, что их отведут в Силезию и там возвратят их повелителю. Они узнают о своей участи и поймут, что они в плену только тогда, когда отдадутся в наши руки”.
“Я прекрасно знаю, прибавляет маршал, что ни в одном слове этого проекта нет и следа законности; но это будет только платеж прусскому правительству его же монетой. Поэтому-то я и предлагаю его, а также и потому, что он выполнит желание Вашего Величества– как можно выгоднее начать дело. Возможно, что Ваше Величество отвергнет большинство изложенных в этом проекте мыслей, в особенности, мысли, относящиеся к фальшивому договору; но это можно изменить. Во мне зародилась эта мысль вследствие подобного же рода хитрости, к которой пруссаки прибегли в Майнце. Они сочинили от имени генерала Кюстена к коменданту крепости приказ сдаться на капитуляцию на наилучших условиях, так как нельзя надеяться на выручку. Сознаю, что это месть немного жестокая, но ее можно смягчить при выполнении дела”.








