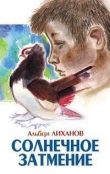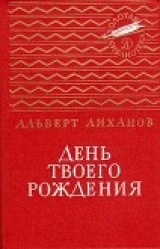
Текст книги "День твоего рождения"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
10
В тот вечер, едва Толик увидел отца, встречая его у завода, он сразу понял, что произошла какая-то важная перемена. Что-то случилось.
Отец шел размашисто, широко, и голову прямо держал, и не сутулился совсем, как обычно, а увидев Толика, ему не улыбнулся, кивнул только, как взрослому, обнял его за плечи, и они быстро пошли к дому.
У порога их встретила мама, уже с тазиком в руках. Отец быстро разделся, окунул руки в воду и стал медленно намыливать их, медленно-медленно, будто собираясь с мыслями. Толик приглядывался к нему, отчего-то волнуясь, и то, что отец, неожиданно стремительный и резкий сегодня, вдруг снова стал вялым и тихим, бросилось в глаза. Толик внимательно смотрел, как отец, тщательно прополоскав руки, вытер их, потом, оставив полотенце, не спеша шагнул к столу и вдруг позвал громко и требовательно:
– Маша!
Сердце у Толика колыхнулось.
Отец стоял спиной к Толику, его лица не было видно, но по спине, сутулившейся больше, чем обычно, по тому, как решительно и тревожно позвал отец маму, Толик понял, что сейчас опять будет что-то тяжелое, и напрягся, как струна, сжался в комочек, глядя на бабку и маму.
Бабка и мама смотрели на отца, и Толик хорошо видел их лица. Они походили на зеркала, в которых отражался отец. Почувствовав, как и Толик, тревогу и волнение в его голосе, баба Шура напряглась тоже, но напряжение ее было другое, не как у Толика. Она стала словно каменной, лицо ее теперь походило на маску – есть такие маски, их в Новый год напяливают, только там все маски смеются – у всех на лицах застывший смех, – а тут маска была мрачная, и еще на ней изображались независимость. Мол, чего там ни говори, а я все лучше тебя знаю. Все одно, последнее слово за мной! Мама же нет – она теперь волновалась, ее лицо вздрагивало, ждало.
– Маша, – сказал отец. – Я получил зарплату.
Он сунул руку в карман и вытащил деньги.
У Толика отлегло немного; он подумал, что отец волновался из-за этого, ведь он первый раз на новом месте зарплату получил. Дрогнула бабкина маска, расплываясь не в улыбке, а в какой-то неясной гримасе, вздохнула мама.
– Здесь, конечно, побольше, – сказал отец, – чем было раньше. Но я…
Он не договорил, будто поперхнулся. Толик видел, как сжимался и разжимался его кулак с силой и хрустом. Отец прокашлялся и начал снова.
– Но я прошу тебя, – сказал он, – распоряжаться деньгами самой.
Толик увидел, как, не успев снова стать независимой, приоткрыла рот баба Шура, как медленно побледнела мама. Да, наверное, если глядеть со стороны, и у самого Толика вытянулось от удивления лицо. Еще бы, отец сказал такое… ну такое, прямо – революция в их семейных делах!
– Да, да, – сказал отец, переступая с ноги на ногу. – И не надо так смотреть на меня, Александра Васильевна. В конце концов, мы работаем оба… И имеем право…
Отец волновался и не договаривал слова.
Бабка, спохватившись, захлопнула рот, поджала губки и уставилась было в одну точку, но тут же раздумала и снова поглядела на отца, словно все никак поверить не могла, как это он такое сказал.
– Да и вообще, – сказал отец, неожиданно перестав волноваться. – Да и вообще, для чего же деньги зарабатывать, если их не тратить? Куда копить?
Отец, когда говорил, любил по комнате ходить, курить, гоняя за собой облака дыма, а сейчас стоял спокойно и говорил уверенно.
– Вот купим Толику какую-нибудь обнову, – говорил отец рассудительно, – тебе пора пальто справлять, у меня костюм уже пообносился. Никого не забудем! И Александру Васильевну тоже!
Отец взглянул на бабку, и Толик даже подскочил. Бабка заверещала, будто ее режут.
– Тоже? – закричала она. – Тоже? Это как же так – тоже? Да ты кто такой тут командовать? Ты у меня живешь или я у тебя, иждивенец проклятый!
Крича, бабка поднялась со стула и бегала вокруг отца, размахивая кулачками. Толик подумал, отец опять сейчас оденется, хлопнет дверью, и, когда вернется ночью, от него будет пахнуть вином. Но он не сдвинулся с места и на бабку, возле него бегающую, не взглянул, будто ее и не было.
– Ну так что, Маша? – тихо спросил он. – Долго еще это терпеть будешь? – Он кивнул на бабку, будто на самовар какой-нибудь, на неодушевленный, в общем, предмет. – Долго?
Мама, побелев как полотенце, медленно поднялась и заморгала.
– Нет, нет, Петя! – зашептала она, задыхаясь. – Я не могу…
Отец опустил голову, и Толику показалось – он опять не выдержит этого, сдастся снова, и бабка, как прежде, будет править домом – всегда и во всем. Толик напрягся весь, как бы помогая отцу не уступить, радуясь, что он сегодня такой решительный и резкий, и отец будто услышал его.
– Нельзя, – сказал он, не обращая внимания на мамины слезы. – Нет, Маша, так больше нельзя.
Мама стояла у стола, глядя то на отца, то на бабу Шуру, растерянно мигая и потирая виски, словно у нее страшно разболелась голова. Бабка, притихшая было, блеснула глазками, повела носом, точно быстро-быстро высчитала что-то, и завизжала опять:
– Ну раз так, раз я такая-разэтакая, а вы самостоятельные, съезжайте от меня к чертям собачьим! Катитесь к лешим! Живите где хотите!
И вдруг заплакала.
Толик даже вздрогнул – никогда он не видел, чтоб бабка плакала. Он уставился на нее. Баба Шура стояла к нему лицом, вполоборота к матери и ревела в голос как белуга, и даже слезы у нее катились. Но не поверил ей Толик, не пожалел бабушку, потому что ясно видел, как, на него внимания не обращая, не таясь от Толика, бабка бросала на маму быстрые взгляды и подвывала все громче и громче, будто бы настаивая на своем.
А мама смотрела на нее, теперь уже только на нее, на свою мать, а на отца не смотрела совсем, и бабка все прибавляла и прибавляла голосу, выла уже взахлеб, и мама не вытерпела, бросилась к ней, взяла опять бабку за локоток, но бабка локоток вырвала, словно обиделась на мать, и та должна еще попросить у нее прощения и искупить свои колебания.
Отец повернулся к маме, и Толик снова увидел его глаза. Они были спокойные и решительные, как и тогда, по дороге домой; и сразу было видно, что отец все понял, хоть и не видел бабкиной симуляции. Понял, что это не правда, а спектакль.
– Ну что ж, – сказал отец маме. – Пойдем. Перебьемся как-нибудь. Глядишь, нет худа без добра, – скорей квартиру дадут. Собирайся!
– Нет! – крикнула мама. – Нет! Нет! Нет! – И слезы белыми горошинами покатились у нее по щекам.
Глаза у отца погрустнели, он опустил голову, как раньше, понурил плечи. Но только на секунду.
– Эх, Маша, Маша! – сказал он. – Видно, и не было у нас с тобой ничего хорошего, раз ты так… Пойдем же, перебьемся, не пропадем… Но ведь нельзя так жить! Разве это можно жизнью назвать?
Толик вспомнил, как стоял он вровень с отцом на лавочке тогда, у ворот. Вспомнил, как отца сразу понял, и взглянул на маму: поймет ли она?
Но мама будто и не слышала ничего. Она все гладила бабу Шуру, успокаивала ее. Толик посмотрел на отца. Глаза у отца блестели, и ладони он сжал в кулаки, словно хотел драться.
– Пойми, нельзя так! – крикнул он.
А бабка все выла и выла, и мама обнимала ее, гладила по плечам, будто маленькую.
– Так ты идешь? – спросил отец снова, трогая маму за плечо.
От этого прикосновения мама вздрогнула вся, и бабка, почувствовав это, вдруг вырвалась из маминых рук, подбежала к двери, распахнула ее. В коридоре были люди, шла тетя Поля со сковородкой, и баба Шура, чтоб побольше народу слышало, заверещала истошным голосом:
– А ну съезжай, аньжанер, с моей квартеры!
Глаза у нее сверкали, остренький кулачок с вытянутым пальцем указывал за порог.
Отец подошел к вешалке и натянул пальто.
Толик, сидевший все это время молча, встрепенулся.
Он видел все. Все. И не только сейчас, он видел всегда и все, что было здесь, в этой комнате. Он видел все от начала и до конца. Он видел эту войну отца и бабки при маминых молчаливых слезах.
Мама всегда была бабкиной рабыней. Слепой, молчаливой.
Он думал, теперь рабом станет и отец. Он был почти уверен в этом.
И вот – нет!
Отец не стал рабом этой проклятой старухи!
Он восстал!
Он сказал то, что они оба – мама и отец – давно должны были сказать этой бабке.
Он сказал это теперь.
Он правильно сделал. И Толик, ставший его верным другом, был абсолютно согласен с отцом.
Толик встрепенулся и подошел к своей шубе.
Он не сомневался ни мгновения.
Он должен уйти с отцом.
Дверь в коридоре была распахнута, бабка стояла у порога, а отец, уже натянув пальто, доставал из комода свои рубашки и бросал их в рыжую авоську. Рубашки мялись, падали в сумку комками, но отец не замечал этого. Руки у него тряслись, он швырял рубашки со злостью, будто это они были во всем виноваты.
Мама стояла в углу, и руки у нее висели по бокам. Она походила на старуху – оглохшую и слепую. Вокруг нее что-то происходит, а она ничего не слышит, не видит, она устала уже от всего, и все ей безразлично.
Толик натянул шубу и нахлобучил шапку, поджидая, когда отец заберет рубашки.
И тут маму будто кто-то ударил. Она пошатнулась, бросилась к Толику и закричала дико, захлебываясь слезами.
– Не-ет! Не-ет!
Толик вздрогнул от этого крика, еще не понимая, что это из-за него так кричит мама.
– Я уйду с папой, – сказал он ей спокойно. – Ты оставайся, а я пойду.
В самом деле, ведь кто-то должен был идти с отцом? Но мама этого не понимала, ничего она не могла понять.
Она вцепилась в Толикину шубу и прижала его к себе. От порога, так и не закрыв дверь, к маме подбежала бабка. Теперь они вдвоем держали Толика. Он рванулся изо всех сил, но это было бесполезно, и тут только Толик по-настоящему понял, что наступил конец.
Конец всему.
Всему, всему, всему!
Толик представил себе пропасть, на краю которой он стоит. Внизу – тьма и страх, а мама и бабка толкают его туда.
В глазах у Толика поплыли круги, он рванулся и закричал что было сил, закричал, плача и вздрагивая всем телом:
– Я не хочу, не хочу с вами!
Вдруг он увидел отца. Отец стоял в дверях и смотрел на Толика. Отец шевелил губами, он что-то говорил, но Толик ничего не слышал. Он старался услышать, но уши заложило, и Толик ничего не слышал. Отец сказал что-то и кивнул Толику.
Потом прикрыл дверь, и его не стало.
Толик рванулся снова – отчаянно и сильно. Опережая его, баба Шура подбежала к двери и повернула ключ, пряча его в карман.
– Гадина! – крикнул Толик. – Гадина! Гадина! Гадина!..
И бросился на бабку с кулаками, но мама так сжала его, что у Толика перехватило дыхание.
11
Будто сумерки в Толикиной жизни настали. Где-то там, над головой, солнце ярко светит, синее небо плещется, словно река, а Толик ничего не видит – все вокруг кажется ему серым, плоским, каким-то туманным.
Весь вечер он тогда дома бился, хотел побежать вслед за отцом, хотел догнать его и, крепко взяв за руку, уйти вместе с ним, но мама и бабка не выпустили его. Заперли дверь на ключ и сами с ним взаперти сидели. Но смешно – разве удержишь человека, если он решил уйти?
Утром Толик отправился не в школу, а к заводу, искать отца.
На улице было тихо-тихо. Солнце медленно выкатывалось из-за домов, розовел снег от его лучей, скрипел под ногами, и Толику казалось, что он идет по сыпкому киселю, в магазинах такой продают – лизни, и будет сладко. Чем ближе подходил Толик к заводу, тем больше становилось людей на улице. Взрослые шли, весело между собой переговариваясь, и Толик торопился, поспевая за ними. Перед проходной он попал в густой водоворот, пошел назад, против течения, на него натыкались, его обходили, поругиваясь беззлобно. Наконец Толик выбрался, перешел на противоположную сторону улицы и забрался на невысокую тумбу с чашей, где летом росли цветы, чтоб лучше было видно отца в этом водовороте.
Он стоял в чаше, постукивая валенками, стараясь согреться, и все никак не мог надивиться, сколько, оказывается, людей по утрам идет на завод. И ведь все заняты, никто не болтается без дела, стоят у станков или чертят в конструкторском бюро, как отец раньше. «Если бы дать людям флаги, – подумал Толик, – получилась бы целая демонстрация». А демонстрация все шла и шла, и у Толика вдруг поползли по коже мурашки – он отчетливо услышал, как люди шагают в ногу, и хотя земля была покрыта снегом и она никак не могла гудеть у них под ногами – ему показалось, что земля под ногами у этой толпы, у этой демонстрации гулко ухает и гудит.
Люди шли перед Толиком чужие, незнакомые, но он не чувствовал себя среди них посторонним. И то, что он стоял тут, над толпой, в этой странной чаше, никого не удивляло, будто все считали, что здесь есть отчего торчать мальчишкам, есть на что глядеть и чему удивляться.
Неожиданно – Толик даже и не заметил, как это произошло, – толпа исчезла. Только что казалось, ей нет конца, и вот вдруг она исчезла, скрылась в беззубой пасти проходной. Пробежали еще несколько человек – верно, опаздывавших, – и на улице стало тихо, пустынно. Толик почувствовал себя неуютно на вазе, где летом росли цветы, и спрыгнул вниз.
Отца не было. Может быть, Толик не увидел его в толпе? Но ведь он был на высоком месте, и отец должен был заметить его и подойти.
Опустив плечи и разом став похожим на отца, Толик побрел от завода. Теперь надо было провести где-то день, чтобы вечером снова прийти сюда. Прийти и все-таки встретить отца.
Толик припомнил вчерашнее. Уходя, отец пошевелил губами, он что-то сказал. Толик был уверен, что он сказал это ему, Толику, но вот что, что он сказал?.. Может быть, отец говорил, что ждет его, как и обычно, вечером, у завода? А может быть, он сказал, что сам найдет его?
Толик подумал, что походит на человека, который заблудился в лесу. Нет, не заблудился – он знает, как вернуться назад, но возвращаться нельзя, никак нельзя, ни за что нельзя, и он бредет вперед, зная лишь одно: где-то его ждут.
Но где?
Толик брел, опустив голову, задумавшись, и не сразу услышал, как его окликнули. Он обернулся и увидел отца.
Вначале Толик не поверил себе. Он стоял мгновение, не понимая ничего, не веря, что нашел, нашел все-таки отца, а потом ринулся, бросив портфель, навстречу высокому человеку с родными глазами, с родным лицом и ткнулся носом в отцовское пальто. От отца пахло каким-то маслом, железом и еще чем-то заводским, и Толику до нестерпения захотелось бросить все сейчас и пойти с отцом на завод, туда, где работает огромная людская толпа, целая демонстрация.
Толик поднял голову и вгляделся в отцовское лицо – посеревшее, с тяжелыми синими кругами ниже глаз.
– Папа! – сказал Толик. – Я не хочу там! Я хочу с тобой!
В горле у него застыл комок, защекотало в носу. Отец положил ему руку на плечо. Рука была тяжелая, словно камень.
– Ну, ну! – сказал он. – Держи хвост морковкой! – Но больше бодриться не стал, сказал правду. – Понимаешь, – сказал он задумчиво, – куда же я тебя возьму? Нет, ты только не сердись, я хочу, чтобы мы с тобой были вместе, но я, понимаешь, нынче ночевал на вокзале… Сегодня устроюсь у товарищей и поскорей попрошусь в командировку. Потом надо будет подумать с общежитием… Как же я возьму тебя?..
Толику больше не хотелось плакать. Он смотрел на отца и понимал его, вполне понимал, потому что отец говорил с ним, как тогда, на скамейке, – лицом к лицу, как с равным.
– Ты не сердись, – сказал отец. – Такая уж жизнь, что делать? Попрошу, чтоб мне скорей дали комнату, и заберу тебя. Будем жить по-холостяцки. Согласен?
– Да, – ответил Толик и добавил, подумав: – Может быть, хоть тогда мама поймет…
Отец повернул Толика к себе и пристально вгляделся в него, будто видел первый раз.
– Ого, – сказал он, удивляясь, – да ты у меня совсем взрослый человек.
Толик улыбнулся ему, они пошли к проходной.
– Ты опоздал? – спросил Толик.
– Да и ты тоже, – ответил ему отец, хмурясь. – А опаздывать нельзя. Никому. Ни мне, ни тебе. Иди в школу. Если не уеду, в это воскресенье, в десять часов, жди меня… ну, например, у кино. Если не приду – жди через неделю.
Он наклонился к Толику и обнял его.
– Хвост морковкой! – шепнул он.
Толик остался, а отец пошел в проходную, и тут Толик увидел, что в одной руке у него авоська с рубашками, которую он взял вчера.
Возвращаясь к школе, Толик представил себе воскресенье и маленький кинотеатр возле их дома, куда они ходили раньше все вместе – мама, отец и он. Кинотеатр назывался «Огонек», и в нем показывали смешные детские фильмы. Толик представил, как они вдвоем с отцом смотрят картину с пляшущими человечками, и улыбнулся.
12
Как мало – один день! Всего один! И как много! Целый день!.. Сколько может случиться всякого за один день – и веселого, доброго, и злого, да еще такого, что всю жизнь тебе перевернет.
Но как может узнать человек о том, что с ним за день случится? Да еще пятиклассник какой-то, у которого и еда его, и уроки, и одежда, и вся его жизнь зависят от других, от взрослых людей. Что он может знать наперед и что ему ждать от этих взрослых?
Целый день Толик был в смятении, не умел разобраться сам в себе, то радуясь, что увидел отца и поговорил с ним, то давясь от слез, которые туманили глаза и мешали смотреть. Снова и снова вспомнил он вчерашний ужасный вечер, зная, что случилось непоправимое, и никак не веря, что всему настал конец и что отец не вернется.
После школы он не пошел домой, а побрел по городу, сторонясь шумных улиц.
Старые деревянные дома в тихих переулках вглядывались подслеповатыми окнами в мальчишку, идущего мимо них, а Толик вглядывался в дома, в морщинистые и мудрые лица, так непохожие на бездушные и плоские физиономии их каменных родственников. Толик подумал, что деревянные дома похожи на добрых стариков, которые потому и добры, что старики. За свою жизнь они немало всего насмотрелись, наверное, и доброго и плохого, научились не обижаться и разучились радоваться, но остались добрыми и поэтому все-все понимают. Ах, если бы все старики были такими!
Улочка, по которой шел Толик, то горбатилась, спускаясь вниз ступеньками, вырубленными в снегу, то поворачивала вбок, блестя на солнце голубыми глазами домов, то проваливалась в ложок, и тогда тени от крутых берегов синили снег краской, похожей на вечернее небо.
Толик добрел до конца улочки, уткнулся в пустырь и пошел обратно, переходя незнакомыми переулками, будто брел по лабиринту, напечатанному в «Мурзилке», – только там все просто, сразу весь лабиринт видно, а тут не видно ничего – лишь дорога перед тобой. Он упирался в заборы, возникающие неожиданно, шел, пока воздух не стал густым и темным. Вспыхнули лампочки на улицах, будто загорелись гирлянды на елке, снег заискрился желтым светом, и Толик вышел на свою улицу, словно кубиками, уставленную многоглазыми коробками из серого кирпича.
Дома было тихо, и мама сидела возле бабки, как вчера. Будто время назад повернулось и сегодня – это не сегодня вовсе, а день уже прожитый, прошлый.
У дверей на табуретке стоял тазик, в котором отец мыл руки. Сейчас тазик был пуст, но рядом лежало полотенце, и на плитке отфыркивался чайник. «Ждут, – подумал Толик, – ждут, что вернется». Он криво усмехнулся, радуясь за отца. «Теперь его никто уже не пилит», – подумал он, но легче от этого не стало. Толик представил отца спящим на твердой вокзальной лавке, а вместо подушки под головой у него авоська с рубашками, и слезы снова подкатили к глазам. – Все, все, конец! Пропади она пропадом, эта бабка, эта баба Шура проклятая!»
Толик медленно разделся, думая об отце, а бабка и мама внимательно глядели на него, будто знали что-то такое о нем нехорошее. Как-то пристально они глядели, словно вглядывались в него, внутрь заглянуть хотели, словно рентгены какие…
Толик разделся, сел за стол, вытащил тетрадки, а баба Шура нехотя встала, все так же зорко на Толика глядя, потом в угол пошла. Как на Толика – тоже пристально, – на бога своего посмотрела, встала на колени, ими пристукнув, голову опустила, зашевелила губами – покорная вся такая, послушная своим иконам. Потом закрестилась часто-часто, завсхлипывала, закланялась.
Толик старался не смотреть на бабку, глядел в задачник, пробуя сосредоточиться, а мама обернулась к бабке, и лицо у нее было жалкое, униженное.
– Мама, – сказала она вдруг, – мама, лучше помолитесь, чтоб вернулся… Может, поможет?..
Теперь же Толик смотрел, смотрел на просящее, белое лицо мамы, слушал, как повторяет она: «Может, поможет?..», соображая, про что это она бабку помолиться просит, и вдруг увидел, как бабка повернула к маме вздернутый свой нос и как с коленок резво вскочила.
– Кому молиться-то? – крикнула бабка и повторила, чтоб получше ее слышали: – Кому молиться-то? Ему?
Рукой в бога ткнула, который на иконе нарисован, будто никак понять не могла, удивляясь будто – уж и вправду, не богу ли мама ей советует помолиться.
– Ему?! – крикнула. – Ему?! – И со смеху затряслась. – Да он деревянной. Не слышит он, нарисованной!
Толик подумал, бабка рехнулась, кто его знает, может, вот так и сходят с ума. Только что покорно головой перед иконой кивала, шевелила губами, шептала молитву, крестилась тремя пальцами – и вдруг такое про своего же бога выкрикивает.
А бабка по комнате пробежалась, будто разгон набирая, и снова крикнула.
– Нет, – крикнула, – ему я молиться не стану! Я другому богу помолюсь! Который слышит! Который по земле ходит! Партейному я богу помолюсь, чтоб навел порядок среди свово большевика! А то ходют тут безоштанные, женются, детей рожают, а потом семьи бросают. И коммунисты еще!..
«Вот тебе и с ума сошла! – подумал Толик, снова ему тяжко стало, душно. – Вот она как, значит, в бога-то своего верила, крестилась усердно. Враки, значит, все это были, враки. Представление одно. Везде представление…»
Толик вспомнил – игрушка у него была, перевертыш. В желобке таком куколка катается с шариком внутри. Желобок наклонишь, шарик в куколке покатится, и она только упадет – сразу поднимается и снова улыбается, потому что у куколки две головы, два лица. Перевернется куколка – и снова стоит, перевернется – и стоит. Перевертыш.
Вспомнил Толик эту игру и куколку с бабкой Шурой сравнил. Перевертыш бабка. Перевернется – и как ни в чем не бывало.
Только что богу молилась, вид делала, будто верит в него, а теперь перевернулась и вон как говорит! И хоть бы что ей! Ни стыда, ни смущенья в ней ни вот столечко, будто ничего не случилось, будто не обругала она только что своего бога.
Вдруг Толик возле себя бабку увидел. Снова пристальные ее глазки, просверливающие насквозь, в него уперлись. Тетрадку в клеточку бабка ему протягивает. Улыбается каменной улыбкой. Губами от удовольствия чмокает.
Толик не понял, чего это бабка от него хочет, взглянул на маму. Мама, все бледная, ему головой кивнула: мол, да, мол, так и надо.
– Возьми-ка ручку-то, обмакни в чернилы, – поет бабка и гладит Толика по голове липкой ладонью.
Опять, значит, гадость будет, так и жди. Но обмакнул Толик ручку, писать приготовился.
Подперла бабка кулачком щеку, проговорила не торопясь, диктуя:
– Товаришши партейной комитет! К вам обращается сын коммуниста Боброва, который бросил свою семью и меня…
Толик ручку выронил, встал.
– Пиши, пиши, – сказала ему бабка и кивнула.
И мама тоже кивнула, соглашаясь с бабкой.
Толик шагнул от стола к вешалке, стал шубу с крючка стягивать и услышал, как замок в двери щелкнул. Поднял голову, увидел бабку с ремнем в руках.
Потом бабка расплылась, будто в тумане, и сквозь слезы, изо всех сил сдерживаясь, чтоб не зареветь, Толик сказал:
– Не буду!.. Ни за что не буду!..
Бабка шагнула к Толику и хлестнула его ремнем по спине. Толик онемел и стоял минуту, открыв рот, все соображая, что же случилось. Потом, собравшись пружиной, кинулся к столу. Он схватил, как гранату, бутылочку чернил и, ожесточась, швырнул ее. Швырнул ее в бабкин угол, в бабкины иконы. Бутылочка грохнула, разрываясь, и чернила синим киселем поплыли по стене. Не попал Толик в икону.
И тогда бабка хлестнула его ремнем по лицу. Щека у Толика сразу будто отнялась. Больно не было, нет, просто Толик не чувствовал теперь своего лица – оно стало твердым, деревянным будто и жарким, – и он засмеялся. Толик смеялся, а бабка била и била его, ожесточась, сжав губы в тонкую синюю полоску.
Толик все смеялся, и вдруг он увидел мамино лицо.
Она стояла перед ним, и у нее не было ремня.
– Пиши! – сказала она ему, и лицо у мамы походило на бабкино. – Пиши, сынок, пиши!
– Предательница! – прошептал Толик, и бабка снова ударила его.
Молнии сверкали в комнате – они слепили Толика, они шатали его, и уже звенело в ушах, будто лопались какие-то струны.
Толик снова увидел мамино лицо. Он обрадовался было – ну не может, не может же мама вот так стоять и глядеть, как бьет его бабка!
И, шатаясь от слепящих ударов, Толик спросил – не крикнул, нет, а спросил негромко и вопросительно:
– Мама? Мама?..
– Пиши! – сказала мама. – Так надо!
Все оборвалось в Толике. Пустота. Одна пустота и звон, нарастающий, гудящий звон…
Словно в тумане, медленно шевеля ватными ногами, он приблизился к качающемуся столу и, не помня ничего, взял ручку.
– Ну, – сказала бабка, – пиши! – И голос у нее был ласковый, будто ничего и не было, будто просто уговаривала она Толика.
Он подвинул тетрадку и вывел слова, которые проскрипела бабка: «Товарищи партийный комитет… к вам обращается сын коммуниста Боброва, который бросил свою семью и меня… Верните мне, товарищи партийный комитет, моего папу…»
Он пишет с ошибками и уронил уже в тетрадь не одну тяжелую кляксу… Но ни мама, ни бабка не ругают его, а гладят по голове, но Толику все равно, что они там делают.
Они дают ему рюмочку с желтоватой водичкой, и Толик пьет ее, с трудом разбирая терпкий запах валерьянки.
Он пьет ее, потом ест какую-то еду, и ему все равно теперь что делать. Все равно…
Ему все равно, что бабка, заклеив в конверт письмо, одевается и идет на улицу, к почтовому ящику…
Он остается один с мамой, и она смотрит на Толика больными глазами. Но он не видит этого.
Ему все равно…