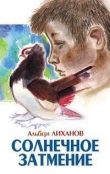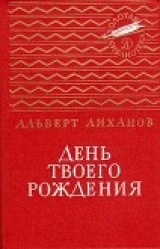
Текст книги "День твоего рождения"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
3
Толик промыл кисточку, закрыл коробку с красками, порвал испорченный рисунок. Ах, баба Шура! Вот было у него настроение замечательное – еще бы, шутка ли, четверка по алгебре, а теперь опять как всегда. Будто была солнечная погода, да подул ветер, и снова хмарь, снова низкие лучи. И четверка по алгебре уже совсем исчезла. Умом знаешь, что она есть, а радость и удовольствие пропали.

Всегда она так, баба Шура, всегда все испортит, расстроит, такое у нее странное уменье – все и всем портить.
Бабка что-то притихла. Толик поискал ее глазами и увидел на диване. Баба Шура сидела, согнув спину, а на коленях у нее лежал бумажник. Знаменитый бабкин бумажник с потертыми, побелевшими краями.
«Вот значит что! – ухмыльнулся Толик. – Пенсия!» Ну конечно, не зря же бабка о богатых художниках разговор завела. Она зря и слова не скажет.
Что она за жадина все-таки! Ни характер хороший, ни другие какие достоинства в людях бабку не интересуют. Если о ком разговор зайдет, бабка всегда один вопрос задает: а сколько он получает? Если много, она согласно головой кивает – заранее, хоть и человека ни разу не видела и не знает, кто он такой, а уже уважает. Если мало зарабатывает, ей отвечают, она про такого уже ничего и не спрашивает. Неинтересно ей.
Ну а дома – дома бабка всем деньгам хозяйка. Как получка – и мама и отец все деньги бабке сдают. И она им выдает потом. Пойдет мама в магазин, баба Шура ей денег дает, а вернется мама, всю сдачу до копейки бабка у нее забирает. Только оставит восемь копеек – на троллейбус туда и обратно. Обед мама с собой в бумажке носит. Два бутерброда с колбасой или, того хуже, с баклажанной икрой. Вот и ходит мама белая как бумажный лист.
Отец у бабки тоже под отчетом. Вечером она ему полтинник в карман кладет. Ничего не говорит, сунет полтинник, и все – на обед. Толик вначале все удивлялся, откуда у бабки столько полтинников. Потом в магазин с ней пошел и увидел, как баба Шура там тройку на полтинники разменивала. Чтоб, значит, удобнее отцу выдавать.
Ну а про Толика и говорить нечего. В школьном буфете булочки на переменках продают – желтенькие, пушистые, пятак цена-то, да нету у Толика пятака. Баба Шура ему кусок хлеба с маслом дает. Все хлеб да хлеб…
Конечно, и хлеба Толик поест, с ним, понятно, какой разговор. Вот маму жалко, когда поглядишь, как она бабе Шуре все копейки из кармана сдает.
А баба Шура сидит в это время выпрямившись, будто на уроке. Потом вытащит из серой кофты блестящий ключик, откроет комод, достанет оттуда бумажник, в бумажник деньги сложит, комод закроет, ключик обратно в карман.
Будто в доме воры есть и боится баба Шура, как бы кто деньги не взял. Все прячет, прячет деньги в свой бездонный бумажник.
А когда пенсию бабке приносят, она по пять раз на день бумажник свой из комода достает. Деньги все пересчитывает.
От этой пенсии, которую бабке ровно двадцатого числа почтальонша приносит, никому житья нет.
Если почтальонша хоть на день опоздает, бабке прямо невмоготу. Все топчется, топчется по комнате. Будто потеряла чего. Молчит и топчется. Потом не выдержит – оденется и на почту идет. Все бросит – и пойдет. Если на кухне суп у нее варится, так и не доварит, выключит газ и айда на почту. Если там очередь, не поворотит назад баба Шура. Хоть час выстоит, но заставит все перерыть, все бумажки перетрясти, найти ее пенсию. Уж тетки на почте бабу Шуру в лицо знают. И почтальонша старается первой на своем участке ей деньги принести, чтоб не бегала, не мешала работать.
Зато когда принесут бабке ее «зарплату», когда пересчитает она, мусоля пальцы, грязноватые бумажки да сложит их в комод, под тонкий серебристый ключик, посмотрит бабка вокруг себя, будто Наполеон какой. Будто она победу великую одержала.
И по ней видно – по сухонькому ее лицу, по грачиному носику, какое ей от этой пенсии удовольствие. Даже вроде добрей баба Шура становится.
Вот и сейчас.
Сосчитала бабка деньги и в потолок уставилась, улыбается потолку.
Смотрит Толик на бабушку и не узнает. Морщинки на щеках разгладились, и в глазах какое-то свечение.
Баба Шура очнулась, увидела, что Толик ее разглядывает, разом построжала, спустилась со своих денежных облаков.
Насупилась, захлопнула бумажник, спрятала в комод, подальше от Толикиных глаз.
– Иди-ка, Толик, – строго сказала, – погуляй.
«В одиночестве, наверное, о своих деньгах помечтать хочет, – подумал Толик, – чтоб никто не мешал», – и натянул на голову танкистский шлем – свою гордость. Застегивая его, Толик вспомнил отца и снова поразился бабке. Как это ухитряется она мерять отца только на деньги! Да отец такой замечательный!
Толик вышел во двор. В сгустевшей темноте горела яркая лампочка, освещая хоккейную площадку. Под ней носились мальчишки, гоняли шайбу, орали, и Толик поправил шлем.
Сейчас он придет на площадку, и мальчишки без слова уступят ему место центрального нападающего, потому что на Толике отцовский шлем, а всю эту площадку сделал не кто-нибудь, а отец Толика.
Толик вспомнил, как это было. Отец вышел во двор с совковой лопатой и стал раскидывать снег. Он разогрелся, от него пошел пар, и тогда отец скинул пальто, повесил его на столбик, к которому цепляют бельевые веревки, и снова замахал лопатой. Толик ему помогал, тоже раскидывал снег, но лопата у него была взрослая, тяжелая, и он устал, остановился передохнуть, обернулся к отцу.
А отец наклонился чуть и так швырял снег, что аж пыль холодная летела по двору. Он метал и метал снег, не разгибаясь, не глядя по сторонам, и покрякивал от удовольствия. Потом остановился, увидел, что Толик на него глядит, подмигнул ему и шапку над головой приподнял, будто снял крышку с кипящей кастрюли: пар от головы клубами валил.
Толик засмеялся, любуясь распаренным отцом, – такой мороз, а ему жарко, – любуясь, как снова, словно рычаг, размеренно и сильно заходила в руках у него лопата, и ему захотелось работать с таким же азартом, как отец. Он замахал своей лопатой, конечно, реже и труднее, чем отец, но тоже покрякивая, – правда, не столько от удовольствия, сколько от тяжести, – но все равно работа шла, над двором летела тонкая снежная пыль, и из этой пыли вдруг вылезли дворовые пацаны с лопатами, и теперь уже не только отец с Толиком крякали, как утки, а будто налетела целая стая.
Площадку расчистили, потом долго таскали в ведрах горячую воду, которая растекалась на площадке стекленеющими лужами, и над ними в тихом морозном воздухе стлался густой туман. Отец таскал по два ведра сразу, потом заложил по краям поля доски, и неплохая наутро вымерзла площадка, настоящая получилась хоккейная коробка, и лед был довольно гладкий. Но играть все-таки ребята любили без коньков, в валенках, чтобы посильней бить шайбу, а то на коньках такого сильного удара не получалось, больше падали и в кровь разбивали колени. Так что в шайбу во дворе играли без коньков, и центром нападения всегда был Толик, хоть и жили в доме ребята постарше его, пятиклассника. Да, играл Толик в нападении, именно центром, потому что только центром, никак не меньше, можно было играть, имея такой великолепный, такой изумительный танкистский шлем, через который не слышны никакие удары. Можно даже клюшкой по голове стукнуть – ничего, выдержит. Не изо всей, конечно, силы.
Словом, то, что Толика выбрали центром нападения, относилось не к его личным заслугам, а к танкистскому шлему и к тому, что это его отец придумал сделать площадку для ребят.
И Толик был благодарен отцу.
4
Когда Толик вернулся с улицы, отец был уже дома, сидел за столом напротив мамы, а баба Шура разливала в тарелки перловый суп.
Мама увидела распаренного Толика в шлеме, сразу нахмурилась.
– Опять гонял, – сказала, – лучше бы дома посидел. Книжку почитал. Или полепил из пластилина, у тебя хорошо получается.
И правда, у Толика из пластилина хорошо получается. Еще во втором классе он бабу-ягу из пластилина слепил. И Наполеона с одним глазом: на втором – черная ленточка, выбили Наполеону глаз на войне. Но это же во втором классе было. А сейчас пятый. Пятый – это-то понять можно?
И потом – совсем разные вещи, когда тебя за Наполеона одна мама хвалит и когда тебя хвалят за отличную шайбу все ребята, вся команда. Совсем другое дело! Тут ты сам для себя. Ну, для мамы еще. А там для целой команды.
Но мама всегда ворчит, когда Толик во дворе шайбу гоняет. Она хочет, чтоб он дома, перед глазами сидел. Отец шевельнулся недовольно – это у них старый спор, нерешенный.
– Надо, чтоб он коллективистом был, – сказал отец.
Что такое коллективист, Толик точно не знал, но отцу кивнул согласно.
– Еще успеет, Петя, – ответила ему мама тихо, но настойчиво.
Толик увидел, как из угла сверлит глазами баба Шура, понял, что это опять мама не свое говорит. Это она бабкины идеи осуществляет, это бабка ей наговорила, чтоб Толик больше дома сидел. Поэтому и настойчивость у мамы в голосе.
«Ну баба Шура!» – злится Толик и смотрит на отца с любовью и с тоской. Смотрит, как отец спорит, горячится.
– Хватит, – сказал отец, распалясь, – что мы с тобой к подолу пришиты. Пусть хоть он среди людей будет.
К чьему это подолу они пришиты, отец не сказал, но Толик понимает, догадывается – к бабкину. Он глядит на бабу Шуру, но та своим делом занята, зашивает что-то, будто это ее и не касается. Будто она и не слышит ничего.
Потом говорит, невзначай как бы:
– Пенсью принесли…
Всякий раз, как она говорит это, отец голову в плечи прячет, а мама быстрей есть начинает. Знают уж, как все дальше будет. Наизусть выучили.
– Н-ндя… – размышляет бабка, лобик морща. – Вот опять за доставку два рубля отдала… Охо-хо-о, жисть та-а…
Это бабка почтальонше за то, что она ей пенсию приносит, двадцать копеек дает. Но никогда баба Шура не скажет – двугривенный, нет. Два рубля, говорит. Это она все по старым деньгам считает. По-старому, когда деньги меняли на нынешние, двадцать копеек два рубля значили.
Толик был совсем маленьким, когда деньги меняли, это ему бабка все подробно рассказывала. Давно уже тех денег нет в помине, а она все по ним счет ведет.
По тем старым деньгам ей почтальонша шестьсот рублей приносит. А отец получает всего сто. По новым.
Вот и ходит баба Шура, оживленно сандалиями своими шебаршит, половицами скрипит. Большой день сегодня у нее. Шутка ли, пенсия!
Отец и мать ели суп молча, опустив головы, словно ребятишки провинившиеся, а бабка все причитала, все кидала камушки в отцовский огород.
– Н-ддя… Ндя-ндя-ндя… – ныла баба Шура, облокотясь, подбородок в ладошку сложив. В глазах задумчивость и размышление были, будто никого она и не изводила вовсе, а просто так размышляла себе вслух, думу думала.
– Н-дя!.. – гундосила. – Все ж таки нескладно выходит у нас. Я одна шестьсот имею, а вы вдвоем – сто да восемьдесят, сто восемьдесят без вычетов. Н-ндя!..
Отец положил ложку, не доел суп и так папироской задымил, что комната враз синей стала, а табак под красным огоньком от горенья затрещал.
– Петь, а Петя, – баба Шура вдруг удивилась, – а пошто это за партию-то деньги берут, а? Вот вычеты-то?
Голос у нее ласковый, бестолковый, не понимает она будто, хоть ей отец все сто раз объяснял.
– Да не вычеты это, – взорвался отец. Лицо у него покраснело, словно он тяжелое бревно поднимает, а не с бабкой разговаривает. – Не вычеты это, – крикнул он, – а взносы! Я сам плачу, понятно!
– Ню-ю-ю, – запела бабка, нутряным смехом заливаясь, – ишь, добровольно! Скажи кому, глядишь – поверют!
Отец папироску в тарелку ткнул, забегал по комнате, будто заяц загнанный. А мама голову опустила, даже лица не видно. Знают, что все это цветочки, сейчас ягодки будут.
– Не горячись, зятек, не горячись, – бабка отца успокаивает, и лицо у нее уж без ехидцы, серьезное лицо, потому что ведь и разговор дальше серьезный.
– Вишь ли, Петя, зятек дорогой, – бабка говорит. Глаза на клеенку опустила, пальцем по ней водит, стесняется будто и говорить-то про это, такое деликатное дело. – Вишь ли, зятек дорогой, я пенсьонерка, а доходу имею чуть поменее тебя.
Баба Шура глаза от клеенки отрывает, смотрит спокойно, как отец по комнате бегает, как мать в пол глядит.
– Ну ясное дело, мои деньги – на похороны, да вам в наследство, как представлюсь… Живем мы на ваши средства, уже после меня пошикуете, ясное дело, но покамест денег мало.
Отец все молчал, крепился. Трещал табак под огоньком, комната, как поле боя, в синих клубах. Отец ходил по комнате, а за ним, как живые, двигались табачные облака.
– Переходи-ка ты, Петя, в цех! В цех, Петя, переходи. – Бабка вдруг заталдычила. Пальчиком сухоньким отцу в пояс затыкала, глазки ее востренькие заблестели.
И сколько еще будет бабка отца вот так мучить?
5
Однажды летом Толик видел водоворот. Прошел жуткий ливень – казалось, тяжелая туча, которая нависла над городом, вся, без остатка, пролилась, и по улицам во всю ширину мчались мутные, стремительные речки. Воды было столько, что решетчатые колодцы не успевали ее проглатывать. Над колодцами плескались целые озера, и в том месте, где вода стекала, крутились водовороты.
Они глухо гудели, урчали, будто какие-то прожорливые твари, и вокруг мутных воронок, как в карусели, носились щепки, обрывки газет и всякий мусор. Все это крутилось, словно завороженное урчащей пастью воронки, медленно приближалось к ее краям, потом попадало в середину и исчезало в страшном нутре колодца.
Толик долго стоял тогда возле водоворота, глядел в этот манящий, все проглатывающий круг, и колодец казался ему живым жадным зверем.
С тех пор прошло много времени, но крутящаяся воронка не исчезала из памяти Толика, наоборот, он чаще и чаще вспоминал ее, потому что все, что было дома, напоминало ему ту воронку. Жизнь в их доме крутилась возле денег, всегда возле денег, возле бабкиного бумажника с потертыми углами; и чем дальше, тем глубже засасывал этот денежный круговорот всех их. Мама уже смирилась и крутится в бабкиной воронке, и только отец сопротивляется, не поддается бабкиным разговорам, не переходит в цех, потому что – это даже Толику ясно – не все меряется деньгами, не все меряется по бабкиному правилу, и интересная, любимая работа важней и дороже всяких денег.
Деньги, деньги, все только о них и толкует баба Шура. Но Толику иногда кажется, что вовсе не деньги бабке нужны, а что-то другое. Непонятно что, но другое, потому что все эти скандалы из-за отцовской работы, из-за его зарплаты лишь половина всех скандалов. Баба Шура у них дома будто острый гвоздь на гладкой доске. Куда ни пойдешь, что ни сделаешь, обязательно за этот гвоздь зацепишься, обдерешься.
Такой уж у бабы Шуры характер.
С виду посмотришь – безобидная старушечка, божий одуванчик. Сухонькая, легонькая – как стручок.
А дойдет до дела – нет человека страшней бабки.
Если обозлится, к примеру, или если что не по ней, не по нутру, баба характер свой – из кожи вон лезет! – выказывает. А характер у бабы Шуры как булыжный камень. Хоть молотком по нему стучи – ничего не добьешься, кроме как молоток железный обобьешь.
Если что там не так, если что ей не подходит, уставится вдруг баба Шура на что-нибудь и глаз не отрывает. С ней говорят, она не отвечает.
Начнет мама пол мыть, баба Шура с места не стронется. Сидит, глядит в одну точку, свернет губы в птичью гузку и ровно оглохла. Мать ее в такой час боится. Тихо пол возле бабкиных ног аккуратно вымоет, тряпкой ее не коснется. Отойдет потом бабка, встанет, а на мокром полу от нее два сухих следа останутся. И следы эти никогда прямо, как у людей, не стоят. Всегда один в другой уткнется. Будто шел, шел человек и сам о себя споткнулся. И нету ему дальше никакого ходу.
Толик давно заметил, что глаза у бабка, когда она вот так уставится, будто меньше становятся. Не зрачки, а две иголки. Так и колют. Смотрит она, например, в телевизор и ничего не видит, а телевизор глазами прокалывает и стенку за ним тоже. Не моргнет, не шелохнется баба Шура, что там ей по телевизору ни показывают.
Толик пока не понимал, встанет, бывало, перед бабкиными глазами, заговорить с ней хочет, а она и его прокалывает своими иголками. Стал тогда Толик ее обходить. Неприятно как-то, когда сквозь тебя смотрят такими глазами.
Сперва все это Толика не касалось.
Ну не нравится тебе, как баба Шура в фикус глазами уткнулась, час, будто загипнотизированная, сидит, плюнул, натянул валенки и айда во двор. Шайбу гонять с пацанами. Или в войну – тыр-р-р-р! – длинными очередями по врагу строчить из автомата.
Вот тебе и вся баба Шура.
Да ясное дело, не для Толика она и старалась. Отцу с матерью свою власть, свою силу доказывала.
Вот в прошлый праздник, например, собрались отец с мамой в гости, заранее бабку предупредили. Она все молчала, вроде бы и не возражала, а стали собираться – отец костюм свой любимый надел, не новый, но аккуратный и красивый, в полосочку, мама туфли вытащила блестящие, тряпочкой их от пыли обтерла, чулки натянула красивые, тонкие, сели на один стул обуваться, задурили, как маленькие, тесня друг дружку, засмеялись, а баба Шура вдруг в комод уставилась и замолчала. Смейтесь, стучите, кричите – ей хоть бы хны! Нет ни комода перед бабой Шурой, ни стенки за ним, ни улицы за домом – уставилась баба Шура, глядит куда-то в никуда – и все тут!
Мама заметила первой бабкину перемену, приутихла, опустила голову, будто виновата, что с отцом шутили, засмеялись. А бабке этого мало. Молчит, сидит недвижно, как сыч на суку, и глазами не моргнет.
Отец вздохнул, стянул галстук с шеи, из угла в угол заходил.
Ходил, ходил, а мама как всегда. Будто пол возле бабкиных ног моет. Тряпочкой тихонько туфли ее обводит, чтоб встала потом баба Шура, а от нее как ни в чем не бывало сухие следы друг в друга уперлись. Боится мама бабу Шуру, тихонько туфли уже сняла, в шифоньер поставила, чулки отцепляет.
Отец остановился перед ней, опять вздохнул, размял папироску, просыпал табак.
– Ну что ж, – сказал бабе Шуре, а сам на маму поглядел, будто все это не бабке, а ей говорит. – Ну что ж, Александра Васильевна, так нам тут возле вас и сидеть? Мы ведь вроде еще не старики, хочется же в гости сходить к товарищам. Да и обещали, что придем, неудобно…
Мама совсем голову опустила, будто это ее отец ругает. Отец тогда шагнул к маме, по волосам ее, как маленькую, погладил.
– Что же вы, в самом деле, Александра Васильевна, – сказал отец, маму гладя, – вроде бы взрослые мы люди, да вот и Маше тоже развеяться не мешает, а то все дома и дома… Кухня, да полы, да плита…
А баба Шура все сидела не шелохнувшись, словно и не касалось это ее. Словно не с ней отец говорил.
Но отец все ходил, все ходил, курил, пуская яростно дым, и говорил ровно, спокойно. И Толику показалось, что отец все это вовсе и не бабе Шуре говорит. И не маме. Неизвестно кому говорит отец, наверное, даже никому. Просто так он все это говорит, лишь бы не молчать, лишь бы сказать хоть что-нибудь. Будто себя уговаривает. Будто успокаивает себя.
Ровно говорил отец, как некоторые учителя на уроке, и все одно и то же повторял. Потом глаза у него потухли, как папироска, и он уже не говорил, а под нос себе бормотал. А баба Шура молчала. Молчала – и все тут, хоть лопни!
Только уж ночью, когда все легли спать и успокоились окончательно, баба Шура принялась на диване ворочаться, пружинами ржавыми скрипеть. Это значит, не все еще. Еще не сказано, значит, сегодня последнее слово, и хоть говорил отец целый вечер – сперва распалясь, потом тихо, под нос бурча, – не за ним все-таки последнее слово, нет. За бабкой Шурой.
Поскрипит пружинами бабка, поворочается с боку на бок, будто председатель на собрании колокольчиком позвонит, и скажет свое последнее слово:
– Промежду протчим, я вам мама, а не Александра Васильевна!..
Это она отцу говорит. И лучше уж отцу промолчать, потому что иначе баба Шура и завтра говорить не станет. Просидит целый день, уставившись в одну точку, и обед не приготовит, и весь вечер снова испортит.
Промолчит отец, неизвестно о чем думая, а уж мама и вовсе ничего не скажет.
Словно ничего они не слышали.
Только бы с бабкой не спорить.
6
Толик сначала думал, бабка с отцом из-за бога поладить не могут. Думал, баба Шура отцу ту историю все простить не может – с иконой, которая в углу у нее висит. Не может забыть, как отец ту икону скинуть хотел.
Баба Шура в бога верит. Сколько раз в день у иконы своей остановится, губами пошевелит, покрестится. И помогала икона бабке, Толик своими глазами сто раз видел, как помогала.
Очень это просто, оказывается. Сидят они, например, вечером, когда по телевизору кино показывают, которое детям до шестнадцати лет смотреть нельзя. Сидят, сидят, и Толик сидит, чего же делать? Комната у них одна, и мама говорит, что не закрывать же ему глаза. Конечно, не закрывать! Да если и закрыть, завязать глаза даже шарфом, не поможет же! Ушами-то все Толик слышит. А раз слышит, можно и не глядеть – все равно все понятно. И между прочим, ничего еще такого страшного в этих кино не показывали, бояться нечего. Так вот сидят они, сидят, смотрят кино, и как дойдет, что там какая-нибудь красивая тетенька платье снимать начнет, раздеваться, – вот тут икона и начинает действовать!
Отвернется баба Шура от телевизора, поищет глазами в темноте угол, где икона висит, перекрестится быстренько, и все! Дальше телевизор смотрит. Пока крестилась, уже другое показывают.
Так что икона ей помогала, и Толик, понятное дело, думал, что баба Шура на самом деле в бога верит.
Это, конечно, интересно было – как в бога верят.
Хорошо ведь – попалось тебе что-нибудь неприятное, ты перемолился одной рукой, и все в порядке! Всякие неприятности: с глаз долой – из сердца вон, как баба Шура говорит. Только вот надо научиться, как рукой водить.
Толик совсем пацан был, в первый класс ходил, когда этот скандал случился. Сейчас-то он понимает, какой глупый тогда оказался, но что поделаешь, ведь раньше Толик к бабе Шуре хорошо относился. Даже любил ее, хотя и неизвестно за что. Верил ей.
Так вот, начала баба Шура однажды перед иконой молиться, а Толик за спину ей встал, приподнялся на цыпочки, принялся вслед за ней креститься. Бабка обернулась, увидела, что Толик тоже крестится, вдруг носом всхлипнула. Пристучала мелко-мелко к Толику, с костяных коленок не поднимаясь, и обняла его.
– Внучо-ок! – сказала протяжно. – Золотко!
И стала Толику показывать, как правильно надо в бога верить. Не в живот сначала, а в лоб пальцами тыкать, и плечи не путать – сперва в правое, потом в левое. И пальцы щепоткой сложить, будто соль взять собрался. А раньше всего на коленки стать для уважения к богу. Но вообще-то можно и так, на ногах, если некогда.
Они стояли на коленках перед иконой – баба Шура и возле нее Толик, и тут неожиданно открылась дверь. Никогда в жизни не видел Толик отца испуганным – и вдруг увидел: отец стоял на пороге, приоткрыв рот, хлопая глазами, подняв брови домиком. Из-за его плеча выглядывала мама, бледная, будто три раза подряд напудренная.
Отец постоял, помолчал, потом шагнул в комнату, и лицо у него сразу стало маковым. И опять он другим стал. Раньше бабка упрется взглядом в угол, так отец ходит по комнате нерешительно, только говорит, сам себя уговаривает. А тут вдруг как гаркнет:
– Ну-ка, мамаша, снимай свою иконку! Да моли бога, что я твой родственник!
Баба Шура поднялась с коленок, промокнула пуховым платком острый носик. Толик отцовского крика испугался, думал, и баба Шура испугается, снимет из угла икону, а она, будто ничего не случилось, мимо отца прошаркала, словно и не заметила его, словно и не кричал он только что, и удивленно сказала маме голосом скрипучим, таким, будто кто-то сухую доску раздирает – разодрать не может:
– Маш, а Маш? А пошто же это мы Толика-то не окрестили?
Мама все стояла в дверях, только еще бледней стала. А бабка, ничего не замечая, талдычила свое.
– Не-ет, – мотала она головой, – окрестить надо, а то вон нехристи-то какие ноне… Орут! Голос подают! А коммунисты еще! Ну да ладно, окрестить не поздно…
Толик думал, отец все-таки скинет бабкину икону – он прямо ринулся в угол. Но бабка, которая вроде бы и не видела отца и речи свои говорила маме, вдруг мгновенно повернулась, кинулась наперерез отцу и в тот миг, когда он протянул руку, чтобы достать до иконы, вцепилась в него.
Отец остановился, опешил, не зная, что делать, как быть с бабкой, которая вцепилась в него, рванулся было опять к иконе, и в эту минуту ожила мама. Она кинулась к отцу – Толик думал на подмогу, – но нет, мама тоже, как бабка, схватила его за руку.
– Не надо, Петя, не надо, – заговорила она сквозь слезы. – Милый Петя, не надо!
Отец обернулся.
Бабка отступила на шаг и глядела теперь на него.
Хоть и прошло уже много лет с тех пор, а как наяву видит Толик ту минуту: отец и бабка стоят друг против друга, будто на дуэли.
Отец – высокий, ладный, плечи широченные, никак Толик за плечи обхватить его не может. А бабка – щупленькая, сухонькая, будто стручок. Ну какая тут дуэль?
Но нет, не так-то просто.
Не всегда тот, кто сильней, побеждает.
Не страшная баба Шура, не ловкая, не хитрая. Самая что ни на есть обыкновенная старушка. Кофта на ней вязаная, серая, серая юбка и платок пуховый тоже серого цвета. Носик острый торчит из платка, как птичий клюв. Вот глаза только.
Как посмотрит баба Шура на человека – не просто так посмотрит, а со злостью, – не то что проколет иголками – пробуровит, просверлит, будто в самое нутро тебе заглянет. И оттого, что заглянет в самое нутро баба Шура, нехорошо в тебя заглянет, с тайным каким-то смыслом, сердце у человека зайдется, и он отступит на шаг.
А отступив, увидит, как вырастает вдруг баба Шура.
Маленькая, сухая, а вот уже всю комнату заняла. Никого больше тут нет – одна она все заполонила, и нет человеку здесь места. Вон, вон от нее! Вон из комнаты, где дышать нечем!
Посмотрела тогда вот так баба Шура на Толикиного отца, в самое нутро, наверное, ему заглянула и сказала негромко, будто нехотя:
– Слышь-ка, сродственник бесштанной! Ты тутока на меня не гавкай, не ори. В своем дому хозяйствуй, а здеся ты сам по билету. Почитай, как на постоялом дворе.
Только что отец красный был, а тут позеленел. Шарики на лице закатались, будто он под щекой конфеты круглые держал. Отец отступил на шаг от бабки, а потом в коридор вышел. Дверью хлопнул так, что под обоями словно мыши зашуршали – штукатурка посыпалась.
Мама на сундук, где всякое старье лежит, опустилась, заплакала.
Толику страшно сделалось, ведь он тогда еще совсем пацан был, в первый класс ходил. Он к маме пришел, прижался к ней. Мама Толика обняла.
А тут баба Шура тенью над ними нависла. Серая вся, как ворона. Каркнула:
– Ты-кось скажи своему соколику, опамятуй его и сама не забудь. Я – слышь! – я тутошная хозяйка!
Сказать бы тогда маме свое слово бабе Шуре. Сказать бы, что любит она отца и отец ее любит и что есть у них Толик, сын, сказать бы маме, чтоб перестала баба Шура тут всем править, но она промолчала. Заплакала только. А когда проплакалась, включили они телевизор, и Толик смотрел кино, которое не разрешается глядеть детям до шестнадцати лет.
Кино было скучное, только изредка тетеньки там раздевались, и бабка опять крестилась, глядя в темный угол. Свет от телевизора делал синим ее лицо, и Толику было страшно, когда она закатывала глаза с синими белками.
Мама сидела тихая, как прибитая, и смотрела в телевизор слепыми глазами.
Поздно вечером пришел отец.
Он был тихий-тихий.
Снял ботинки у входа и на цыпочках к кровати прошел. Когда он мимо Толика проходил, вином почему-то запахло.
Мама погасила свет, и баба Шура заворочалась на своем диване, запищала пружинами. Потом не пружинами, голосом заскрипела, сказала неизвестно кому:
– И между тем дите само заинтересованность проявляет.
Точку поставила.