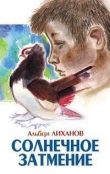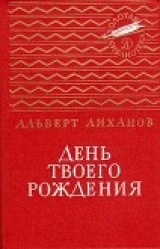
Текст книги "День твоего рождения"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Не верю!
Я смотрел на гостя во все глаза.
Откуда он все это придумал? В какой книжке прочитал?
Нет, не подумайте, будто я ему не поверил. Такое было, я слыхал. Но разве могло быть это с ним? Вон он какой. Ничего особенного. В вышитой рубашке. Руки мягкие, влажные, неприятно даже. Совсем обыкновенный, словом, а ведь он про героя рассказывал! Про трубача! Такие же в кино только. В книгах. На пионерских сборах о них говорят, а на самом деле их, может, и нет. А если и есть, то, наверное, где-то. В Москве, например. В Верховном Совете. А этот дяденька живет в маленьком городке на Украине. Не слыхал никогда даже такого названия…
Я гляжу на человека в вышитой рубашке и никак не могу понять, что он – тот трубач. Нет, не могу… Да еще он, может быть, мой дед!
Это мне помогает. Нет, нет, говорю я себе, дедушка мой здесь, а это рассказы, вымысел, я этого человека совсем не знаю, не имею к нему отношения, вот он встанет сейчас, выйдет на улицу, и все… Я буду думать, что просто услышал страшный рассказ. Пусть это даже правда, что он говорил. И пусть он будет героем, мало ли…
Но гость не уходит. Не исчезает, как в сказке. А сидит. Они с дедом курят, молчат. Я слышу его дыхание, его осторожное покашливание. Никуда он не денется, не исчезнет, не уйдет. Он существует действительно, этот человек, и его нельзя убрать, передвинуть куда-нибудь в угол, чтобы не мешал остальным.
– Как будем действовать? – спрашивает дедушка.
– У него на руке была родинка. На локтевом сгибе, – говорит человек.
Дедушка сосредоточенно молчит. Я лихорадочно вспоминаю – есть ли у папы родинка? По-моему, нет. А может, есть, только не замечал.
Дед опускает голову, качает головой:
– Не помню.
– А последняя надежда – фотография, – говорит человек. – Я слыхал, существует экспертиза. Можно установить, тот человек или не тот.
Он лезет в карман, достает бумажник и вынимает из нее пожелтевшую фотографию. Там какой-то веселый мужчина, молодая женщина. Белобрысый мальчишка обнимает их. Он повернулся немного боком и смотрит куда-то вверх. Может, на птицу. А может, на облака.
Я смотрю на карточку придирчиво. Но сердце колотится набатом. И в висках стучит молоточками. И душно.
Я подношу фотографию к глазам. Неужели это папа?
Папа! Это сразу ясно.
Но, может, не он? Конечно, не он!
Мало ли похожих людей! И потом, разве таким был папа в детстве? Я видел его фотографии. Он был там постарше. С бабушкой. Потом отдельно – с портфелем. Вместе с бабушкой и дедом. Потом с дедом вдвоем – оба в военной форме, дед – в настоящей, а папа – так, шутя, ему дед привез с фронта, попросил военных портных сшить гимнастерку для мальчишки.
Я лихорадочно лезу в стол. Достаю альбом с карточками. Гость надевает очки, не спеша разглядывает каждый снимок.
Я тревожно гляжу на него. Меня злит, что он такой медлительный. Что не может посмотреть быстро и сказать: «Извините, я ошибся!» Он молчит, рассматривает наши фотографии, сверяет их со своей, и я уже не злюсь, а трепещу, словно жду приговора.
Ну а как же все-таки этот? Как с ним быть? Человек прилетел с Украины, ищет сына по имени Сергей, и может быть, папа – его сын…
Родинка на локтевом сгибе. А вдруг есть?.. Что тогда? Два деда? Два бывает, но только когда один – отец отца, а другой – отец матери. Тут совсем не так. И так не бывает.
Гость посмотрел фотографии. Задумался. Сказал:
– Трудно понять. Подождем. Только я вас прошу – пока ни слова. Можно и ошибиться. Будет непростительно. С этим не шутят.
– Я прошу вас о том же, – ответил дед.
И вот мы ждем. Капает вода из крана на кухне. Тихо капает, совсем не слышно. Но мне слышно.
Кап! Кап! Кап! Кап!
Капля бухает, как дедушкин взрыв.
Бум! Бум!! Бум!!!
И сердце сжимается от предчувствия.
Я понимаю, что ничего не будет. Он же сам просил ничего пока не говорить. Даже если родинка есть. Может быть, еще есть выход. Могу я позвать своих ребят. Кешку, Кирилла. Окружить его со всех сторон, объяснить, что так нельзя, так не бывает! Он же сам говорил, что женился снова, и жена у него Катя, и сын Сережа в институт поступил. А у дедушки никого нет, кроме нас. Бабушка ведь умерла, и он совсем один. Совсем! Неужели так трудно понять? Может же этот человек отказаться? Посмотреть на папу, увидеть родинку, сдержаться, промолчать и уехать обратно на Украину?
Капли грохают: бэмм! Бэмм! Бэмм!
Я иду на кухню, чтобы закрутить кран, и раздается звонок. Это папа. Он улыбается. Подмигивает. Напевает песенку:
Если смерти, то мгновенной,
Если раны – небольшой.
Кричит деду:
– Ну, отец, твоя песенка и ко мне прилипла.
– Иди сюда, Сергей! – говорит дедушка из комнаты. – Знакомьтесь: мой старый товарищ.
Гость поднимается с дивана, бледнеет, губы у него дрожат, я досадую на него – ведь не сдержится, скажет или закричит еще, чего доброго. Но он трясет обеими руками папину руку, долго разглядывает его глаза, как разглядывал фотографии, улыбка блуждает на его лице – мне кажется, он может упасть, я подхожу поближе, чтобы поддержать, в случае чего.
– Вот ты каким стал! – говорит он севшим, глухим голосом.
– А что? – спрашивает папа, ни о чем не подозревая. – Вы меня раньше видели?
Гость встревоженно глядит на дедушку, тот кивает:
– Видел, видел. Мальчишкой.
– А-а… – улыбается отец. – А я вас не помню.
– Разве же упомнишь, – отвечает человек в вышитой рубашке.
Мне не терпится вывести отца в кухню, сказать, чтобы показал немедленно руки. А он говорит с гостем о разных пустяках. Рассказывает про стройку.
Дедушка поднимается, готовит на стол. Я ему не помогаю. Все придвигаются к столу, стучат стульями. Настает какая-то простая минута, словно разрядка от долгого напряжения, и мне вдруг приходит идея.
– Пап! – кричу я сам не свой. – Давай на локотки! Кто – кого?
– Ну, – смеется отец, – нашел время!
– Прошу! Прошу! – умоляю я, а дедушка и гость смотрят на меня непонимающе.
– Хорошо, – отвечает отец.
Мы ставим локти на стол, беремся кистями, и я пыхчу, стараясь повалить руку отца.
– Не жульничать! – кричит он. – Не подниматься!
Я, конечно, проигрываю, в другой раз мне было бы досадно, но сейчас не до этого.
– Еще! – кричу я, и отец снова укладывает мою руку.
– Со мной-то легко! – радуюсь я. – Вот попробуй победить дедушку!
Я смотрю выразительно на деда. Он пожимает плечами. Я делаю ему большие глаза. И он догадывается! Еще бы! Дедушка мой друг. И мы всегда понимаем друг друга! Если надо – даже без слов.
– Ну что ж! – говорит он весело и загибает рукава.
Папа закатывает их тоже.
– Ну-ка, – командую я. – Раз, два, три!
Они сражаются яростно и упорно. Дед покраснел. Конечно, у него меньше сил, чем у молодого папы. Но он опрокидывает руку отца.
– Один – ноль! – кричу я и вижу, как дедушка и гость смотрят на папину руку. Там ничего нет. Никакой родинки! Чисто!
– Другой рукой! – приказываю я, и дедушка снова побеждает.
– Два – ноль! – подпрыгиваю я. – Два – ноль!
Папа – наш! Мой, дедушкин!
Седой человек
И тут мне становится грустно. И жалко.
Я называл его про себя «гость», «он», «этот человек». Я не знал, как называть иначе, потому что имя и отчество ничего не значат, когда думаешь, что, может быть, он тебе дедушка.
Я не верил, что он папин папа.
Что это может случиться – не верил, но боялся, трусил, не был уверен.
Я не верил, что он был трубачом.
Трубач был герой. А он обыкновенный.
Теперь доказано. Он не дедушка. Это просто ошибка, вот и все. Он просто гость, действительно. И я теперь согласен, пусть.
Пусть он будет трубачом. Пусть он герой на самом деле. Это ведь и заметно, не так ли? У него седая голова. Он много перенес. Да что там! Разве подходят все эти сухие выражения, чтобы сказать, какая выпала ему горькая судьба. А главное, он потерял сына, Сережу, который похож на моего отца. Что было бы, если б я потерял папу? Или дедушку? Или они потеряли меня? И мы никогда бы не встретились больше?
Мне становится стыдно, что не верил седому человеку. Он мчался на самолете, он волновался, он даже плакал, а я не хотел его понимать, даже не хотел верить.
Он сидел за столом подавленный, опустив голову. Папа и дедушка тревожно поглядывали на него, потом уложили на диван, укрыли одеялом.
Мы вышли из комнаты. Выходя, я обернулся и вздрогнул. Лицо у трубача подергивалось в каких-то судорогах.
Он то смеялся как будто. То плакал.
Мне стало жутко. Я прикрыл торопливо дверь. Он так и спал – с вечера до раннего утра. Крепко и тревожно – сразу. Утром он встал, разбитый, совсем не отдохнувший, с синими кругами возле глаз. Стал прощаться. Дед дал ему пакет.
– Здесь фотографии и письмо, – сказал он. – Все равно вы летите через Москву. Позвоните по этому телефону. Скажите, что от меня. Мой друг – генерал милиции. Он сделает экспертизу.
Гость изучающе посмотрел на деда. Ничего не сказал. Пакет взял.
Мы отправились проводить его до автобуса, который шел в аэропорт.
Возле автобуса он опустил чемодан на землю, крепко обнял деда. Сказал:
– Спасибо, добрые люди!
Влез в автобус, опустил окно. В глазах у него стояли слезы.
– Может, вы ошиблись, – ответил дедушка, – может, родинки не было. Надо до конца, понимаете! Мы с вами должны!
– Должны! – кивнул седой человек. – Должны!
Автобус зарычал, зашипел тормозами, медленно двинулся.
– Пришлю телеграмму! – крикнул он и стал махать нам рукой.
Мы махали ему в ответ. Автобус умчался уже далеко, а дедушка все держал и держал руку над головой.
Пыль от автобуса осела. На остановке было пусто. На земле валялись окурки и стаканчики из-под мороженого.
– Ответь, – сказал я деду, – зачем ты дал фотографии? Чтобы успокоить его?
Дед задумчиво разглядывал меня.
– Нет! – сказал он. – Все-таки вы счастливые!
Он помолчал:
– О войне знаете только по книжкам. И понять не можете, что такое горе.
Дедушка придвинулся ко мне, положил ладонь на плечо.
– Пусть! – сказал неожиданно. – Да, пусть! Что в этом страшного? Ничего! Напротив, это прекрасно. Зачем вам знать! Зачем мы боимся такого незнания!
Мы медленно отправились домой. И дедушка словно теперь услышал мой вопрос.
– Разве его успокоишь? – ответил он. – Ведь он человек. А человеку дана память.
Мы проходили мимо фотографии.
– Антошка! – предложил дед. – А не сфотографироваться ли нам?
Он был в генеральской форме, а я в летней рубашке с отложным воротничком.
Мы вошли в фотографию. Какой-то прилизанный человек долго смотрел на нас в забавный фотоаппарат, похожий на огромный ящик. Дедушка сел, а я встал сбоку и положил ему руку на плечо. Как на той фотографии.
– Внимание! – крикнул фотограф. – Птичка!
Мы замерли, и я едва сдержался, чтобы не расхохотаться: какая еще птичка, я же не маленький.
Я часто смотрю на эту фотографию. Она висит теперь рядом с той: молодой дед и бабушка Лида с длинной косой. Снимки и правда похожи. Только дедушка и бабушка серьезные на своей фотографии, а мы с дедом совсем наоборот. У деда глаза смеются, а я надулся, губы уже поползли – сейчас фыркну!
Телеграмма
Было ли все это?
Было ли?
Седой человек в расшитой рубашке. Автобус, уходящий вдаль. Прохладное фотоателье.
Правда это или выдумка? Мираж? Сон?
Я ли был рядом с дедом? Я ли ходил, говорил, улыбался? Я ли жил беспечно и бездумно, ни о чем, ни о чем не думая?..
Дед нервничал, пока не приехал украинец, а когда он уехал, снова забеспокоился. Опять ходил по комнате. Посвистывал. Напевал. Хватался за телефон и звонил вдруг куда-то, выясняя, как переносят муравейники. Чертыхался, потому что никто не знал.
Я его отвлекал. Задавал разные вопросы.
Он отвечал впопыхах, потом бежал докапывать землю вокруг дома, вечером ругался с папой, потому что тот обещал прислать машину с молодыми деревцами, а на самом деле все оказалось болтовней…
– Что с тобой? – спрашивал папа. – Пожалуйста, успокойся! Машина будет не сегодня завтра, у нас сейчас аврал, подгоняем план. И вообще, папа! Ты на себя не похож!
Дедушка умолкал, ночью вздыхал, просил меня накапать лекарство, а я его спрашивал:
– Почему не идешь к врачу?
А он пел шепотом в ответ:
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я смеялся, он тоже смеялся, и я засыпал безмятежно – крепко, как убитый. Мне снилась звезда, упавшая с неба. Только совсем не такая, о какой пел дед. Звезда была хвостатая, хвост струился, переливался, как вода на перекате, я хотел ее схватить и уже притрагивался, но тут же отдергивал руку, потому что звезда была раскаленная…
Утром раздался звонок.
Я побежал открыть дверь. Дед двинулся за мной.
На пороге стоял телеграммщик. Тот самый!
Он был побрит и рубашку надел свежую.
– Распишитесь, – сказал он, пряча глаза.
Дедушка расписался и протянул руку за телеграммой. Но телеграммщик не отдавал.
– Послушайте, – сказал он хрипло, – что же вы тогда не сказали, что вы генерал?
Дедушка хмыкнул. Нахмурился.
– Какое это имело значение? – спросил он. – И какое имеет?
– Имеет, – ответил телеграммщик, но вдруг смутился. Сказал: – Хотя, конечно, кто я для вас? Пьяница. Извините.
Он протянул телеграмму, но дедушка ее не брал.
– Знаете, – сказал он, – не могу о вас судить, потому что вижу всего второй раз. И не в этом дело. Не обязательно мне вас знать близко. Просто, если вы в самом деле майор, вспомните войну. Вспомните себя на войне. Не вообще на войне, а в трудный час. Каким вы были. Вспомните, это поможет.
Телеграммщик опустил руку. Покивал головой. Потом сказал:
– Сегодня последний день телеграммы ношу. Вот эта последняя. Даже, видите, переоделся, побрился, когда узнал, что к вам зайду. В общем, перехожу на стройку. Пока сварщиком. Не знаю, выйдет ли?
– Выйдет, – ответил дедушка, – все правильно.
– Ну, я побежал, – вздохнул телеграммщик. И улыбнулся: – Зашел извиниться, товарищ генерал.
– Я для вас не генерал, – ответил дедушка.
– Нет, – сказал телеграммщик, – для меня-то вы как раз генерал.
Он протянул телеграмму, дедушка взял ее и пожал телеграммщику руку. Крепко встряхнул.
Дверь захлопнулась.
Дед прислонился к стенке. Откинул голову. Шепнул:
– Антошка, лекарство! Скорее!
Я примчался мгновенно. Молнией!
Долго ли, на кухню за водой, потом в нашу комнату, пятнадцать капель – и обратно.
Когда я капал лекарство, во дворе засигналил грузовик. Я выглянул в окно. Там стоял самосвал, полный маленьких березок и елей.
– Привезли! – крикнул я дедушке. – Саженцы привезли!
Он стоял в коридоре бледный, с испариной на лбу. Выпил лекарство. Глубоко, вздохнул. Проговорил:
– Дай лопату!
– Надо полежать! – ответил я.
Дед промолчал. Развернул телеграмму, посмотрел ее, протянул мне.
«Экспертиза не подтвердила простите великодушно Савченко».
– Вот видишь, – крикнул я обрадованно. – Все в порядке!
Я был рад. Бесконечно рад. Теперь-то уж конец дедушкиным мучениям. Я весело глядел на деда, он тоже улыбнулся, подмигнул мне, взял лопату и пошел во двор.
Машина быстро разгрузилась и ушла. Я стал переодеваться, чтобы помочь деду.
И тут кто-то отчаянно закричал на дворе:
– Антошка! Антошка!
Я выглянул в окно. Соседские мальчишки махали мне рукой и орали:
– Скорее! Скорее! Дедушка!
Сердце словно оборвалось. Я кинулся сломя голову по лестнице, громко выстрелил дверью.
– Где? – кричал я отчаянно. – Где?
Дедушка лежал, уткнувшись лицом во вскопанную землю. Одной рукой он сжимал тонкий стволик березки, а другой – лопату.
– Дедуля! – шептал я. – Ну вставай, дедуля!
Я перевернул его на спину.
И увидел открытые глаза.
– А-а-а-а-а!
Я слышу до сих пор собственный крик.
Он раздается вдруг среди ночи, я вскакиваю, мокрый от пота, шепчу:
– Дедушка! Дед!
Но никто не откликается.
И я плачу. Плачу навзрыд. Плачу до хрипа, до крика!
В комнату вбегает мама, гладит меня по плечам и говорит:
– Ну, Антошка! Антошка!
Она плачет сама.
Приходит папа.
Он обнимает нас изо всех сил, до боли и говорит срывающимся голосом:
– Ребята! Ребята, будьте мужчинами!
Нет, это невозможно!
Это выше сил!
Я не могу, не могу, понимаете!
Я не могу быть мужчиной!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
На крутой горе
Мы похоронили его на горе.
На самой вершине отвесной скалы, откуда видно далеко вокруг.
И плотина прямо под ногами.
И дальняя тайга, которая скоро исчезнет, а вместо нее будет море.
И еще тайга, которая никогда не исчезнет, а будет вечно шуметь, принося на вершину запах смолы и хвои.
Когда-то я был здесь, на этой вершине. Кешкин дед, Иннокентий Евлампиевич, взял отпуск, сделал деревянную колотушку, и мы отправились шишковать. А потом вышли сюда, и я поразился. Поразился красоте. Раздолью. Близости неба.
Дедушку похоронили там.
Взрывники заложили динамит, и эхо прокатилось над далекой тайгой.
Дедушка лежал спокойный, в парадном мундире. Только без орденов. Ордена горели на красных подушечках. И все горело вокруг. Пионерские галстуки нашего отряда. Наш отрядный флаг, опущенный к гробу. Красное знамя в руках Бориса Егорова. Горела медь горнов и солнце над головой.
Эх, солнце!
Опять как тогда. Меня еще не было, и папе исполнилось три года, когда началась война, нежданно-негаданно, и солнце не спряталось тогда за тучи, будто и его застали врасплох.
И сейчас!
Сейчас тоже врасплох! Оно не знало, конечно, что дедушка умрет, не знало, как и я, а то бы спряталось, опустило покрывало черных траурных туч.
Я стою возле гроба.
Я смотрю на деда.
Руки отяжелели, и голова тоже. Весь я пустой и каменный, не живу, не дышу, только вижу.
Вижу папу, стоящего на колене у гроба. Вижу маму в черной одежде. Она положила руку отцу на плечо. Будто на той фотографии. Анна Робертовна в черном платке. Гриша ее под руку держит.
Я слышу звук.
Странный плач.
Это плачут горны.
Они сверкают на солнце, трепещут алые вымпелы на каждом из них, но горны плачут.
Ту-ру-ру-ру-у-у!..
Ту-ру-ру-ру-у-у!..
И вдруг слышится еще что-то.
Я смотрю в сторону, на стройку, и все оборачиваются туда.
Я вижу белую плотину, а в котловане и дальше, на берегу, – множество машин. Множество самосвалов.
Они стоят. Это странно. Машины никогда не стоят на стройке.
Но тут они стоят как попало, замерли и… гудят!
Гудят все вместе, тягучим, торжественным голосом, и в него, будто в оркестре, вплетаются пронзительные голоса консольных кранов.
И там, в котловане, люди, похожие на муравьев, остановились, смотрят, подняв руки к платкам и козырькам, на высокую вершину, где стоим мы.
Меня зовут Антошка, вы знаете.
Меня назвали так в честь деда, и это значит, что дедушка всегда со мной.
Мой генерал всегда рядом.
Вот он смотрит на меня со стены. Сперва – молодой, глаза сверкают озорно. Потом – старый, вместе со мной, но и на этой фотографии глаза у него улыбаются.
Он же улыбался, когда пел тысячу раз:
Если смерти, то мгновенной,
Если раны – небольшой!
Эта песня вовсе не грустная. Она даже веселая. И правда – разве это плохо? Умереть, так сразу. А если ранят – пусть рана скорей заживет!
Дед со мной. Он рядом. Он так жил, что не может умереть. Никогда!
Я просыпаюсь по ночам и больше не плачу.
Я думаю с тоской только, что больше дедушка не скажет мне строго:
«Думай!»
Не попросит мягко:
«Пошепчемся!»
Не улыбнется ласково:
«Эх, Антоха!»
Я сдерживаюсь.
Я не плачу.
Я глотаю тугой комок, подкатившийся к горлу, и складываю стихи про дедушку.
Мой генерал! Мой генерал! – зову три раза, -
Мой генерал! Ты только не молчи.
Ведь ты же знаешь, что без воинских приказов
Не могут бить тревогу трубачи…
Я придумываю эти стихи. А они не выходят.
Я тычусь головой в подушку и бью ее отчаянно кулаком.
Все равно я сочиню эти стихи. Все равно, дедушка, ты будешь живой.
Все равно! Все равно! Все равно!


МУЗЫКА
У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой ее затянет, но приглядишься посильней – вот она, тут, осталась, присмотришься еще – и время обратно пойдет, закрутится часовая стрелка против солнца все скорей и скорей…
Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю ее, когда слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не выучился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки, выучился… да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаивать справедливое дело.
* * *
Началось все это как-то случайно, и никак я не мог подумать, что в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая-то там история.
Итак, это было где-то вскоре после войны. Когда я, вернувшись из школы, ел жидкий супчик с перловыми крупицами на дне, позвякивая ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели на мою макушку, жалея меня за выпирающие из спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:
– Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идет в музыкальную школу. Давай и Колю запишем!
Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не отрывая взгляда от крупинок перловки на дне. Это меня и погубило.
Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза, и был наказан.
А бабушка и мама оживленно говорили надо мной, обсуждая новую проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только раз, когда бабушка вдруг зажужжала.
Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв глаза и отведя в сторону левую руку, держит в другой руке вилку и жужжит – то громче, то тише. Лицо ее выражало высшее блаженство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку, видимо, скрипки.
Мама сидела напротив бабушки, облокотившись о стол, глядя куда-то вдаль, и лицо ее было задумчиво.
Я смотрел на них, и незаметно ложка упала у меня из рук, произведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фонтанчиком.
Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась. Засмеялась и мама, и они долго хохотали, вытирая слезы и гладя меня по макушке.
Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка чаще прислушивалась теперь, когда по радио что-нибудь играли и, бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей, а на лице ее было отсутствующее выражение.
Я по-прежнему жил своей мелкой частной жизнью заурядного четвероклассника и все еще не мог осознать назревающей угрозы.
Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп, мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется французской, над моей головой произошел еще один разговор на музыкальную тему.
– Ты знаешь, – сказала бабушка маме, – я была у Правдиных. Они скрипку не рекомендуют. Очень действует на нервную систему.
– А как же? – растерянно спросила мама. – Можно было бы мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.
– Да, – сказала бабушка, – но большой размер, взрослые. Для детей нужно поменьше. А купишь маленькую – вырастет, новую надо. Не наберешься…
Они вздохнули.
– А фортепьяно, – сказала бабушка, – легче. Можно с кем-нибудь договориться, к кому-нибудь ходить на игру. И на нервы меньше действует… А то тут эти, как их, пиццикато. Одной рукой все дрожать надо…
Теперь засмеялся я. Я представил себя в черном фраке и с галстучком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка, желтая, как сливочное масло. Лизни – вкусное. А я не лижу, стою на сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипывую музыку! А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший – Юрка-рыжий и губы от зависти облизывает.
Ох, этот Юрка!
Трудно, в общем, невозможно установить, почему сложились у нас тогда такие отношения, но Юрка преследовал меня буквально по пятам.
В первом классе мы учились вместе, и по переменкам от нечего делать, а может быть, от холода, который стоял в классе, мы становились возле стенки и толкались. Кто кого отошьет от стенки. Юрка был посильней, во всяком случае, мне это так казалось, и всегда всех отшивал от стенки, а меня проще других. Отшивая, он нахально смеялся, и это действовало на меня особенно. Впрочем, всякая очень уж сильная уверенность человека в самом себе, самоуверенность, словом, до сих пор приводит меня в некое смятение и вызывает ответную неуверенность. Не по себе мне как-то становится…
Так вот, Юрка отпихивал всех от стены, мы орали, но уступали ему – и морально и физически. Потом Юрка перешел почему-то в другую школу и на некоторое время исчез с горизонта. Но только на время.
* * *
Между тем музыкальные события развивались, и в один прекрасный вечер, совершив необычайный поступок в своей практике – велев отложить уроки «на потом», – бабушка взяла меня за руку и повела в музыкальную школу.
Идти с ней за руку мне было стыдно, но такая уж существовала у бабушки традиция – водить меня по улице, как детсадовца, – и я шел, озираясь по сторонам, чтобы в решающую минуту, когда из-за угла появится какая-нибудь знакомая личность, вдруг зачихать и полезть в карман за платком или просто напрячь силы и посильней рвануть руку, дабы доказать свою хотя и относительную, но все-таки независимость.
А тут произошло все как-то неуловимо. То ли я зазевался, то ли он просто вылез из-под земли, но в тот самый миг, когда я мирно тащился на бабушкином буксире, передо мной появился Юрка-рыжий…
Я мгновенно освободился от контактов с бабушкой, но это было ни к чему, потому что Юрка уже видел, как меня в четвертом классе водят за руку. Наверное, у меня здорово покраснели уши. Юрка-рыжий уловил мое состояние и, как бандит на безоружного человека, напал на меня.
– Ну, ты! – сказал он и пошел за мной следом. – Ну, ты! – повторил он, нахально улыбаясь, и чуть стукнул по одной моей ноге так, что я зацепился ею за вторую ногу и едва не упал.
Видно, тут-то и была моя главная ошибка. Наберись я тогда храбрости, остановись на мгновение и ткни хотя бы легонько этого Юрку куда-нибудь в грудь, он бы, наверное, отвязался от меня, и весь конфликт был бы исчерпан. Но я не остановился, не ткнул Юрку, даже ничего не сказал ему, а прибавил шагу, даже чуть побежал, догнал бабушку и – о слабость! – сам взял ее за руку, как бы страхуясь от Юркиного нападения.
Юрка-рыжий сухо хохотнул, увеличил дистанцию и пошел за нами, время от времени покрикивая:
– Ну, ты!..
* * *
Музыкальная школа размещалась, где-то в глубинах драматического театра, под самой крышей, и пока мы добирались до нее, я подумал, что театр походит на огромного слона, а мы идем внутри у него, по бесконечным и узким, словно кишки, коридорам. Впечатление это подтвердилось, когда мы нашли все-таки эту музыкальную школу. Она оказалась обыкновенным коридором, перегороженным крашеной фанерой. В этом аппендиксе было полно народу, главным образом взрослые, хотя школа называлась детской. Приглядевшись, я увидел, что взрослые не одни, а все с ребятами или девчонками, и все ведут себя так, будто чего-то ждут.
Бабушка нашла местечко, мы устроились, я начал разглядывать коридор повнимательнее и вдруг почувствовал, как снова, второй уже раз сегодня, краснеют мои уши.
В другом углу, положив ладошки на колени, с белым бантом, который был больше ее головы, сидела наша классная тихоня Нинка Правдина, сидела выпрямившись, словно на уроке, серьезная до невозможности, и смотрела на меня, преисполненная чувства собственного достоинства. Даже кнопочный нос с редкими веснушками у нее кверху задирался.
В краску меня бросило сразу от многих обстоятельств. Во-первых, потому, что вся эта история с музыкой казалась мне ненужной и даже постыдной в глазах серьезных людей, и в мои планы вовсе не входило, чтобы кто-то видел меня тут.
Во-вторых, потому, что Нинка Правдина в ту пору казалась мне непревзойденной красавицей, чему не мешали даже ее веснушки. Кроме того, она держалась в школе особняком, даже с девчонками не водилась, а потому казалась мне какой-то необыкновенной… Во всяком случае, к ее ответам на уроках, за которые ей всегда ставили пятерки, я внимательно прислушивался, а ее неофициальных высказываний на переменках, равно как и взглядов, пронизывающих до пяток, просто-напросто остерегался.
Ну, а в-третьих, от чего меня бросило в жар, была ее мамаша, которую я как-то видел в школе и которая теперь улыбалась мне и кивала так, будто мы с ней какие-нибудь родственники, и смотрела на меня так поощрительно, будто я уже не просто Колька, а какой-нибудь заслуженный артист республики.
Меня этот взгляд добил окончательно, но в эту минуту рядом кашлянула бабушка, кокетливо поправила гребенку в седых волосах, и, поднявшись, пошла к Нинкиной маме.
Нинкина мама поднялась навстречу бабушке, они заворковали сразу о чем-то, наверное, о своих пиццикатах, присели, а Нинка прямо бабочкой вокруг них кружилась, так и вертелась вся. Бабушка, улыбаясь, поглядывала на нее, гладила ее по волосам, потом посмотрела на меня и сказала Нинке что-то, наверное, сказала, чтобы она пошла ко мне. Я подумал про себя, что уж это дудки, что уж Нинка ко мне не пойдет, очень ей надо, но, странное дело, она, ни чуточки не стесняясь, – а ведь народу в коридоре было порядочно – подошла ко мне, и хоть бы хны!.. Уселась рядышком. Словно мы с ней давнишние дружки.
От Нинки несло каким-то благоуханием, бант у нее прямо светился белым сиянием, щеки горели, как фонарики, черные глаза блестели. Нинка чувствовала себя как рыба в воде, будто она тут всю жизнь, в этом коридоре, пасется. Она поглядывала на меня дружелюбно, а я не знал, куда от стыда деться: народ в коридоре скучал, и все прямо таращились на нас, особенно мальчишки. «Во, – скажут, – девчатник нашелся! Девчатник музыкальный!»
Нинка же ничего не замечала вокруг – надо же, я ее такой простой, такой ненадменной первый раз видел! – и говорила со мной о всяких пустяках там, о том, какой в сорок девятом примере по арифметике ответ у меня, и всякое такое.
Она заглядывала мне в глаза, слушала мое бурканье с большим вниманием, все время кивала головой с невиданным бантом, и мне казалось, что и правда это не бант, а огромная белая бабочка.
– А ты не боишься? – спросила меня Нинка и посмотрела с участием.
– Чего? – буркнул я.
– Экзамена.
А я даже и не знал, что какой-то там экзамен будет. Я и не готовился.
– Ну, не бойся! – сказала Нинка. – Это ерунда! Простецкое упражнение. Нужно повторить, что тебе там выстучат. Слух проверяют.
Слух проверяют… Я даже и не думал, что слух еще как-то проверяют. Я же не глухой, чего тут проверять? Но тем не менее что-то мне такое предстояло. Я заволновался еще больше, заерзал на стуле, видно, уши у меня покраснели пуще прежнего, и Нинка, заметив мое волнение, совсем прямо обалдела – взяла меня за руку, пожала ее и сказала:
– Не бойся!
* * *
Мне казалось, – да что казалось, это было точно, – пока Нинка сидела со мной и крутила своим бантиком, все часы остановились. И люди вокруг ничего не делали – только таращились на нас.
И вдруг хлопнула дверь, все повернули головы: из-за двери вышел какой-то мальчишка, а вместо него туда впорхнул белый бант. Я даже не заметил, как Нинка проскочила мимо меня.