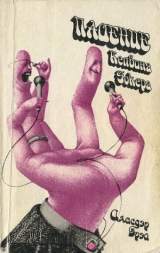
Текст книги "Падение Келвина Уокера"
Автор книги: Аласдэр Грэй
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
– Свадебный букет.
Она сказала:
– Келвину сегодня надо быть в Би-би-си. Давай выпьем.
Она налила большой фужер виски, прошла к кожаному креслу, в котором он расположился, взяла и понюхала цветы.
– Прелесть. Спасибо.
– Работаю. Могу себе позволить.
– Противно?
– Работать, что ли? Нет, мне нравится. Первую пару недель мне любая работа нравится. Вот когда привыкну – тогда другое дело.
Он опустил глаза и сказал:
– Джил… надеюсь, ты будешь с ним очень счастлива.
Она вспыхнула. Затаив дыхание, она сказала:
– Ты серьезно, Джек?
Он кивнул.
– Значит, ты меня еще любишь?
– Поздно об этом говорить.
Она отвернулась, скрывая радость, и с деланным безразличием сказала:
– Я не выйду за него, Джек.
Тот не поверил ушам.
– Почему?
– Я его боюсь.
– Как это?
– Ты не задумывался над тем, что я была первой девушкой, с которой он заговорил в Лондоне, а эта квартира – его первым пристанищем? Я допускаю, что на моем месте могла быть любая другая, и в квартиру он бы въехал – тоже в первую попавшуюся.
– Да чушь это, Джил. Это сумасшедшим надо быть.
– В том-то и дело! Он как-то неправильно все воспринимает. Когда он носился с Ницше – это были еще цветочки: сейчас он прибился к богу, и это гораздо хуже. Мне кажется, в нем нет ничего человеческого.
– А в ком это есть? И во мне нет.
– Келвин считает себя идеальным, и это… дает ему страшную силу. Тебе есть куда меня деть?
– Есть, только не бросишь же ты его вот так, сразу!
– Понимаешь, – сказала Джил, – я не знала, что способна на это, пока не открыла тебе дверь. Я даже не представляла, до какой степени ненавижу его, пока не открыла тебе дверь. А сейчас мне это ясно.
В течение получаса Джек – как и большинство людей, когда они совершенно уверены, что получат свое, – отдавался жертвенному порыву и защищал Келвина. Постепенно он склонился на сторону Джил, настояв, впрочем, на одном: нельзя просто уйти из дома, надо попрощаться с человеком. В конечном счете она сказала:
– Ладно. Он звал меня сегодня в студию на свой идиотский балаган. Если ты пойдешь со мной, я ему после и скажу. А пока нужно собраться. За нами пришлют машину. Мы попросим шофера сделать крюк и забросим к тебе мои вещи.
Она распахнула шкаф, выдвинула ящики и принялась куда попало сваливать платья, костюмы, брюки и нижнее белье.
– Порядочно он тебе накупил, – сказал Джек, немного оторопевший от ее деловитой собранности.
– В этом отношении он молодец, – сказала Джил.
– Тебе не кажется, что надо кое-что оставить?
– Конечно, нет, я это все заработала, ведя хозяйство и грея ему постель. Тебе, кстати, ничего не нужно? Может быть, простыни, полотенца?
«Обратную связь» диктор представлял так:
– Телевизионная программа о творцах телевидения, в которой известные личности выходят из-за кулис и держат ответ перед публикой в лице некоторых ее представителей.
Публику представляли всякий раз другие лица, подобранные применительно к личности, держащей ответ. Комедийных актеров допрашивали с беззлобной подковыркой, певцам навязывали душещипательные разговоры, продюсеров изводили коварной вежливостью. Ни у кого не вызывало сомнений, что такой язвительный собеседник, как Келвин Уокер, будет допрошен самым язвительным образом, и при этом почти никто не сомневался в том, что любого собеседника он вгонит в гроб. Программа имела одну особенность, чреватую сюрпризами. Имена некоторых участников заранее не назывались, герой вечера узнавал о них, когда программа уже шла в эфир, и был случай, когда на радость зрителям и к большому недоумению Хиллбилли Хендерсона к нему обратился с вопросами архиепископ Кентерберийский, оказавшийся потом его большим поклонником. Театральность обстановки усугубляли теряющийся в полумраке маленький студийный амфитеатр и ярко высвеченные три стула на его арене. Под аплодисменты, усиленные фонограммой, на один из них опустился Келвин. Он попытался высмотреть Джил – и не смог. Ближайший ряд представлял собой гряду тесно сдвинутых силуэтов, а те, что выше, сливались с красными и зелеными массами собственной тени на полукругом составленных ширмах.
Гектор Маккеллар сел против него, выждал, когда станет тихо, и сказал:
– Добрый вечер. Заметным событием последних недель стало общественное признание Келвина Уокера, отчасти благодаря его выступлениям в широкой прессе, но главным образом – в качестве неординарного телеведущего. Сегодня к нам в студию пришли родители, учителя, психиатры, священники, все они встревожены проповедями Келвина, и я призываю всех участников нашей непринужденной беседы, вооружившись критическим хлыстом, недвусмысленно выразить свое отношение к этим проповедям. Я начну с себя и попрошу Келвина признать тот факт, что его убеждения от начала до конца реакционны.
Келвин улыбнулся и сказал:
– Нет.
– Вы не признаете этого?
– Ни в коем случае. Говоря «реакционный», вы имеете в виду – «старого закала», и я только рад быть таковым. Я отказываюсь понимать, почему викторианская архитектура и художественный стиль входят в моду, а викторианской морали люди стыдятся.
– И справедливо делают. Это была суровая, карающая мораль.
– Мораль, отказывающаяся повесить убийцу и выпороть мошенника, не заслуживает называться моралью.
– Неужели вы в самом деле верите в то, что телесные наказания могут исправить преступника?
– Конечно, не верю. Мы не с тем наказываем, чтобы они исправились – это едва ли возможно, – а для того, чтобы укрепить праведных. Жестокое наказание помогает провести грань между добродетелью и пороком. Отказавшись от него, мы стали воспринимать одинаково и хороших, и дурных, и они в свою очередь перестают знать свое место. Злые упрекают добрых в плохом обращении, добрые бьют себя в грудь и каются. Верните розгу, и вы всем возвратите чувство собственного достоинства.
– Не хотите ли вы сказать, что сами преступники одобряют суровые наказания?
– Именно это я хочу сказать, – сказал Келвин. – Когда вор крадет что-нибудь, он, безусловно, сознает себя выше и умнее прочих. Если вы поймаете его и будете обращаться с ним как с больным человеком, вы лишите его уважения к себе.
– На воспитание детей это правило тоже распространяется?
– Конечно! Если детей не наказывать, они не оценят любви. Мой отец… – он запнулся, и впервые тень сомнения скользнула по его лицу.
– Ваш отец?.. – мягко подсказал Маккеллар.
– Мой отец был, вернее, и сейчас он такой, словом, мой отец – человек суровый. Мальчиком я его боялся, а сейчас с благодарностью думаю об этом.
Гектор Маккеллар поднял палец. Он сказал:
– Я предполагал подключить вашего батюшку чуть позже, но, похоже, сейчас самое время. Вы не подойдете к нам, мистер Уокер?
В первом ряду из массы отделился непроницаемо темный силуэт и ступил в залитый светом круг. Это был ладно сбитый невысокий человек в черной фетровой шляпе, в черных же пальто, брюках, жилетке и ботинках, в галстуке-шотландке под целлулоидовым воротничком. В руке, как некий знак власти, он сжимал огромный зонт. Даже не взглянув на сына, он сел в свободное кресло, сложил кисти рук на ручке зонта, поставленного между ног, оперся на руки подбородком и устремил на Маккеллара тяжелый взгляд. Впрочем, сильнее необычного вида впечатляло действие, которое он произвел на Келвина: объятое ужасом лицо, ерзанье в кресле – так вертится малыш, стремясь привлечь к себе внимание и одновременно страшась этого. Он сказал слабым голосом:
– Отец.
– Добрый вечер, мистер Уокер, – сказал Гектор Маккеллар.
– Отец! – позвал Келвин.
– Мистер Уокер, – сказал Маккеллар, – вы слышали, какого высокого мнения о вас держится ваш сын. А что вы о нем скажете?
– Он лицемер, – сказал мистер Уокер суровым, ровным голосом непреклонно ожесточившегося человека.
Келвин поднял правую руку, призывно трепеща пальцами, и несмело сказал:
– Рад тебя видеть, отец.
Но только камеры глядели на него. Маккеллар сказал:
– Почему же лицемер?
Мистер Уокер горько улыбнулся:
– Потому что я сам видел, как он преклонял колена и голову в семейном собрании и словно бы творил молитву, а между тем ничего не было в его сердце, только пустота и черный ропот. Я молчал, не видел проку в словах, но если был когда отпавший от Господа и его путей, то этот человек – Келвин Уокер.
– Отец, я переменился, – сказал Келвин.
– Что же вы предпринимали, мистер Уокер?
– Понятно, делал все, что мог. Не дал ему получить образование, которое испортило бы его вконец, держал подле себя. На карманные расходы давал один шиллинг в неделю, чтоб даже дороги не знал в кино и бильярдные, в кабаки и притоны, куда его, безбожника, наверняка занесло бы. Однако он таки исхитрился обойти мое попечение, наладился ходить в публичную библиотеку и поглощал там бог весть какую пагубную дрянь. И однажды – мне стыдно сказать, при каких обстоятельствах, – он, никому не сказавшись, сбежал из дома. Потом от него не было ни слуху ни духу, как вдруг один покупатель поздравляет меня с тем, что моего сына показывают по телевизору. Ничего путного я от него и не ждал.
– Отец, – сказал Келвин.
– Мистер Уокер, а почему вас не устраивает, что Келвина показывают по телевизору?
– Верно ли я понимаю, что он через это может стать известным на всю страну человеком?
– Весьма похоже на это.
– Властью, мистер Маккеллар, правильно распоряжаются только люди, имеющие веру. Поймите, я не фанатик, их вера не должна быть та же, что у меня. Люди верят в разное: провести закон или отменить его, побороть противника или заполучить союзника, скопить деньги или истратить их, и, пока они верят во что-то внешнее, они вредят миру, но не слишком.
Старик подпустил в голос яду и впервые поднял глаза на Келвина.
– Мой сын ни во что не верит, – вскричал он, – только в свое хотение. Он пустая скорлупа, распираемая самомнением и от духа люциферовой гордыни носимая по свету.
– Отец, я же переменился! – возопил Келвин. – Я не грешник больше!
Он забыл думать про эти камеры, забыл про публику и про все на свете. Он жадно тянулся к той единственной силе, которой всегда страшился, и он был уверен, что сделает ее своим союзником, если найдет правильные слова.
А эта сила вдруг по-свойски злорадно сказала:
– Как насчет сорока фунтов, что ты у меня украл?
– Я верну, отец, я могу вернуть их хоть сейчас! – крикнул Келвин, шаря за пазухой.
– А драгоценности? Жалкие безделушки, которыми дорожили твоя мать и я – в память о ней?
– У меня закладные! – сказал Келвин, доставая бумажник. – Я в любое время их выкуплю! В любое время! Я забегался и забыл!
– Поверите ли, мистер Маккеллар, – в тоне беседы сказал мистер Уокер, – я в жизни не переступал порог ломбарда. В молодости я бедствовал. Родители мои были бедняки. Однако же они внушили мне избегать ломбардов так же, как борделей. Зато сын мой, сытый и одетый, имея крышу над головой и чистую постель, без зазрения совести несет к ростовщику жалкие безделушки своей покойницы матери, чтобы получить… сколько они тебе за них дали?
– Мне любой ценой нужны были деньги, – рыдающе выкрикнул Келвин, – мать не стала бы возражать. Уж наверное, она меня любила.
– Это я тебя люблю, Келвин! – страшно взревел мистер Уокер, и все трое звукооператоров сорвали с себя наушники. – Зачем, спрашивается, я гублю тебя сейчас?
Поскольку вопрос его остался без ответа, он уже спокойнее продолжал:
– Чтобы ты сам себя не погубил. Приказчик в галантерейной лавке – это твой потолок. Когда научишься смирению перед Господом, можешь поискать для себя что-нибудь другое, но никак не раньше этого.
С каким-то захлебнувшимся стоном Келвин плотно зажмурил глаза, сжал губы, обхватил голову руками, закрыв уши, подтянул к подбородку колени и весь подобрался до сходства с яйцом, насколько это возможно при угловатом сложении. На какое-то мгновение Гектор Маккеллар испугался, как бы оно не скатилось с кресла, это яйцо, но, тронув его рукой, ощутил напрягшиеся мышцы и убедился в его устойчивости. Публика растревоженно загудела. Этот захватывающий спектакль, без сомнения, стал коробить ее. Пора кончать. Маккеллар поднялся и сказал:
– Мы испытываем громадное потрясение. Как выяснилось, Келвин Уокер подобно многим даже более известным особам возглашает принципы, до которых сам еще не дорос, но, думается, я выражу общую мысль, если скажу, что, утратив наше уважение, он, безусловно, обретает наше сочувствие.
– Сволочь! – взвизгнул в публике женский голос. Это была Джил.
Маккеллар кивнул и еле заметно пожал плечами. Всякое хорошо организованное общество, полагал он, держится на таких, как он, сволочах. Он сказал:
– Я приношу извинения, что программа завершается на пятьдесят минут раньше намеченного. Уверен, что творческая группа проявила обычную оперативность и в оставшееся время побалует нас легкой музыкой. Впрочем, в 11.20, в передаче «После полуночи», за новостями последует обсуждение сегодняшней «Обратной связи». Всего вам доброго, леди и джентльмены.
Исход
Келвин сжался в комок по двум причинам: чтобы не разоблачаться догола перед публикой в зале и миллионами прильнувших к телеэкранам и чтобы не дать разъедающему отцовскому презрению проникнуть в святая святых его подлинности. Он слышал, как расходилась публика. Слышал, как Гектор Маккеллар тревожился, не нужно ли вызвать врача. Слышал, как отец говорил: «Ничего страшного – он всегда такой после взбучки, минут через десять оправится». Слышал, как Джил сказала: «Мы его друзья, как ему помочь?» – а Маккеллар уже издалека удивленно отозвался: «У него есть друзья?»
Легкая рука коснулась его головы, и Джил сказала:
– Ах, Келвин, Келвин.
Отец сказал:
– Жалость ему плохая помощь.
Чуть погодя Келвин сказал:
– Сколько их осталось, пап?
– Всего двое. Выбирайся, сынок.
Он сказал это с той грубоватой лаской, на которую не скупился после порки. И Келвин разжался.
Он опустил ноги на пол, облокотился на колено и, покусывая сустав большого пальца, стал лихорадочно соображать. Отец еще сидел в соседнем кресле. Тут же стояли Джек и Джил, а все огромное помещение опустело и освещалось ровно и буднично. Мистер Уокер поднялся и сказал:
– Ну, ты готов ехать домой?
Келвин безропотно встал. Джил вскрикнула:
– Неужели ты с ним поедешь, Келвин?
Джек сказал:
– Послушай, Келвин, ничего необычного сегодня не произошло. Эти гады дали работу, потому что ты им подходил, а когда узнали, что работаешь на себя, прижали тебя к ногтю – в Британии это обычное дело. Не хандри, приятель. Найдешь себе другую работу.
Джил сказала:
– Правда, оставайся здесь. Оставайся с нами. Какой смысл в этих глупых выступлениях по телевизору? Только свобода имеет смысл. Какую жизнь ты увидишь с этим вредным стариканом?
Мистер Уокер ядовито усмехнулся. Келвин перевел взгляд с Джил на Джека, потом опять на Джил. Ясно, они уже спелись. Он убежденно сказал ей:
– Ты меня не любишь.
Она шепнула:
– Прости.
Он сказал:
– Пожалуйста, уходи. Ты больше не нужна. Уходи. С ним уходи! Мне без тебя хватает забот.
Она подняла на него глаза и заплакала, обиженная в лучших своих чувствах – в желании помочь, но Джек уже обнял ее за плечи. Он негромко сказал:
– До свидания, Келвин, – и увел ее.
Келвин, однако, не собирался покорно плестись за отцом к служебному выходу. Он расхаживал взад и вперед, щелкая пальцами и бормоча себе под нос:
– Зачем он это сделал? Я буду счастливейшим человеком, если пойму его замысел.
– Он хотел удалить тебя с общественного поприща, – в некотором замешательстве сказал мистер Уокер.
Той детской напуганности в парне не осталось и следа. Келвин холодно взглянул на него и сказал:
– Кого ты имеешь в виду?
– Твоего хозяина.
– Которого?
– Гектора Маккеллара, конечно.
– Я имел в виду Бога.
Мистер Уокер не поверил своим ушам. Он сказал:
– Келвин! Надо ли это понимать так, что ты наконец… веруешь в него?
– Разве ты не читал в газетах мои высказывания?
– Читал! И они были бы очень мне по вкусу, не угляди я в них лицемерие без стыда и совести.
– Ты ошибался, отец. Уже в моем первом успехе Господь явил свою милость. С тех пор моя вера не поколебалась ни разу. Иначе я бы ничего не добился. Без веры я был бы медью звенящей, или кимвалом звучащим[14]14
Из Первого послания к Коринфянам (13:1).
[Закрыть].
– Без любви.
– Не понимаю, о чем ты.
– Апостол сказал: без любви мы гроша медного не стоим.
Келвин замотал головой:
– Я убежден, что это неверный перевод. Вера движет горами, а много ли пользы в любви?
– Келвин, – потрясенно молвил мистер Уокер, – я тоже об этом задумывался!
Сын взглянул на него и сказал:
– Пойдем ко мне.
Джил забрала только свои вещи и кое-какую хозяйственную мелочь, Келвину не особо нужную, так что квартиру он застал такой же, какой ее оставил. На мистера Уокера она произвела глубокое впечатление. Он расхаживал по комнатам, щупая обшивку мебели, трогая безделушки и заглядывая в ящики. Его сын сидел на диване и, вздыхая, размышлял о непостижимых путях господних. Мистер Уокер набрел на холодильник и плиту и приготовил поесть. Разливая чай, он сказал:
– Ты все это приобрел в рассрочку?
– Нет, из ссуды.
– Правильно. Так гораздо дешевле. Когда я решил приложить руку к твоему публичному изничтожению, я думал, ты прямиком направляешься в пекло. Выходит, поторопился.
– Отец, ты рассуждаешь как малое дитя! – вскричал Келвин. – Это не ты решил меня уничтожить – решили за тебя! Уж ты-то – старейшина! – должен сознавать, что все происходит по господнему плану. Весь мир действует по этому плану. И время от времени объявляется кто-то один, кому этот план ясен как божий день. Несколько недель я был самым мощным бульдозером на господней стройке, против меня никто не мог устоять. И, уж конечно, предвечный замысел не располагал загнать эту превосходную машину, – он стукнул себя в грудь, – в самую грязь!
– Келвин, – сказал отец, – а вдруг ты понадобился Господу в Шотландии?
– В Шотландии?
– Да, в нашем захолустье, – сказал мистер Уокер. – В нашем жалком, презренном захолустье. Однако четыре сотни лет назад мы осознали себя избранным народом. У нас тогда был лидер[15]15
Имеется в виду Джон Нокс (см. прим. № 6).
[Закрыть].
Келвин повторил в раздумье:
– Избранный народ… – и потеребил нижнюю губу. Потом сказал: – А что у меня в активе, отец?
– У тебя в активе… – задумался мистер Уокер. – Что ж, с прессой ты не рассорился, а время нынче такое испорченное, что, пожалуй, тебя еще охотнее станут читать после сегодняшнего лицедейства. Би-би-си хочет от тебя отделаться, но, раз ты не нарушил контракта, они будут вынуждены расплатиться с тобой по-царски. Кстати: из-за дурной славы тебе не заказана дорожка в другие телевизионные компании, если только ты займешь правильную позицию.
– Какую же?
– Раскаяние.
– Само собой. Я раскаюсь с открытым сердцем. Сколько хороших карьер начиналось с раннего раскаяния. Джон Нокс был в свое время католическим патером, святой Павел – язычником-греком, а Моисей – египетским вельможей. Они сначала угнетали и унижали свой собственный народ, а потом раскаялись. Публично раскаялись. Слушай, если я вернусь, как меня примут в Шотландии?
Мистер Уокер сказал:
– Мне кажется, тебя примут радушно. Ты стал известным человеком, хотя и остался в дураках. Ради первого твои земляки простят тебе второе.
– И наоборот?
– И наоборот.
– Отец, – сказал Келвин, – я снова это чувствую. Все ясно как божий день.
– План?
– План. Я должен вернуться в Глейк и взяться за дело.
– А почему в Глейк?
– А почему нет? Он же в самом центре, хочешь – в нефтяной Абердин подайся, хочешь – в денежный Эдинбург, а хочешь – в Глазго с его телевидением. Может, даже духовный сан приму. А может, не приму. Будет мешать, когда займусь католическим вопросом. Не исключено также, что в будущем мы самоопределимся, отделив Шотландию от Британских островов.
– Географически? – встревоженно спросил отец.
Келвин от души рассмеялся:
– Нет, политически. Не беспокойся, отец, я не утратил чувство реальности.
– Тогда осталось снять только один вопрос, – сказал мистер Уокер и предостерегающе поднял палец. – Я имею в виду девицу, которую ты отвадил в Би-би-си. Ты ей что-то сказал про любовь. Я ничего не знаю, хотя подозреваю самое худшее. Тебе не будет от меня никакой поддержки, если ты еще раз вступишь в незаконную связь.
– Я достаточно изведал непостоянство женского сердца, – хмуро сказал Келвин, – и плотски познаю теперь только ту, с которой буду связан законными узами.
Итак, они вернулись в Шотландию.
Спад
С помощью отца он кончил вечернюю школу, поработал независимым журналистом, по примеру братьев определился в университет и, проучившись в нем, стал доктором богословия. Он был посвящен в духовный сан и сначала служил в Глейке, потом в Глазго, потом перевелся в Эдинбург. Убийственные проповеди на радио и телевидении привлекли к нему внимание широких слоев. Сегодня он как бы официальный выразитель всех сдерживающих сил в шотландской религии и общественном мнении. За предсказуемость реакции на любую тему его любят и ценят публика, пресса и даже оппоненты. Поддерживая дружеские отношения с лидерами большинства шотландских политических партий, сам он ни в какой не состоит, хотя обязательно входит в чрезвычайно важные общественные комитеты, где служит противовесом не очень радикальным социалистам. И он такой хороший противовес, что эти важные общественные комитеты ни до чего практически не договариваются, и, поскольку для этого именно они и созданы, все кругом довольны. В конце семидесятых годов вдруг показалось, что он готов поддержать своим авторитетом отделение Шотландии от Британских островов, однако по зрелом размышлении оставил все как есть. Теперь это далеко не тот нелепый, располагающий к себе, демонический молодой человек с невероятной пробивной силой, который в шестидесятые годы замышлял покорить весь мир с его деяниями, – теперь он выдержаннее и спокойнее. В сорок лет он стал председателем 293-й Генеральной ассамблеи сепаратистов свободных пресвитериан шотландской церкви и женился на девушке вдвое его моложе, родившей ему шестерых детей. Эти дети не очень счастливы.
Джек и Джил не поженились и не расстались. Джек скоро бросил работать кондуктором автобуса, стал преподавать в лондонской художественной школе и полюбил это занятие: он хороший педагог, хотя и плохой художник. Время от времени он бывает неверен Джил, поскольку воспитание не позволяет ему грубо пресекать попытки соблазнить его, хотя он больше не колотит и вообще не обижает ее, как бы она себя ни вела. В их квартире на Лэдброк-гроув Джил перестала сосать большой палец, полюбила стряпать и растолстела, поскольку из-за собственной лени осталась чужда идеям эмансипации женщины. На пороге сорокалетия у них – почти случайно (хотя и не совсем) – родился ребенок, потом они усыновили другого, совершенно случайно родившегося у их приятельницы.
Эти дети часто бывают счастливы.
Им это легче дается.
Они англичане.






![Книга [Про]зрение автора Жозе Сарамаго](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-prozrenie-173514.jpg)
