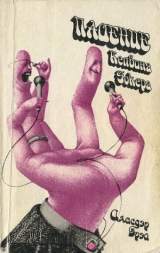
Текст книги "Падение Келвина Уокера"
Автор книги: Аласдэр Грэй
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Двадцать лет спустя


Шотландский писатель Аласдэр Грэй (род. в 1934 г.) – человек разносторонних дарований. Профессиональный художник, Грэй работал учителем рисования в школе, был сценографом, художником-архивариусом в краеведческом музее, три года (с 1977 г.) в качестве писателя преподавал литературу в университете Глазго (writer-in-residence). К тому времени на его счету было несколько пьес (в том числе для радио и телевидения), документальные сценарии и сборник рассказов «Комедия белой собаки» (1979). С начала 80-х годов Грэй целиком посвятил себя литературе и живописи.
Наиболее полное представление о Грэе-рассказчике дает его сборник «Главным образом, неправдоподобные истории» (1983). Грэй – большой любитель литературной мистификации. Вот апокрифический дневник шотландского полиглота и математика XVII в. Томаса Уркхарта, оставшегося в литературе своим переводом Рабле. Рассказ назван так же, как одно из головоломнейших сочинений легендарного шотландца, изобретавшего универсальный язык, – «Логопандект». Соответственно и внешний вид этой прозы архаизирован «под барокко»: меняются шрифты, на полях выставлен указующий перст к важным мыслям. Некоторые страницы рукописи отсутствуют нам объясняют: «съедена мышью»… А вот отменная стилизация в духе Марко Поло – пять писем китайского поэта-трагика Бо Ху (фигура вымышленная), состоящего при императоре, «который сжег все ненужные книги и выстроил великую стену, дабы оградиться от ненужных людей».
Грэю не чуждо мифотворчество: в новелле «Прометей» придуманный им современный французский поэт из авангардистов (без пяти минут Нобелевский лауреат, обласканный вниманием самого К. Леви-Стросса) «исправляет» Эсхила, вынашивая замысел «Освобожденного Прометея» (похоже, он не ведает о существовании драмы П. Б. Шелли).
Литературные розыгрыши остроумного шотландца исполнены серьезных намерений: писатель стремится сразу, без околичностей, рука об руку с признанным авторитетом выйти к большой проблематике. Он крупно и выпукло обозначает извечное противостояние таланта и деспотической власти или рутинного окружения, духовной свободы и регламентированного существования. Свежи и привлекательны его рассказы на современные темы с их точно отобранными деталями (помогает глаз художника), с их сочным, «уличным» языком (сказывается опыт драматурга). Проза Грэя тяготеет к притчевости, озорно обыгрывает сказочные мотивы, не брезгует анекдотом в несколько строк. Особое обаяние придают его рассказам иллюстрации, выполненные, разумеется, самим автором.
К романам Грэй пришел уже в зрелом возрасте. В «Ланарке» (1981) герой-рассказчик, изведав трудное детство в нелюбимой семье и горькую юность в нелюбимом Глазго, после смерти, смахивающей на самоубийство, обретает загробную жизнь. Но отнюдь не в вознаграждение дается она ему: земные досады достают его и здесь – и добавляются еще новые. Реальный и потусторонний миры с почти натуралистической беспощадностью воссоздают безрадостный, давящий образ современного города (послевоенный Глазго), где неприкаянно мыкается живая душа.
Грэй и здесь призвал себе на подмогу литературный авторитет: первые книги романа ориентированы на «Дом с зелеными ставнями» (1901) Дж. Д. Брауна (1869–1902). Роман Брауна был первой и самой сильной реакцией на так называемую «огородную школу», любившую изображать шотландскую глубинку в умиротворенно-патриархальных тонах (к этой школе, кстати, принадлежал драматург и романист Джеймс Барри, реплику из пьесы которого Грэй возьмет эпиграфом к «Падению Келвина Уокера»).
В известном смысле тоже фантасмагоричен, тоже заглядывает в иные пределы и второй роман Грэя – «Дженайн, 1982 год» (1984). Это исповедь опустившегося пропойцы, страхового чиновника, в озлоблении от неудавшейся жизни не дающего спуску ни себе, ни соотечественникам. Традиционная для шотландской литературы тема «любви-ненависти» к родному краю выразилась здесь с каким-то надрывным отчаянием.
Хотя действие третьего, последнего на сегодняшний день романа Грэя «Падение Келвина Уокера» (1985) происходит в Лондоне 60-х годов, это тоже очень «шотландский» роман. В отличие от предыдущих здесь нет «игры» ни с временем, ни с пространством; при некоторой гротесковой схематичности сюжета – не случайно он имеет подзаголовок «Небыль 60-х годов» – роман вполне «реален», легко узнаваемы его характеры и ситуации. Ведь это было так недавно – 60-е годы, – всего одно поколение назад. И сегодня еще на слуху голоса и приметы тех лет – битлы, Том Джонс, Твигги, мини-юбки, хиппи… А кое-что только сейчас добредает до нас – рокеры, телефоны доверия, электронная служба знакомств.
В те годы мы как никогда хорошо знали Англию – и по книгам переводимых тогда первоклассных писателей, и по репортажам целого отряда талантливых международников. Это десятилетие вместило множество драматических, поистине исторического значения событий, выявило давно назревавшее неблагополучие. С вынужденным уходом англичан из зоны Суэцкого канала Британская империя окончательно отошла в область преданий. А в 1965 году умер и последний ее паладин – задолго до того ушедший от дел – Уинстон Черчилль. Менялись кабинеты, менялись лидеры партий. К Англии прилипла кличка «самый больной человек Европы». Англия просилась в Общий рынок, ее не брали, а в стране уже загодя готовились к переходу на десятичную систему, в чем также виделось сокрушение основ. Превозмогая несвойственный ей комплекс неполноценности, Англия, всегда предпочитавшая (на словах по крайней мере) любителя профессионалу, стала учиться искусству управления, вводить менеджерство. Забастовки и растущая безработица все острее ставили вопрос о компетентности властей предержащих. В страну проникал иностранный капитал, он замахивался уже и на святая святых: канадский миллионер Р. Томсон прибрал к рукам лондонскую «Таймс», с которой, едва открыв глаза, начинал свой день правящий класс. Дух коммерциализации и конъюнктуры проникал в независимую Би-би-си, на формирование общественного мнения все большее влияние оказывало телевидение, прежде всего коммерческое: уже велись разговоры о том, чтобы транслировать по телевидению заседания палаты общин. А там шли большие сдвиги в области общественной морали: парламент принял закон о заключении пари, санкционировавший создание «игорных лавок». С частной моралью тоже было не скучно – «в коридорах власти» разразилось «дело Профьюмо». Удачливые уголовники провернули «великое железнодорожное ограбление», долго не сходившее с экранов телевизоров и со страниц газет. Прошла серия потрясших Англию бессмысленно жестоких актов насилия. Вышла страшная документальная книжка о молодежи – «Поколение икс». Жизнь шла рывками и бросками, выталкивая вперед все новые проблемы, и поспешающая за ней литература раздвигала фронт своих жанров: «рабочий роман», «литература о подростках», «роман малой темы»…
Переводя «Падение Келвина Уокера», я не переставал поражаться цепкой памяти его автора. Он, как промокашка, впитал, удержал, сохранил и донес различимые письмена времени. Почти все, что сказано выше об «Англии 60-х», так или иначе отзовется на страницах этой маленькой, но емкой книги.
Разгадка памятливости Грэя между тем обескураживающе проста: в 1968 году он написал и поставил на телевидении пьесу «Падение Келвина Уокера». Ее текст остался мне недоступен – очень может быть, что пьеса вообще не печаталась. Но насколько же актуально звучала она в свое время! И второе соображение: стало быть, не выговорился тогда Грэй, если потребовалось возвращаться к разговору почти двадцатилетней давности.
«Падение Келвина Уокера» – роман-памфлет, не надо искать в нем психологических откровений или эпической полноты картины. Второе рождение не прошло бесследно для его формы – заемные от драматургии черты видны невооруженным глазом: сюжет пунктирно движется от одного завершенного в себе эпизода к другому; описания зримо конкретны, суждения взвешенны; много диалогов, реплики вводятся скупыми ремарками «он сказал», «она сказала».
Центральный герой романа, новоявленный «наполеонический парвеню», доморощенный ницшеанец, легко укладывается в растиньяковскую схему. Стремительное восхождение Келвина Уокера объясняется не только незаурядными личными качествами (хорошо подвешенный язык, находчивость и напористость, а также необремененность моральными принципами), но и готовностью его оппонентов сразу признавать свое поражение, когда он им хамит. Он бьет по слабым местам, приберегая свои каверзы под самый конец, чтобы оставить за собой последнее слово, а жертвы, собравшись с силами, спешат использовать его в собственных интересах – до поры до времени. Прикрываясь сначала именем знаменитого земляка, а потом, уже став телеведущим, – маской неотесанного простака из шотландского захолустья, Келвин идеально подошел для эры телевидения и общественных институтов.
«Делая упор на личности, а не на политические вопросы, – отмечает советский обозреватель, – телевидение уводит зрителей от реальных проблем, навязывает им своих „пророков“, которые и создают искусственный телемир, затушевывающий мир истинный»[1]1
А. Лопухин. Все меняется даже в Англии… М., 1985, с. 85.
[Закрыть]. Это почти текстуально совпадает с «программой», которую проводит в жизнь шеф нашего героя, прожженный циник Маккеллар («Я называю это британской альтернативой революции»). Насколько типичен в этой роли Келвин, подтверждает репутация ведущего телеобозревателя тех лет Дэвида Фроста (речь идет не о реальном прототипе, но о социальном типе, о феномене). «Фрост (…), сын методистского проповедника из Саффолка, отличается неисчерпаемой самоуверенностью и культивирует стиль „простого человека“. Еще в Кембридже он проявлял задатки незаурядного импресарио. Прославился Фрост как ведущий коммерческих программ Би-би-си, а затем получил собственную программу на коммерческом телевидении, в которой, к вящему восторгу зрителей, обрушивал грубые вопросы на знаменитостей, и это обеспечивало такую рекламу, что даже члены кабинета считали нужным ему подчиняться»[2]2
А. Сэмпсон. Новая анатомия Британии. М., 1975, с. 346.
[Закрыть]. Уже выписав эту длинную цитату, я вдруг подумал: за вычетом университетского образования, уж очень все сходится – может, все-таки прототип?..
В романе много «идеологии». Речь идет не о путаных идеях Келвина, а о роли телевидения и других масс-медиа в формировании общественного мнения, о теории и практике создания «имиджа». Осваиваясь со своим «имиджем», Келвин все увереннее возводит себя в статус «пророка». Он начал с того, что препирался с богом, потом объявил – вслед за Ницше, – что «бог умер» и он призван как бы заполнить образовавшуюся пустоту[3]3
Кстати, эта ницшеанская метафора реализовалась в те годы в конкретных философских спекуляциях. Сошлюсь на свидетельство внимательного наблюдателя: «– Но где он, бог? Почему его нет с нами в эти решающие мгновения? – говорил мне профессор теологии, один из создателей новой модной теории о „смерти бога“». – М. Стуруа. Время: по Гринвичу и по существу. М., 1969, с. 115.
[Закрыть]. Кончает же Келвин истовым адептом воскресшего бога, «перчаткой на его деснице». Не стоит видеть тут лицемерие или ханжество. Келвин, конечно, самозванец и словоблуд, однако его религиозная экзальтированность, нарастающая к концу книги, отражает реальное положение дел. Шотландская церковь («свободная церковь») продолжает сохранять значительное влияние как традиционный оплот нонконформизма. Не случайно в эпилоге герой едва не связывает себя с сепаратистским движением. Но если в начале карьеры Келвин смотрится до какой-то степени бунтарем, возмутителем спокойствия, то в финале это благополучный и скучный обыватель реакционного, охранительного толка в кругу своей не очень-то счастливой семьи.
Остается сказать о других героях романа – художнике Джеке и его своенравной подружке Джил. Впрочем, главное скажут их имена, пришедшие из английского народного стишка и означающие просто юноша и девушка (вроде наших Ивана да Марьи), и все происходящее с ними старо и прекрасно, как мир. От их безалаберного богемного уклада, как ни странно, веет теплом жизни, каким-то покоем, надежностью, несмотря на частые ссоры и даже потасовки. Что ж, милые бранятся – только тешатся. Тут островок человечности, и, право, становится жутковато, когда его колонизует Келвин. Но Джек и Джил неразделимы – на них жизнь держится. Они и дальше будут жить так же бестолково, эти нужные друг другу люди. Не в пример нашему герою, от них никому нет худа. И дети у них «часто бывают счастливы»…
Представлять нового писателя – задача непростая, ответственная. Хочу думать, что читатель не разочаруется, познакомившись с Аласдэром Грэем, и будет ждать новой встречи с ним.
В. Харитонов
Аласдэр Грэй
Падение Келвина Уокера. Небыль 60-х годов

Сестре Море – долгожданная книга ее брата, за которую ей не придется краснеть
Вначале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
От Иоанна Святое благовествование
Миледи, в мире мало что произведет большее впечатление, чем шотландец, делающий карьеру.
Сэр Джеймс Барри.
Что знает каждая женщина
Открытие Лондона
Однажды ясным свежим летним утром того благодатного десятилетия, что пролегло между двумя сокрушительными экономическими кризисами, на автовокзал Виктория прибыл маршрутом Шотландия – Лондон тощий молодой человек. На нем были черная фетровая шляпа, черное двубортное пальто, галстук-шотландка под целлулоидовым воротничком; поношенные его ботинки были начищены до блеска, ноги обуты в толстые шерстяные носки, кончавшиеся под полами пальто. Прямые волосы были расчесаны на косой пробор, челка падала на бровь, как у Адольфа Гитлера, и в эту теплую сероватую рань, сжимая в руке потертый чемодан, он обращал во все стороны пустое, с какими-то размытыми чертами лицо, не спеша за попутчиками в буфет или в объятья встречавших. Потом его лицо омрачила забота. Он подошел к газетному киоску и сказал сидевшей там женщине:
– Будьте любезны, мне нужны дешевая шариковая ручка, блокнот в твердой обложке, карта Лондона и транспортная схема.
– Сделай одолжение, сынок, – ответила та с шотландским акцентом.
Он сразу помягчел и, когда она подобрала, что он спрашивал, указал на россыпь газет и спросил более доверительным тоном:
– В каких тут есть насчет приличной работы? – Она подала ему одну, он пробежал глазами ее страницы, потом аккуратно сложил и вернул со словами: – Я буду с вами откровенен: мне нужна такая газета, где предлагают что-нибудь поприличнее.
Она с улыбкой сказала:
– Тогда, может, «Таймс»?
Он полистал «Таймс», кивнул, расплатился и рассовал покупки по карманам, оставив в руках только карту, над которой, развернув ее, поразмышлял, прежде чем уйти с вокзала.
Со стороны никто бы не сказал, что он фантастически возбужден и не представляет, куда его несут ноги. Сам он считал, что «знакомится с местом». Четкий стригущий шаг наводил на мысль, что он человек с характером и занятой, твердая линия рта и прямой взгляд выказывали полное равнодушие к окружающему, однако встававшие в упор или ухваченные краем глаза виды улиц ошарашивали и кружили голову: непривычные громады новостроек, славная старина, знакомая по фильмам и фотографиям в газетах, девушки и женщины, разодетые внове для него богато, броско и небрежно. Его возбуждение передалось ногам. Он не завтракал и почти не спал в дороге, но дико было даже подумать о том, чтобы засесть в ресторане. Другое дело – булочная или кондитерская: он, не задерживаясь, выходил из них с пирожком или плиткой шоколада. И еще бывали заминки, когда он сверялся с картой.
В третий раз за этот день пройдя через Трафальгарскую площадь, он рухнул на скамейку вблизи фонтана и постарался умерить возбуждение, переключив его на голову. Лондон – богатый город. Другие британские города – Глазго, например (он был в Глазго), – не жалели денег, обстраиваясь, они и сейчас при деньгах, но на севере деньги какие-то нерасторопные, то есть они, безусловно, сила, только – сдержанная сила. Те, у кого они есть, не стали свободнее. У них такие же суровые лица и так же скорбно поджаты губы, как у безденежных людей. А тут, в Лондоне, деньги, до поры скапливаясь, вдруг разом воплотились в богатство – может, всего год назад, а может, тому уже сотня, если не много сотен лет, – и богатство несло с собой свободу, порыв, непостоянство, безоглядность. Ему чудилось, что оно мурлычет себе под нос за фасадами старых и новых домов, напрягается под мостовыми, как перед семяизвержением. Образом здешнего богатства были хотя бы эти нарядные фонтаны, впустую переводящие народную воду. День стоял теплый, но порывами налетавший свежий ветерок, словно пригоршнями монет, осыпал водяной пылью проходящих мужчин и женщин, расфранченных и уверенных в себе, таких он прежде не видывал. Он в очередной раз уткнулся в карту. Он уже неплохо знал улицы в аляповатом треугольнике между Мраморной аркой, Вестминстерским аббатством и собором св. Павла, что было ему плюсом, однако полдня уже прошло, а пристанища у него не было.
– Это надо было поставить первой целью, – строго отчитал он себя. – Пусть теперь она будет очередная. А пока не помешает выпить что-нибудь горячее.
На Чаринг-Кросс-роуд он высмотрел маленькое кафе и зашел в него. В большинстве своем посетители расположились на улице у открытой двери, а он заказал у стойки чай и сандвичи и прошел внутрь, где было потише. Там уже сидел один – полноватый, приближавшийся к среднему возрасту, одетый просто, но дорого и куривший с выражением такой праздной беззаботности, что приезжему пришлось для равновесия напустить на себя деловитость. Он сложил «Таймс», подогнав кверху страницу с объявлениями о свободных рабочих местах, и стал внимательно читать, подчеркивая заинтересовавшие его места и методически кусая сандвич и отхлебывая из чашки. Потом он раскрыл записную книжку и переписал в нее названия фирм и адреса. Сбоку прошла девушка с чашкой кофе и села за столик к полноватому. Даже краем глаза она виделась во всех подробностях, потому что расцветкой напоминала дорожный знак: белые туфли, черные джинсы, белая блузка, темные глаза на бледном лице и длинные черные волосы. У нее был ясный, отрывистый и, пожалуй, невыразительный голос, если только скороговорка как раз не была призвана затушевать всякие чувства. Такую дикцию приезжему доводилось слышать в радиоспектаклях Би-би-си. Он упер ручку в нижнюю губу и устремил на нее хмурый раздумчивый взгляд, как бы погруженный в собственные проблемы. У девушки было красивое худощавое лицо, и в эту минуту она говорила:
– Наверно, мне нужно перед тобой извиниться, Майк.
Полноватый раздавил в пепельнице окурок и мягко пробормотал:
– Не обязательно.
– Я очень свински напилась?
– Ты порядочно перебрала.
– Джек, конечно, был плохой помощник?
– Ты лучше меня знаешь Джека. Как он сейчас?
– Еще спит. Ты молодец, что отвез нас домой.
– А для чего еще иметь машину? Как голова?
– Сейчас лучше. Я проснулась чуть свет, и меня вывернуло прямо на стул у постели. – Она хихикнула. – Сразу полегчало.
Приезжий опустил глаза в записную книжку, стесняясь услышать продолжение. Там, откуда он приехал, напивались невоспитанные и отпетые девицы. А по этой не скажешь, что она отпетая. Сейчас она говорила:
– Кстати, не ты меня раздел?
– Боюсь, что нет.
– Слава богу. Значит, сама.
Полноватый взглянул на часы:
– Джек, во всяком случае, на это был неспособен. Ну, мне пора. Ты не забыла про завтрашний вечер?
– Если ты не раздумал нас звать, – сказала она.
Стоя, полноватый сказал:
– Я вас не разлюблю даже насквозь проспиртованных. Значит, около девяти.
– Выпивку приносить, Майк?
– Не надо, если вы на мели.
– Отлично, потому что мы почти на ней.
Полноватый сунул руку за пазуху:
– Взаймы не надо?
– Нет пока. Попрошу, когда дойду до ручки, ладно?
– Обязательно. Ну, не скучай, – сказал он и ушел.
Девушка пригубила кофе и стала со вкусом посасывать большой палец. На приезжего накатила решимость. Он встал, сунул в карманы газету и записную книжку, шагнул к опустевшему стулу Майка, осторожно положил шляпу на стол и сел. Девушка никак не реагировала на это. Он поставил локти на стол, переплел пальцы, прокашлялся и выпалил:
– Вы не возражаете, если я займу вас беседой?
Она улыбнулась и сказала:
– Ради бога. Мы, кажется, вчера вместе поддавали?
Он сурово замотал головой.
– Ну, значит, еще когда-нибудь.
– Нет-нет.
Чуть помолчав, она холодно сказала:
– Понятно. Не имеет значения. Занимайте меня беседой.
Этого позволения он только и ждал. Разом сбросив напряженность, он напористо заговорил как по писаному.
– Спасибо. Позвольте с самого начала быть с вами откровенным. Я тут новый человек. Сегодня в восемь утра я в первый раз приехал в Лондон, у меня никого нет в городе, и, если говорить совсем начистоту…
– У вас нет денег, – сказала она.
Он опешил:
– Почему вы так считаете?
– Обычно приезжие, заговорив откровенно и начистоту, просят потом взаймы.
Он поразился.
– Правда? Очень хорошо, что сказали. Очень ценное сведение. Только, – он просветлел лицом, – на самом деле у меня очень много денег. – Он вынул из внутреннего кармана бумажник, положил его между ними и постучал по нему пальцем. – Вы бы удивились, сколько у меня денег в этом бумажнике.
Она дважды кивнула и сказала:
– Понятно. И вы решили, что подвернулась девушка, с которой можно весело провести время.
Он помолчал озадаченно и вдруг залился краской. Схватив бумажник, он встал и заговорил бурно, чуть не со слезами в голосе:
– Я… Видимо, я насильно навязываю свое общество и этот разговор. Надеюсь, вы все же поверите, что я… что ничего оскорбительного для вас я не имел в виду. Я самым искренним образом прошу извинить мою грубость.
На свой лад огорчилась и девушка. Она сказала:
– Фу ты, черт! Да сядьте же. Сядьте, пожалуйста.
– Но…
– Сядьте, я вас прошу. Я только сейчас поняла, до какой степени вы новый человек. Я не прощу себе, если вы сейчас уйдете.
– Вы правду говорите?
– Правду. Я вас не поняла.
Совершенно успокоенный, он сел и с прежним дотошливым напором продолжал:
– На чем мы остановились?
– Вы что-то хотели сказать начистоту.
– Ага. Так вот, после автовокзала я совершил долгую прогулку по центру города, чтобы получить понятие о нем, и набрел на это кафе. Я отметил, что те люди, у двери, пусть не красавцы, но определенно артистичны. Тогда я вошел и нечаянно услышал ваш разговор с мужчиной, он ушел несколько минут назад, и из вашего разговора мне стало ясно, что вы тот человек, ради которого я приехал в Лондон. Сам я из Глейка. Слышали о таком?
– Нет. Расскажите о нем. Это маленький городок?
– Нет, большой. Мы производим рыбий клей, свитера и много плавленого сыра. Некоторые считают, что первыми стали делать плавленый сыр американцы. В известном смысле это так, но он был уроженцем Глейка, Мёрдок Стэрз, который придумал технологию. Еще один наш уроженец – Гектор Маккеллар, он готовит телепередачи, так что, как видите, в географическом смысле Глейк будет побольше, чем просто точка на карте. Зато в культурном смысле масштаб совсем не тот. Из-за этого я и уехал. Вы читали Ницше?
– Кого?
– Фридриха Ницше. Немецкий мыслитель.
– Не читала.
– Но хоть слышали о нем?
– Может быть. Не уверена.
Он покачал головой, не в силах поверить в это. Он сказал:
– Странно. По вашему разговору я мог бы поклясться, что вы читали Ницше. В вашем разговоре сквозил ницшеанский дух – я бы так сказал. С вами, во всяком случае, мне легко говорить о нем. А в Глейке – без преувеличения – мне было буквально не с кем потолковать о Ницше. Не с кем.
Она из сочувствия спросила:
– А что вообще обсуждают в Глейке?
– Спорт. Спорт и религию. Собственно, даже не обсуждают: дерутся за них. Мыслителей в Глейке нет, художников тоже. Вы сами не художница?
– Боюсь, что нет.
– Забавно. А похожи на художницу. Знакомых художников у вас нет?
– Есть, мой приятель художник.
Он пришел в восторг:
– Я так и знал, что вы связаны с искусством! Он – хороший художник?
– Не могу судить. Я не очень разбираюсь в живописи. Его друзья считают, что никудышный. А что, вы сами художник?
Его глубоко задел этот вопрос.
– Я?! Ни в коем случае! У меня, слава богу, совсем нет художественного таланта. Но в художественной среде люди обычно восприимчивы к новым идеям, особенно – к ницшеанским, а через них я и намерен преуспеть.
– В чем преуспеть?
– Не важно в чем. Мне все равно, с чего начать. – Он постучал указательным пальцем себе в висок и со значением объявил: – Я тут все вычислил.
– Что вы вычислили? – озадаченно спросила она.
Неожиданно он во весь рот улыбнулся.
– Наш разговор, – сказал он повеселевшим голосом, – увлекает нас на опасную глубину. Вы позволите узнать ваше имя?
– Конечно. Джил.
– А фамилия?
– Не надо об этом. Противно.
– Как может быть фамилия противной?
Вздохнув, Джил безразличной скороговоркой сообщила, как мать после развода вернула себе девичью фамилию и велела Джил взять ее же, потому что не хотела даже слышать фамилию отца. Потом мать снова вышла замуж и теперь заставила Джил взять фамилию отчима, чтобы у девочки была семья. Но Джил невзлюбила отчима, и поэтому друзья продолжали звать ее просто Джил. От этих сведений незнакомец только шире раскрыл глаза и рот. Казалось, он снова зальется краской смущения, но вместо этого, потрясенный открытием, он сказал:
– Как это грустно!
– Да ничего особенного, – сказала она. – Теперь уже ничего особенного. А вас как зовут?
Он постучал пальцем по ее запястью и важно объявил:
– Келвин Уокер. Вы не откажетесь, Джил, сделать мне громадное и исключительное одолжение? Которое только вам по силам оказать?
Она улыбнулась и сказала:
– Если смогу.
– Не откажите отвести меня в самую дорогую ресторацию в Лондоне и заказать нам обоим самый дорогой обед. За мой счет.
Растрогавшись, она ответственно сказала:
– Очень мило с вашей стороны, но вы в самом деле можете себе позволить?..
– Сегодня я всё могу себе позволить.
Она сказала:
– В самый дорогой ресторан я не могу вас отвести, а в довольно дорогой – поведу, если вам так хочется.
Он расплатился с официанткой, и они вышли на улицу. Он сказал:
– Вы скажите, если я что-нибудь делаю неправильно. Манеры у меня приличные, но лоска еще маловато.
Она велела ему просто держаться естественно.





![Книга [Про]зрение автора Жозе Сарамаго](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-prozrenie-173514.jpg)
