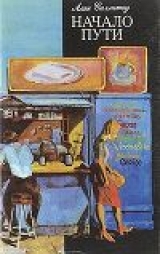
Текст книги "Начало пути"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Если доведется еще повстречаться, уж я его узнаю,– сказал я.– На всю жизнь запомню эту рожу.
Он опять повис у меня на хвосте, опять хотел долбануть меня бампером, взрезать мою машину, будто консервную банку, а самому чтоб остаться целым и невредимым. Несколько секунд он шел ко мне впритирку, и теперь Билл тоже толком его рассмотрел. «Зодиак» саданул меня по переднему крылу, и тут Джун сказала:
– Биллу дурно… или ему явилось привидение. Он белый как полотно. Надо скорей раздобыть нюхательной соли или глоток виски, не то он отдаст богу душу.
– Я знаю, кто это,– хрипло пробормотал Билл.– Как это я сразу не смекнул?
Я сделал отчаянный рывок, хотел боднуть этот «зодиак». Моя машина уже и так вся избита, мне терять нечего.
– Ну, кто же? Говори, черт возьми!
Мимо промчалась полицейская машина, оглушила сиренами, ослепила синими вспышками, и тот шикарный бандюга мигом сбавил скорость, будто пай-мальчик.
– Это Клод Моггерхэнгер, Когда-то я продал ему новехонькую машину за пятьдесят фунтов и он всучил мне фальшивые, Ну и болван же я – угораздило полаяться с таким типом. Больше я уж язык распускать не стану.
Казалось, он сейчас разревется.
– Ну, в моей-то машине, конечно, не станешь. А вот он подъедет поближе, ты окликни его да и скажи, мол, извиняюсь. Может, он отцепится.
Мотор мой вдруг затарахтел, точно пулемет, стреляющий болтами и гайками, и я подумал: скоро несчастной жестянке конец, даже и без помощи Клода Моггерхэнгера. Но вот чудно: она вдруг набрала скорость и как заправская гаубица загрохотала к Хендону. Я пересек Северную окружную и понадеялся – может, мстительный Клод свернет на запад или на восток, но нет, он сразу же снова нацелился меня боднуть. В общем, он рад был лупить по чем попало без зазрения совести, да промахнулся. А ему показалось – вроде наподдал как следует, теперь мой мотор и сам сдохнет, и он умчался. Я доехал в Хендо-не до островка безопасности, но, чем обогнуть его по кругу и двинуть к центру Лондона, резко крутанул влево и рывком – только-только чтобы нас не пришибло – затормозил у обочины. Машина замерла, стало довольно тихо, и не успел еще никто слова вымолвить по случаю нашего чудесного спасения, как мотор заглох.
– Все-таки выскочили,– сказал Билл, открыл левую дверцу, и она тут же отвалилась.– Ничего, зато ехали – не скучали.
Все еще не выпуская баранки, я уронил голову на руки и горест-
но (другого слова не подберешь) задумался: вот, выходит, купил машину, только чтобы доехать до Лондона, и такая несложная поездка обошлась мне в сто сорок фунтов. За эти деньги можно было нанять «роллс-ройс» с шофером и всю дорогу уплетать икру и пить шампанское, да еще провести ночь в отеле «Клэридж» или какие там еще есть шикарные ночлежки.
– Я думала, мне уже не видать моей дочурки,– сказала Джун, вытаскивая из машины чемоданчик.
– Пошли, дорогуша,– сказал Билл,– пора двигать. А Майкл, верно, еще застрянет, ему надо сговориться насчет починки машины.
– Убирайтесь,– сказал я.– Сгиньте.
Начался дождь, тяжелые капли забарабанили по крыше, струи воды стекали по ветровому стеклу, и теперь, когда машина стояла, от этого становилось спокойно и уютно.
– Мы не можем сгинуть, покуда ты не дал нам на метро,– сказал Билл.
Я протянул ему бумажку в десять шиллингов.
– А как насчет фунта на кофе?
– Пропади ты пропадом,– сказал я.
– И это называется друг,– огрызнулся он.– Пошли, Джун. Если захочешь меня повидать, я каждый вечер буду в «Клевере». Может, угощу тебя стаканчиком,– бросил он мне через плечо.
Они побежали к станции метро, а минут через пятнадцать я наконец освоился с жестокой правдой: надо расстаться со своей первой, горячо любимой машиной. Взял я чемоданчик и пошел той же дорогой. Поднятый воротник пальто не защищал от проливного дождя, ноги подкашивались и толком не держали, будто у матроса, который не один год плавал по морям и океанам и только что сошел на берег. Несколько месяцев я был владельцем машины – и вот опять стал простым смертным, с неба так и хлещет, а я волоку свой чемоданишко к станции метро, и стою у кассы, и покупаю билет до Кингз-кросс. А потом поезд с грохотом мчался на юг, а меня разобрал смех: надо же, отправился вдогонку за рассветными небесами, проехал по ничьей земле, оставил позади сто двадцать пять миль – и в этом простом путешествии чуть не погиб.
Часть III
По всему Лондону звучал какой-то прилипчивый мотивчик, но теперь я уже не помню ни названия, ни его самого. Иногда кажется, он вот-вот зазвучит у меня в ушах, но в последнюю минуту я стираю его в памяти, будто нарочно его избегаю, будто вовсе и не хочу вспомнить. Мотивчик этот веселил, будоражил, неотвратимо и неотступно захватывал, оживлял сырую зиму, вселял в людей веру, будто они и впрямь живые. Кондукторы автобусов и мойщики окон насвистывали его, напевали с закрытым ртом, выстукивали пальцами на звонках и ведрах, будто задались целью доказать себе, что они из плоти и крови, а не деревяшки. Впервые я услыхал его в метро, на пути от Хендона к Кингз-кросс. Длинноволосый парень включил свои транзистор, и мотивчик ворвался в мои раздумья, а думал я про то, чем же заняться теперь, когда я добрался до Большого дымохода .
Хоть я и лишился машины, дела мои были не так уж плохи. В кармане у меня лежали сто фунтов, а ведь, наверно, большинство приезжих заявляется в Лондон с куда более тощим кошельком. Мне казалось, это целое состояние, оно никогда не иссякнет и можно неделю за неделей жить без забот и тревог. Неподалеку от станции метро «Кингз-кросс» я набрел на гостиницу, там полно было старых дам и иностранных студентов, и за тридцать шиллингов в сутки мне предложили вполне приличную постель и завтрак. Я назвался Дональдом Чарльзом Крессуэллом из Лестера, Стоунигейт-стрит, 11. Почему соврал – не знаю, хоть убейте, это получилось как-то само собой (у меня всегда так бывает), но уже в следующую минуту я понял: это еще может сослужить мне службу.
Комната у меня была крохотная, меньше я в жизни не видал. Кровать, стенной шкаф, стул, столик, на потолке подслеповатая лампочка. Уютная комнатушка, но я так ликовал – шутка ли, наконец-то я в Лондоне!-что поживей ополоснулся, почистился и побежал вниз по лестнице, насвистывая тот самый прилипчивый мотивчик, который сперва слушал с таким презрением.
Я отдал ключ портье, и он спросил, когда я вернусь.
– А что, разве могут не впустить? – спросил я, и он вытаращил на меня глаза, будто своим варварским вопросом я его огорошил, нарушил правила игры.
– Помилуйте, сэр, но если вы придете после полуночи, вам придется позвонить в звонок.
Я рассыпался в благодарностях и вышел на провонявшую бензином улицу. Ко мне сразу же подошла женщина и позвала с собой, но вид у нее был не ахти, и я подумал: с этими лондонскими шлюхами, надо держать ухо востро, не то в два счета обчистят да еще наградят триппером. Я только вчера забавлялся с Клодин, а потом с мисс Болсовер, пока перебьюсь, нечего жадничать. Да и устал до чертиков – вот только прошвырнусь по соседним улицам и скорей назад, в свой коробок, на боковую: я вполне заслужил хороший отдых.
Я пожелал ей спокойной ночи, пошел дальше и скоро набрел на закусочную. В витрине спала кошка, но еда, хоть стоила и недорого, оказалась сносная. Покуда я уплетал тушеное мясо, вошел оборванный старикан с косматой седой бородой и стал продавать календари. Я взял один, дал ему полкроны и велел сдачу оставить себе. Темные глаза его сверкнули из-под кустистых седых бровей. – Благодарю вас, сэр! – сказал он с самой что ни на есть ядовитой насмешкой.
Ох, и озлился же я на себя: чтоб за мою доброту да так плюнули в морду! Двинуть бы его как следует, вшивого гада, но дверь за ним уже захлопнулась. Я жевал рубленую баранину с кошатиной и думал, откуда взялось это старое чучело, и вдруг мне стало чего-то тошно: а ведь, может, сорок лет назад он тоже приехал в Лондон из какого-нибудь Ноттингема, подавал надежды, верил в будущее. Может, была у него хорошая постоянная служба, а потом он устал, издергался, начал понемногу выпивать. Связался с какими-нибудь подонками, стал жить не по средствам, разбазарил чужие деньги, угодил за решетку. Потом от него ушла жена, детишки выросли без отца, и их разбросало по свету, он кочевал с работы на работу, одна хуже другой, катился по наклонной, спал под мостами и на пустырях, стал человеком-рекламой и наконец принялся торговать календарями в пивных и забегаловках, его так и называют презрительно Джек Календарь. Я встряхнулся, заказал кофе – самое приятное из всего ужина, разом отхлебнул чуть не полчашки, поднял глаза и увидел – Джек Календарь вернулся.
В забегаловке сидели еще трое, но такое уж мое везенье – он зашаркал ко мне.
– Похоже, юноша, вам не повредит добрый совет. Я выставил ладонь.
– Хотите погадать по руке?
Он остановился у моего столика, высокий, здоровенный и совсем не такой старый, как мне сперва показалось.
– Садитесь, выпейте стаканчик,– предложил я.
– Чаю,– сказал он, а когда подошел официант, прибавил:-И
кусок хлеба с маслом.
От него разило потом, и я закурил, чтоб отбить запах.
– Вы чересчур великодушны,– сказал он.
– А как же иначе?
Он сел и посмотрел мне в лицо.
– Я видел немало людей, которые прекрасно умеют иначе. В
этом куске хлеба величие господне. Он дает нам силы. Только так я это и понимаю.
– Я не верю в бога. – Я тоже,– сказал он.– Но я верю в силу хлеба, а по мне, это
то же самое. Люблю ощущать у себя в желудке величие господне.
– Ну и на здоровье.– Я понадеялся, что он вегетарианец, и прибавил: – Можете подзаправиться мясом, я не против.
– Об этом стоит подумать,– сказал он.– Мясо – это дьявол, а хлеб – бог. Но поскольку в человеке бог соседствует с дьяволом, а я не отрицаю свою принадлежность к роду человеческому, я принимаю ваше щедрое предложение.
Он самоуверенно и привычно щелкнул пальцами, подзывая официанта, и я начал понимать, почему с виду он настоящий здоровяк и крепыш. Он заказал тушеное мясо с рисом, и когда официант принес еду, я попросил еще чашку кофе.
– Сдается мне, на эти календари не проживешь. Он присыпал дымившийся на тарелке вулкан солью.
– Проживешь. Сколько, по-вашему, надо человеку, если он не возомнил себя господом богом?
– Не знаю,– сказал я и закурил свою последнюю сигарету. Он с сожалением посмотрел, как я скомкал пустую пачку.
– На прожиток человеку нужно куда меньше, чем вы думаете,-сказал он.– Я покупаю календари по четыре пенса, и скупердяи дают мне за штуку шестипенсовик, а кто пощедрее – и шиллинг. Иногда перепадает и полкроны. А однажды какой-то субъект дал целый фунт: ему, видите ли, жалко меня стало.
– Похоже, вы нашли себе подходящую работенку,– сказал я. И подумал: а ведь он совсем не дурак! Чем дольше он говорил, тем ясней было, что это речь человека хорошо грамотного. В бороде, если приглядеться, седины куда меньше, чем рыжины, да и лет ему никак не больше сорока пяти.
– Конечно, молодой парень вроде вас не назовет это хорошим заработком, но на комнату и на простую пищу хватает.
– А вы не чувствуете себя отчасти скотиной?– сказал я.– Вы ж не трудитесь в поте лица. Живете захребетником, за счет тех, кто работает как вол, это уж точно.
Кусок мяса застрял у него в бороде, а он яростно замотал головой: нет, мол, ничего такого не чувствую, и мне захотелось подцепить этот кусок и съесть, не то еще слетит на пол и пропадет зазря. Не имеет он права, ленивый боров, пускать по ветру даже такую кроху жратвы. Но он сложил ломтик хлеба вдвое, ухватил им этот кусок, точно щипцами, и сунул в рот.
– Вы так думаете? А почему бы и нет? Не будь у вас этих мыслей, не видать бы мне тушеной говядины ни сейчас, ни вовеки веков. Я могу жить как живу только потому, что личности вроде вас верят, будто это необходимо – изо дня в день добросовестно трудиться. И я
еще мягко выражаюсь. Видите ли, девяносто процентов людей совершенно тупы и неразвиты, и если им не надо будет работать, они просто-напросто взбесятся. Вот я вам набросаю общую картину, мрачную, но зато верную. В подавляющем большинстве люди не могут существовать без работы. Их души усохнут, их тела увянут. Праздным может быть только тот, кто зрит в корень. А между тем люди желают слышать, что рано или поздно настанет золотое время: работать надо будет всего десять часов в неделю… но пока, если они не будут трудиться в поте лица, цивилизация погибнет.
Оно конечно, когда все станут работать несчастных десять часов в неделю, цивилизация и вправду погибнет, но я, слава богу, этого не увижу; в ближайшие триста лет нам это не грозит. Первому же правительству, которое это допустит, придется иметь дело с революцией. Нет уж, чем дольше и тяжелей люди работают, тем лучше. Людям именно этого и надо, но чтобы они продолжали тянуть лямку, приходится их уверять, что это скучно и вовсе им ничего такого не надо. Господь страшится безделья, даю голову на отсечение, – страшится, и не зря. Не то мир заполонят немвроды, которые стрелами своими изгонят его из золотого, устланного звериными шкурами дворца. И не только на фабриках, на фермах и в конторах должны люди трудиться в поте лица, чтобы остаться в живых. Нет, таков удел и врачей, и художников, и адвокатов: если у них мало работы, они пропа-. дают. Чтобы жить не трудясь, надо иметь особый, редкостный, ниспосланный богом дар. Я великий благодетель рода человеческого, й хотя иной раз веду себя как отъявленный негодяй, все-таки не такой уж я отпетый: не встану в ряды армии труда, никого не лишу работы. Исполненный возвышенного духа самоотречения, я намеренно от этого воздерживаюсь, даже если мне самому такое самопожертвование грозит гибелью. Я начал этот опыт уже несколько лет назад, но пока еще рано судить, чем он кончится и кто будет в выигрыше. Так что, пожалуйста, не воображайте, будто жизнь моя легка, но мне она нравится, не то я зажил бы по-другому.
Если бы мои единомышленники (а их не так уж мало) вдруг вздумали требовать работы, здание нашего общества попросту рухнуло бы. Кое-кто счел бы, что это совсем неплохо, но я не революционер. Если к власти придет правительство, которое станет угрожать мне работой, я надену черные очки, возьму палку, уведу у кого-нибудь собаку, повешу на грудь табличку «Ослепленный работой» и направлю свои стопы в ближайший морской порт – сбегу за границу. Не желаю я ни у одного человека отнимать работу, ведь, скорее всего, только работа и оправдывает его существование. И если мое беспримерное самопожертвование вас ужасает, быть может, вам будет приятно внести свою лепту – заказать мне чашечку восхитительного здешнего турецкого кофе.
– Кто ж может отказать после такой речи?
– Бывает, что и отказывают,– сказал он.– Люди иной раз злы. Не думайте, что решение начать такую жизнь далось мне легко. Отнюдь! Мне в ту пору едва минуло сорок, я был в расцвете сил, женат, имел двух детей, большую квартиру, любовницу, два автомобиля, загородный дом, в работе – я занимался росписью тканей – тоже достиг уже йочти самой вершины. В ту пору подобное существование было мне приятно, вполне меня удовлетворяло. Да я и не отдавал себе в этом отчета – ведь жизнь предоставила мне все, что только возможно, казалось, больше и мечтать не о чем. Решение мое от всего отказаться не было поверхностным. Но едва я понял, что подобное существование не по мне, я вмиг стал другим человеком, жизнь моя уже не удовлетворяла меня, напротив, она обернулась мучением, и тогда я
взялся ее перестраивать. Об одном я жалею: зачем не выбрал простейший путь, не оборвал все нити сразу. Я был весьма гуманен и великодушен, а потому действовал постепенно, мне казалось, так будет больше толку, казалось, это закроет мне путь к отступлению и окружающим тоже так будет легче. Вы, пожалуй, скажете, что я не отличался силой воли. И вера моя поначалу была не очень тверда. Ей предстояло закалиться в огне. Итак, за несколько месяцев все мое имущество пошло с молотка, жена угодила в сумасшедший дом, дети взяты были под опеку, любовница стала посещать психоаналитика, место мое на службе занял один из нынешних зубастых молодчиков, а сам я попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Но я знал: когда пыль уляжется, все, кого это коснулось, заживут так, как им всегда хотелось.
Действовать всегда лучше, чем бездействовать. Не надо бояться поступать по велению чувства. Если это приведет к хаосу, тем лучше, ибо из него может вырасти настоящий порядок и счастье. Иного пути нет, мой друг, уверяю вас. Вы, мне кажется, еще очень молоды и неопытны и потому способны прислушаться к моим словам и, быть может, извлечь из них пользу. Во всяком случае, вы это заслужили, потому что кофе доставил мне истинное наслаждение, даже осадок на дне и тот хорош. Завтра вечером вы здесь будете? Если будете, я угощу вас ужином.
– Кто его знает, где я буду. Завтра утром начну подыскивать себе комнату.
У меня слипались глаза, я прямо умирал от недосыпа и, заплатив по счету, поплелся к себе в гостиницу.
Должно быть, я уснул: смотрю – уже утро, и на красивых часах, которые я увел у Клегга, стрелки показывают девять. Я оделся, лениво поводил бритвой по лицу и пошел вниз завтракать.
Жратва была хорошая, я здорово подзаправился всем, чем только можно,– чтоб не зря были деньги плачены, да и на обеде теперь можно сэкономить. За моим столом сидел унылый белобрысый скандинав из города Свенборга, он сказал, что пишет статьи про лондонские злачные места. Аппетита у него не было, и я порубал поджаренного хлеба с маслом за двоих. Сосед ворчал – дескать, не может работать: в каждом злачном месте так щедро угощают, где уж тут устоять, а значит, домой возвращаешься на рассвете, попробуй-ка настукай на машинке что-нибудь путное. Я не больно ему сочувствовал, но все же пожелал удачи, закурил и вышел.
Утро было сырое, погода хуже некуда, а мне она все равно нравилась – ведь это как-никак Лондон. В первом же газетном киоске я купил план города и местную газету – на сегодня печатным словом я обеспечен. Приятно было опять дать нагрузку ногам, надо непременно привести их в форму, а то пока я роскошно разъезжал на Машине, они стали совсем дряблые. На Рассел-сквере у меня жутко заболели икры, я даже решил было добраться до Сохо на метро, но все-таки сжал зубы и заковылял дальше, лишь время от времени останавливался и бросал взгляд на карту. Девушки – как на подбор, одна другой краше; пальто у всех застегнуты наглухо, подбородки вздернуты, вострые носики гордо задраны. Я глазами приветствовал каждую встречную девчонку, но в ответ меня обдавали таким холодным презрением, будто все они даже и под юбочками были проморожены насквозь.
Город пропах бриллиантином и дымом, куриными потрохами и
железной стружкой, я жадно вдыхал этот смешанный запах, и когда таксист облаял меня – я слишком быстро выскочил на пешеходную дорожку,– я только улыбнулся. Здесь, видно, надо глядеть в оба, никто с тобой нянчиться не станет, подумал я и даже обрадовался: ведь по сути своей я оптимист. Два миллиона людей трудятся на заводах, в магазинах, в конторах, всем им, как сказал бы Джек Календарь, дано божественное право трудиться, а я (по крайней мере сейчас) бездельничаю в свое удовольствие, и это возможно только потому, что все они трудятся не покладая рук. От одной этой мысли мне захотелось зайти в ближайшую закусочную и выпить кофе, а еще больше хотелось облегчиться – за завтраком я выпил целое море чая. В Лондоне я не знал ни души, и от этого он был мне еще милей. Денег у меня прорва, мне казалось – я кум королю. И ведь для того я их и копил, чтоб вот так транжирить, а когда на Тоттенхемкорт-роуд я нашел нужное местечко и освободился от выпитого чая, я и вовсе перестал тревожиться.
В тот первый день я исходил вдоль и поперек весь центр Лондона и к вечеру, когда взял курс на свою гостиницу, уже знал – он совсем не такой огромный, как говорили. Второй день ушел на Сити, а за две недели – только на этот срок и хватило моих денег – я побывал и почти на всех окраинах тоже. Поначалу я познакомился с отдаленными кварталами только по схеме метро. Если с Бонд-стрит я хотел попасть в Хэмпстед, я смотрел на карту линий метро и говорил себе: «Доеду по Центральной линии до Тоттенхемкорт-роуд, потом по Северной линии двину злево и буду ехать, пока не увижу станцию с надписью «Хэмпстед». Нередко я петлял по городу в автобусе, и уже очень скоро, если какой-нибудь приезжий (или даже лондонец) останавливал меня на улице и спрашивал, как пройти туда-то или туда-то, в пяти случаях из десяти я вполне мог ответить. Это прибавляло мне хорошего настроения, и вообще все шло отлично, только вот кошелек день ото дня тощал, и непонятно было, как разжиться деньгами. Но я не унывал – в крайности подыщу себе занятие вроде Джекова или на недельку-другую наймусь куда-нибудь на работу, пока не подвернется дельце подоходней. Что это может быть, я понятия не имел и не очень об этом задумывался: ведь днем я колесил по нескончаемым лабиринтам громадного города, а потом, будто тень отца Гамлета, до поздней ночи бродил по Вест-Энду – на серьезные размышления не оставалось ни сил, ни времени. Коротко говоря, я жил полной жизнью, потому что никак не был связан с тем, что делалось вокруг. А будь я со всем этим связан или хотя бы начни уже ощущать эту связь, город поглотил бы меня и я уже ничего не мог бы увидеть. Вот почему я хотел как можно дольше оставаться вольным и неутомимым странником.
Как-то раз, неподалеку от Лестер-сквера, я раскрыл свою карту и вдруг вижу – навстречу мне идет блондиночка первый сорт. Я притворился, будто озадачен и даже растерян, и когда она поравнялась со мной, спросил, может, она будет так добра, покажет мне, как пройти на Адам-стрит.
– К сожалению, нет,– ответила она.– Я плохо знаю Лондон, я сама из Голландии.
– Виноват,– говорю,– а я-то думал, вы мне поможете. У вас вид самый лондонский. Я тоже нездешний, я из Ноттингема. Учусь там в университете, занимаюсь английской литературой. Осторожней, не то вон та машина подрежет вам зад. Не сердитесь, это такой разговорный оборот. Давайте выпьем по чашечке кофе, и я вам его растолкую. Я приехал в Лондон всего на несколько недель, остановился в гостинице, но завтра приезжает моя мать, хочет убедиться, что я пай-
мальчик. Придется всюду с ней таскаться, скучища, да что поделаешь, мамаша не хочет, чтоб я выходил из-под ее власти.
Только она стала понимать, что я заговариваю ей зубы, а тут глядь – мы стоим у входа в стриптиз-клуб, и кругом в рамках фотографии голых баб, да такие все грудастые, даже лиц не видать. На лице у нее выразилось благочестивое отвращение – видно, вообразила, будто я хочу затащить ее в этот клуб, подсыпать в кофе снотворного и прямиком спровадить в шахтерский бордель в Шеффилде. Я поглядел на нее честными глазами, сделал вид, будто и сам смутился, сложил карту и взял ее под локоток.
Через несколько минут мы уже сидели в Швейцарском центре и пили кофе с пирожными.
– Вы, значит, студентка? – спросил я. На ней была миленькая белая блузка, заколотая у горла брошкой,
казалось, она сама скромность и неприступность, такая нипочем не ляжет с тобой в постель – какого черта я ее подцепил? Она почему-то покраснела и ответила:
– Я в Лондоне работаю за стол и квартиру. И еще учусь – хочу свободно говорить по-английски.
– А на что вам учиться,– сказал я.– Вы шикарно разговариваете. Просто блеск.
Надо не умолкать ни на минуту, обрушить на нее поток слов, да таких, которые она знает, а все равно не поймет – иначе мне ее не удержать. Ей хочется слышать английскую речь, пожалуйста, будет ей английская речь, ведь я с молоком матери всосал жаргон – кому ж, как не мне, старому похабнику, ее учить? Я похвалил ее английскую речь, а сам стал до того не к месту употреблять разные слова, что ей, наверно, казалось, она их в жизни не слыхала.
– Моя семья обитает в особнячных покоях под Ноттингемом,– продолжал я.– Там меня мать и родила, и там у нас аллилуйный парк, раньше в нем стояла монашеская церковь, и детьми мы в ней смотрели немое кино. До двенадцати лет меня учил гувернер, а потом меня спровадили в колледж-пансион, да только я закатил такой скандал, чертям в аду стало тошно, не желал я, чтоб меня так прищучили. Но наша семья опутана стальными канатами традиций. Такова Англия, на эту ногу и хромает. Поперек семьи не попрешь. Но есть в этом и хорошее: вот, например, едва мне и всем трем моим братьям равнялось четырнадцать, нас начинали учить править машиной – а это ведь очень важно,– нам давали «роллс-ройс» с двойным управлением, и мы катали по своему поместью. На этом «роллс-ройсе» учились водить машину многие поколения нашей семьи.
Чем ближе вы будете знакомиться со мной, тем больше узнаете про мою семью, в Англии семьи железобетонные, на беду, они играют в нашей жизни великую роль. Как только я научился мечтать, я жаждал скинуть с себя семью, вроде тесного башмака, да только все зря. И потом, какой толк? Через три месяца мне стукнет двадцать один и я получу четверть миллиона звонкой монетой и свободный от налогов годовой доход в пятнадцать тысяч фунтов. Неохота выпускать такой кусок из рук. Только не подумайте, будто я стану лить слезы, если эти денежки от меня уплывут, я вполне могу обойтись без них, сам заработаю на жизнь. Я даже думаю, может, когда мне достанутся эти денежки, отдать их все Комитету Опеки и Исцеления Тугоухих, Увечных, Слепых, сокращенно он называется… ну, замнем для ясности. Понимаете, моя дорогая, я все время ломаю над этим голову, боюсь, как бы не пострадали мои занятия. Наверно, есть на свете огорчения посерьезней, только мне трудно это представить, ведь моя забота тоже нешуточная.
Так я трепался и трепался – да не трещал, будто полоумный, а говорил эдак неторопливо, рассудительно, будто вел привычную беседу – замолчу, курну, пущу через нос дым, отхлебну кофе – и опять за свое. Я сказал ей – мол, звать меня Ричард Арбетнот Томпсон, а друзья называют Майклом. Не прошло и часу, а она уже мучилась и ломала руки – пыталась помочь мне решить тяжкую задачу: стоит ли принимать причитающуюся мне долю семейного богатства, а значит, на всю жизнь надеть на себя оковы, или стать независимым бедняком и перекати-полем. Я-то знал, что для нее в конце концов перевесит, если мы и дальше станем встречаться, но нарочно дал ей время так мило погоревать над моим несуществующим выбором, ведь это здорово нас сближало. Через два часа, уже в другом кафе, мы глядели друг дружке в глаза и не могли наглядеться, а наши сигареты едва тлели, и никудышный кофе совсем остыл. Я сказал – мол, я уже сейчас приобщаюсь к святому искусству самоотречения, это на случай, если я и впрямь откажусь от фамильных сундуков, и хоть, конечно, с радостью угостил бы ее обедом, но могу повести ее всего лишь в кафе «Львы» – там нам хватит десяти шиллингов на двоих.
Ну, и мы, конечно, пообедали, и я сказал ей, как это для меня важно, что нашлась, наконец, возвышенная душа, способная понять мои сомнения и не смеяться над ними. Потом мы пошли в Государственную картинную галерею (вход бесплатный), я сказал – я хочу показать ей, какие картины здесь – всего лишь копии, потому как оригиналы висят в северном крыле Неописуемых палат (так называется наша родовая усадьба). Чем дальше я корчил из себя дворянина, тем больше чувствовал, что и впрямь принадлежу к благородному сословию, и вдруг подумал: человек таков, каким кажется самому себе, а не таков, каким кажется другим. Просто надо говорить об этом погромче, и тогда тучи непременно рассеются и засияет долгожданное солнце.
Ближе к вечеру моя новая подружка – ее звали Бриджит Эплдор – сказала: ей надо идти в дом, где она служит,– хозяева сегодня уходят и она будет сидеть с ребенком. Оттого, что я весь день не закрывал рта, она ничего не успела рассказать про себя, ну да ладно, дай срок, уж я добьюсь, чтоб она стала подоверчивей.
Она служила у врача, он жил с женой и ребенком в огромном доме недалеко от радиостанции Би-би-си. Когда они ушли, Бриджит спустилась в подъезд, открыла мне, и мы на лифте поднялись на четвертый этаж.
В такой квартире я еще не бывал. Вот это богатство так богатство – даже не бьет в нос, просто полно роскошной мебели, картин, книг, ковров. Бриджит велела мне посидеть в гостиной, а сама пошла укладывать шестилетнего парнишку – он никак не желал угомониться в постели. Я плеснул себе докторского виски, разлегся на мягком диване и одним ухом слушал какую-то дурацкую сказку – Бриджит читала ее малышу, а он прерывал ее на каждом слове. Я увидал коробку гаванских сигар «Ромео и Джульетта» и зажег одну тяжелой первоклассной зажигалкой чистого серебра – от моих дешевеньких эта сигара отличалась, как небо от земли. Очень хотелось увести зажигалку, но я пока что не поддался искушению: не стоило подводить Бриджит, я еще слишком мало ее знал. Вдруг она возьмет да и выдаст меня, если я так сразу что-нибудь стибрю. И вообще, это я только сам перед собой хвастался, прикидывался, будто могу прикарманить такую штуку – попробуй продай ее, сцапают в два счета. Да нет, вором я отродясь не был и не стану, больно надо унижаться до воровства, можно и другими путями выйти в люди. Я просто взял еще пяток сигар, и все.
Бриджит вышла из детской, чертыхаясь по-голландски: маленький Криспин соскочил с кровати и назло ей нагадил прямо на пол. Он чуть ли не каждый вечер так безобразничает – ну, как его отучить? Она жаловалась доктору и его жене, а они только смеются и говорят, это просто детские шалости, он скоро сам образумится. А пока надо набраться терпения. Что еще ей остается? Ведь служба эта легкая, платят хорошо, и квартира в самом центре. Она вернулась из кухни с тазом воды и тряпками, в зубах – сигарета, чтоб не мутило от запаха.
– Он все не спит? – спросил я.
– Конечно нет. Ему нравится смотреть, как я за ним убираю.
– Пускай немного подождет,– сказал я.– Сядьте и докурите. Пускай сперва уснет, потом уберете. Один раз не дождется представления, глядишь, ему больше и не захочется.
– Вы такой умный, мистер Томпсон,– сказала она, но еще не докурила, как Криспин закричал:
– Иди сюда, Бриджит. У меня в комнате воняет. Скорей вымой, а то я не могу уснуть.
– Не обращайте внимания,– сказал я и налил ей виски.
– Я не пью.
– Попробуйте, легче будет подтирать.
– Может быть, вы и правы.
Она сделала маленький глоток и сморщилась. Потом опять приложилась и допила. Я налил ей еще.
– Иди сюда! – кричал Криспин.– Если не подотрешь, я опять накакаю.
– А ну-ка, ложись спать, ты…– крикнул я.
– Бриджит, иди подотри, а то скажу маме с папой про этого дядю, и тебя выгонят.







