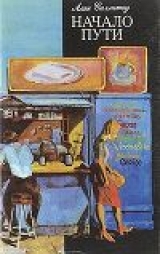
Текст книги "Начало пути"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– Похоже на то,– ответил я.– Все твое – мое, все мое – твое, да только у меня одного и есть хоть что-то.
– Зря ты это. Если б не я, ты бы со своей калошей давно застрял в грязи. Мы же все равно с тобой расплатимся за проезд – так ли, эдак ли. Верно, крошка? – многозначительно окликнул он Джун.
Она поежилась на сиденье.
– Ну, ладно, если на то пошло, я вам расскажу про себя.
– Валяйте, раз такая ваша плата,– насмешливо и разочарованно сказал Билл.– Только без врак. У нас все начистоту. Выкладывать все как есть.
– А я никогда не вру,– сказала она.– Зачем же врать, да еще незнакомым!
– Я думал, мы друзья,– сказал Билл.
– Ну, как хотите,– рассмеялась она.
– Ладно, будь по-вашему, лишь бы катить – даже и под эту пальбу. Только мне придется вас прерывать: надо будет поить треклятый радиатор, не то он сдохнет от жажды. А вы молодчага, сразу вошли в нашу игру,– продолжал Билл, явно предвкушая удовольствие.
– Вы так считаете? – спросила она, да таким тоном… И я понял: вовсе она не вошла ни в какую игру, только это после видно будет, кто прав – Билл или я. В машине вдруг здорово завоняло бензином, но никто ничего не говорил, и я тоже решил помалкивать. Нюх-то у меня есть, просто я не думал, что это опасно. Да и вообще, когда устанешь, запах бензина даже приятен.
– Детство у меня было прекрасное,– начала Джун.– Понимаете, когда мои родители поженились, они хотели девочку, и у них родилась я. Что я девочка – тут даже они не могли ошибиться. Они были прямо на седьмом небе, что все у них так хорошо началось. Тогда я еще ничего этого не понимала -правда, как только они решили, что я уже способна их понять, они все мне рассказали,– но только в шестнадцать лет, когда я сама стала соображать, до меня дошло, какой груз они взвалили на мои плечи. Груз двойной, оттого что после меня у матери больше не могло быть детей. Для них-то все получилось как нельзя лучше, а для меня обернулось бедой.
Я была девочка, и они потакали во мне всему девчачьему – не забывайте, я говорю об этом, как понимаю сейчас, а не так, как чувствовала тогда. Я вовсе этого не хотела, а меня задаривали куклами, кукольными домиками, балетными туниками и всем, что надо для шитья и вышиванья. Чего ни захочу – все к моим услугам, только бы это подходило для девочки – для такой девочки, какую они себе выдумали еще прежде, чем я родилась. И заметьте, они были не такие уж богатые люди: отец служил кассиром на железной дороге. Но они ни в чем мне не отказывали и этим словно благодарили бога за то, что он ниспослал им меня. Вот они ему и поклонялись. А я была для них вроде алтаря.
Наверно, кто-нибудь должен был бы растолковать моей матери, что она зачала меня в грешную минуту, в смятении всех чувств и при прямом участии моего отца, а вовсе не где-то там на небесах. Но ей никто этого не сказал, и моя блаженная жизнь продолжалась еще несколько лет. У меня были темные.локоны до плеч, и вообще наружность моя их, кажется, вполне устраивала.
Правда, они находили, что я слишком тихая, но считали – это от ума, а еще надеялись, что тихони – натуры глубокие. Я же была несчастна и чувствовала себя лицемеркой, это я твердо помню: дети, правда, не могут объяснить, что у них на душе, но, уж конечно, достаточно разбираются в своих чувствах, чтобы вспомнить и понять их, когда станут взрослыми. Родители берегли меня как зеницу ока, а потому не разрешали играть на улице с другими девочками: еще бы, вдруг эти невоспитанные девчонки выучат меня неприличным играм! Вот я и развлекалась, как могла: стоило матери отвернуться, я кухонным ножом четвертовала своих кукол или ножницами отрезала у них волосы, будто их поймали на бесстыжей забаве с уличными хулиганами, или протыкала дырку у них между ног и совала туда обгорелые спички. По правде говоря, матери надоело баловать и нежить меня, скучно стало со мной нянчиться, и она была только рада, если я час-другой спокойно играла сама по себе. Вечером приходил со службы отец, полминуты сюсюкал со мной, а потом кидался в свой железнодорожный клуб метать стрелки – он был прямо помешан на этой игре.
Мать не вдруг поняла, что у нее не будет больше детей, ей потребовалось на это несколько лет, а еще через год-два мои родители стали жалеть, что у них не хватило ума пожелать сперва сына,-ведь теперь уже ничего не изменишь. Они, видно, воображали, будто у них потому и родилась я, что они пожелали дочку, и вот понемногу они стали относиться ко мне иначе. Но я уже ходила в школу, и новая жизнь, по крайней мере, смягчила удар, который они мне нанесли. И все-таки очень было тяжело. Я их не виню. По-моему, бессмысленно винить родителей, если со временем начинаешь думать, будто они что-то делали тебе во вред. В этих случаях только и остается, что понять: так уж оно получилось. А может быть, я так говорю, потому что теперь у меня у самой семилетняя дочка.
В общем, раньше, когда мне хотелось узнать, что же положено делать на свете мальчикам, родители буквально засыпали меня всякой всячиной, какая полагается будущей женщине. А вот теперь они все это отобрали и принялись дарить мне ружья, разные конструкторы и на– боры для химических опытов. Вообще-то это не должно бы уж очень меня потрясти, но ведь мне с самого рождения навязывали все девчоночье, и я давным-давно сдалась и все это полюбила. Что ж поделаешь, раз я девочка. И вот тут отец принялся учить меня стрелять из духового ружья. Однажды он вернулся из клуба очень гордый и притащил какую-то большую коробку, оказалось – это электрическая железная дорога, он выиграл ее в лотерею. Он расставил ее передо мной, завел и сам же играл больше часу, даже про ужин забыл, а я испуганно таращила глаза на эту механику и ничего не понимала.
Родители мои были настоящие эгоисты и притом мямли, в воспитании они ровно ничего не смыслили. Но когда отец попытался вырядить меня ковбоем, мать сказала – нет, хватит, впервые до нее дошло, какой, должно быть, сумбур у меня в душе. На другой день она пошла и купила мне громадную куклу, таких я еще не видывала. Мне уже минуло восемь, да и вообще я не слишком любила кукол и так прямо и говорила… Ну и вот, мне даже смотреть не захотелось на эту куклу, я ее оттолкнула, она упала со стола, и голова у нее разбилась, мать жутко расстроилась и первый раз в жизни дала мне затрещину…
Родители, наверно, не подозревали о моей осведомленности, но я уже знала, откуда берутся дети,– в школе мы без конца про это говорили… Помню, мне тогда представлялось так: мои знания совсем недавние-значит, куда верней родительских, все, что знают отец с матерью, наверняка давно устарело. И потому я все время ужасно зади-
радл перед ними нос, а они уж совсем перестали надеяться, что их дочка станет когда-нибудь почтительной куколкой. Иногда они пытались воздействовать на меня добром, но кончалось это всегда одинаково: либо отец, либо мать в отчаянии отталкивали меня или шлепали, а я чувствовала, что отчаяние это неискреннее.
Несмотря на все это, а может, как раз поэтому, училась я хорошо. С первого до последнего класса была лучшей ученицей, и хотя родители делали вид, будто рады, на самом деле мои школьные успехи ставили их в тупик. До десяти лет отец помогал мне делать уроки, а потом они стали ему не по зубам, он предоставил мне самой разгадывать все эти загадки, и я вполне с ними справлялась. Но мать воображала, будто я хорошо учусь нарочно, чтоб досадить отцу и поссорить их между собой. В других случаях это было бы очень просто, но тут они дружно накидывались на меня – я, мол, неблагодарная, они всю жизнь трудятся в поте лица, лишь бы создать мне самые распрекрасные условия, чтобы я могла получить образование и потом насладиться его плодами. Это было ужасно. Я даже не очень понимала, что они такое болтают. По вечерам, перед тем как заснуть, я сочиняла всякие небылицы, будто я им не родная, будто меня еще младенцем продали им цыгане, а настоящие мои родители беззаботно сидят сейчас у костра где-нибудь в горах, на Балканах, ждут, когда поспеет ужин и можно будет поесть самим и накормить многочисленных ребятишек, моих настоящих братьев и сестер. Я даже рассказала про это в школе, не со зла, а просто не хотела быть такой, как все. Я вовсе не ненавидела своих родителей, честное слово, просто они вели себя со мной не как родители, с которыми можно бы воевать на равных, а как дети малые. В тринадцать лет меня так раздирали любовь и ненависть, переходы от одного чувства к другому были так внезапны, что в спокойные минуты я мечтала сбежать из дому. Отец и мать походя осыпали меня оплеухами, начались дикие ссоры, и так продолжалось, пока мне не исполнилось семнадцать.
На каникулы они обычно отправляли меня к тетке в Саутпорт, и тогда сами могли две недели спокойно пожить в Бридлингтоне. Тетку я, к счастью, любила. Она была старшая сестра матери и, конечно же, совсем на нее не похожа. Она содержала гостиницу, была добродушная и покладистая и никогда не выходила из себя. Всю жизнь она очень любила читать и, когда я уезжала домой, всегда дарила мне несколько своих книг. Моих родителей это злило, им казалось, книги уводят меня из-под их власти – они не знали, что никакой власти надо мной у них давно уже нет. У меня в комнате, кроме теткиных, набрались и еще книги – за успехи в ученье мне дали стипендию и приняли в среднюю классическую школу. Родители очень этим гордились, как-то в порыве откровенности, что с ними теперь бывало не часто, отец признался мне в этом, и я была на седьмом небе.
В восемнадцать лет я уехала в Лондон, я уже тогда ждала младенца и скоро стала безмужней мамашей. Девушка в два счета может оказаться в таком положении. Я влюбилась в мальчишку из нашей школы, этот темноглазый скрытный негодяй писал стишки и мог кого угодно заговорить до полусмерти, а что при этом у него за душой – не поймешь. Он был до того красивый, я никак не могла перед ним устоять. Дорогой мой папочка кричал, ругал меня, что я прихожу так поздно, а я задерживалась все дольше и дольше. Я поступила на временную работу в контору, да еще родители настояли, чтоб я училась на вечерних курсах секретарей-тогда, мол, я смогу продвигаться по службе и сама себя содержать. Поэтому я и могла задерживаться допоздна и почти все время проводила со своим дружком. Мы ходили в кино на французские фильмы или бродили по вересковым пустошам, и он чи-
тал мне свои стихи. Б общем, это была не жизнь, а мечта, и я прямо упивалась: до чего здорово, когда живешь как хочется, да еще наперекор родительским запретам! Ну и повезло же мне – вот он, прекрасный случай помучить моих добрых родителей. Даже не верится! Сколько раз мать таинственно и грозно остерегала меня, чтоб я никогда не разрешала мужчинам и мальчикам никаких вольностей. Почему – она не объясняла, но все равно это ничего бы не изменило. И вот на лугу в душистый летний день я впустила его в себя. Мы были неразлучны, а потом наступила осень (ведь ее не миновать), и Рон стал замечать, что кроме меня есть на свете и другие девушки.
Я не хочу сказать, будто он завлек меня и обманул, нет, я и сама тоже стала остывать. Все стихи его были о том, как я ему «отдаюсь» и он «меня берет». Они были точно яблоки: упадут с дерева и-глядишь– гнилые. Потом мы в первый раз всерьез поссорились, оба вели себя бессердечно, зло, наутро я проснулась и меня вырвало. На службе одна девушка со смехом сказала: может, я беременна. Я кинулась к Рону Делфу и сказала ему об этом – что еще мне оставалось делать? Он чуть с ума не сошел от страха и ярости, но я вовсе не думала женить его на себе, для нас обоих это было бы злейшей бедой. Я только хотела с ним поговорить, да, пожалуй, надеялась – может быть, он мне что-нибудь присоветует. Но его даже на это не хватило. Мы сидели с ним в пивной, он выпил полпинты пива, вышел в уборную и не вернулся. Вот тебе и еще урок, подумала я.
Только злость не дала мне разреветься. Я бродила под дождем, и меня брало отчаяние: так вот чем она обернулась, моя первая любовь. А потом я выпила чашку кофе, и меня отпустило. Я даже повеселела. На душе стало легко, уныния как не бывало, жизнь снова казалась прекрасной. Жалко, Рон вот так сбежал, ведь если вечер будет теплый и сухой, как хорошо было бы уйти на вересковую пустошь и лечь вдвоем – вот чего мне тогда захотелось. Я не держала на него зла, во мне с новой силой ожило прежнее чувство к нему, и я подумала: может, с ним происходит то же самое? Но может быть, и нет. Хорошо бы выяснить. Я знала, где он живет, и пошла к нему. Говорят, будто в жизни человека бывают какие-то поворотные пункты, это все глупости, но тут, черт возьми, как раз и сказался крутой поворот. Рон Делф был как-никак поэт, он почуял: когда я опомнюсь от того, как он подло удрал, я скорей всего кинусь к нему домой, и уж он постарался, чтоб я его не застала. Я-то думала, он помчался к матери и она спрятала его где-нибудь подальше на чердаке или в погребе для угля. Но мне не повезло, а ведь пока я туда шла, я так разъярилась, готова была выудить его откуда угодно и выцарапать ему глаза.
Его мать уставилась на меня и спросила, что мне надо. Мать Рона была маленькая, миловидная, ей никак нельзя было дать сорок лет, я даже не поверила, что это и правда его мать, и переспросила. Я думала, она мрачная, долговязая, одета как пугало и лицо у нее будто ржавая сковородка,– а все потому, что Рон наврал мне про нее с три короба, рассказывал всякие ужасы: какой у нее нрав бешеный, да какие нервные припадки – будто они у нее с двадцати шести лет. Говорил, когда ему было четыре года, она у него на глазах задушила живого цыпленка,– ну и вот, стою, смотрю на нее и вижу: все враки, не могла она такое сделать: Я вмиг это поняла и подумала – лучше уйти. Но я уже спросила о нем, и отступать было поздно. «Зачем вам понадобился мой сын?» – спросила она. «Мы с ним уже четыре месяца встречаемся, и я хотела знать, дома ли он»,– ответила я.
«Нет его. А вы, я вижу, очень нахальная особа. Надо же, какая дерзость – заявиться к нему домой! Так я и знала, что этим кончится,
то-то он пропадает с утра до ночи и никогда не скажет, куда идет и что делает».
И тут из дома донесся мужской голос: «Кто там, Элис?»
В эту минуту я почувствовала то, что всегда ощущала нутром: нет у меня ни роду, ни племени, место мое на пороге – меж домом и улицей, и в родном городе нет мне пристанища, ни у одного очага, нет крыши над головой. Нет у меня не только своего дома, нет даже своего «я» – и поделом мне, ведь я всю жизнь принимала как должное, что меня холят, нежат и всячески ублажают, да еще изо всех сил добивалась чего-то такого, чего и на свете нет. Во мне сидели два человека или, может, даже три или четыре, а кто же, если он в здравом уме, станет терпеть у своего очага такую беспокойную компанию.
Я уже готова была потихоньку сбежать, но в ответ на вопрос мужчины она сказала:
«Да просто какая-то потаскушка спрашивает нашего Рона». Уже стемнело, но все-таки улица у меня за спиной была не совсем безлюдна.
«Вот как?-крикнула я.– Ну, так слушайте: это со мной ваш дорогой сыночек Рон пропадает с утра до ночи, и он спал со мной десятки раз. Он сделал мне ребенка, потому я и пришла. А сейчас пойду домой и все расскажу моим родителям, и завтра утром они придут сюда, и мои шестеро братьев тоже, и уж они вам покажут».
Я кричала, плакала, и вдруг меня ожгло болью – это она закатила мне пощечину.
«Я тебе покажу, как позорить нас перед соседями. Сперва докажи, что это Рон сделал тебе ребенка».
Я вырвалась и убежала. Оказалось, я вовсе не беременна. Мы опять стали встречаться, и на этот раз я и вправду забеременела. Тогда я взяла все свои сбережения – пятьдесят фунтов, уложила чемодан и ранним утром, ни с кем не простясь, ушла из дому, даже Рону не сказала, что собираюсь делать,– я и сама этого толком не знала. Это было семь лет назад, ну, а про свою службу в Лондоне расскажу в другой раз. Сейчас я ездила навестить родителей и потратила там все свои деньга, осталась без гроша. На билет они бы мне, конечно, дали, но неохота было у них брать, а добираться на попутных только интересней. Иногда я так езжу просто для развлечения. Я и вообще теперь живу не скучно, но я уже сказала – об этом в другой раз, когда опять встретимся. Наверно, так мало с кем бывает, а вот я с кем бы ни столкнулась в жизни, потом непременно опять встречу. Иногда и рада бы потерять человека из виду, а нипочем не удается.
– Мы так долго тащимся по этой лондонской дороге, я совсем выдохся,-сказал Билл Строу.– Давайте остановимся у первой же забегаловки и опрокинем по стаканчику.
– Блестящая мысль,– поддержала Джун.– После моего печального рассказа мне не мешает подбодриться. Давно я никому про себя не рассказывала.
– Я прямо чуть не разревелся,– сказал Билл.
– Это все прекрасно,– сказал я,– но если я напьюсь, я не смогу вести машину, а мне охота добраться до места в целости и сохранности.
– Ну, это вообще будет чудо,– сказал Билл.– Катафалк-то наш совсем разваливается.
Он, наверно, был прав: посреди рассказа Джун кусок выхлопной трубы отскочил, да с таким треском – меня мороз подрал по коже,
ну, думаю, крышка, а над дорогой взвился и растаял сноп искр. Но все равно я решил: глотнуть спиртного сейчас бы неплохо и стаканчик-другой никому из нас не повредит. А потом, скоро ведь обеденный перерыв, и тогда уж нигде не утолишь жажду.
Тормоза совсем отказывали, и как только Билл крикнул, что впереди подходящая пивная, я отключил скорости и осторожно нажал на тормозную педаль, чтоб вовремя замедлить ход. Но все равно свернул на стоянку еще слишком быстро и ударился об стену, нас здорово тряхнуло, и мои пассажиры возмущенно заворчали.
Здесь кормили обедами, и когда мы вылезли из машины, навстречу нам из столовки вышел уже немолодой, хорошо одетый человех а его тут же стало рвать.
– Отличная домашняя кухня,– сказал Билл.– Но виски-то протухнуть не может. Лучше уж помереть там, чем на дороге.
– А все-таки добра не жди,– возразил я.
Пока мы препирались, тот дядька, бледный и несчастный, нетвердой походкой подошел к своей машине, залез в нее, согнулся над рулем и уснул.
– Этот сегодня наверняка задавит какого-нибудь малыша на переходе,– с отвращением сказала Джун. Мне понравилось, как она строго к этому отнеслась, уж, конечно, она не даст мне выпить лишку. Оглянулся – Билла нет, вошли мы в помещение, а он тут, у самой стойки.
– Я уже заказал,– говорит.– Давай вытаскивай кошелек. Нам подали три двойных виски.
– Сейчас принесу вам бутылку, сэр,– сказал хозяин и нырнул в свой потайной и обширный винный погреб.
– Что еще за бутылка? – спросил я, ожидая самого худшего.
– Не хмурься, друг. Если наша машинка развалится на части вдалеке от цивилизации, надо ж нам будет чем-то согреться и повеселить душу. Будем здоровы!
– Будем здоровы!-подхватила Джун и обернулась, поглядела в угол – там над рюмкой коньяка сидел какой-то человек средних лет.
– Знакомый? – спросил я.
У него было худое, костлявое лицо, розовая лысая голова огурцом, вместо галстука на шее повязан шарф, и он уже дня три не брился.
– Это писатель,– сказала она,– Джилберт Блэскин. |
– Подите поздоровайтесь.
– Я не настолько хорошо его знаю.
Она снова повернулась к стойке и разом опрокинула виски в свое очаровательное горлышко.
– Я про его книги слыхал,– сказал я.– Даже читал одну, только ничего не помню. Отродясь не видал живого писателя, даже издали.
– Ну, вы не очень на него глазейте,– сказала Джун; похоже, ей почему-то не хотелось встречаться с ним сейчас.– Не надо его смущать. Он очень тонкокожий.
– Бедняга! Вот до чего писательство доводит.
Хозяин поставил передо мной бутылку виски «Белая лошадь», положил две пачки «Дымка» и блок «Игроков».
– Налейте-ка еще три двойных,– распорядился Билл и небрежно, как лорд какой-нибудь, подтолкнул стакан к хозяину.
– Извольте, сэр,– угодливо сказал хозяин, а за этими словами сквозила такая бешеная ненависть, что я чуть было не двинул ему ногой по жирной морде. От злости мне даже полегчало, и я с улыбкой расплатился за себя и за своих веселых собутыльников и спутников. А что еще оставалось делать, ведь у меня были деньги, а у них – ни гроша. Не мог же я просто встать и уйти, мы ведь так сдружились в
машине, пока рассказывали про свою жизнь, да и вообще мне от них не хотелось уходить.
– Допивайте,– сказал я,– и выпьем еще по одной. Я закажу.
И я заказал, и хозяин поставил перед нами три стакана, но слов «Извольте, сэр» я от него не дождался.
– Тебе еще рано заказывать самому, повадка не та, – сказал
Билл,– он прекрасно все заметил. .
Я покраснел-надо ж ему такое ляпнуть при Джун. Чертов враль, если б не он, хозяин как миленький величал бы «сэром» и меня.
– Пошли из этой обираловки,– угрюмо сказал я.
Это недолгое пребывание в пивной заставило меня порядком порастрясти свои капиталы, и я рад был унести оттуда ноги и покатить дальше, хотя над рощами и шпилями нависли тучи и уже начинался дождь. Джун устроилась на заднем сиденье и вслух пожалела, что не напросилась в «ягуар» к Джилберту Блэскину,-она не больно надеялась на мою машину, но мы с Биллом от небольшого дождика даже повеселели… Оплошка вышла только раз: я наконец собрался с духом и включил дворники, а они тут же слетели, только мы их и видели. Билл заставил меня остановиться, долго ползал на карачках по мокрой дороге и все клялся – мол, он их разыщет и присобачит на место. Наконец он снова сел рядом со мной и принялся застегивать свое насквозь промокшее пальто.
– Знаешь,– сказал он,– сдается мне, этот гроб не годен для езды.
– Не унывай,– сказал я, когда машина как миленькая двинулась вперед.
Дождь припустил вовсю. Я рулил по дну морскому и ждал – вот-вот покажутся селедки и золотые рыбки станут таращить на меня глаза. Хоть я был пьян, а ехать со скоростью больше тридцати и даже двадцати миль в час боялся, так что водителям грузовиков приходилось сворачивать, обходить меня, и они сигналили и ругались на чем свет стоит. Мы еле ползли, а меня от напряжения прошиб пот, внутри все свело судорогой, глаза буквально лезли на лоб. Билл пробормотал, что желает ехать в приятной компании, растопырился ножницами, как-то немыслимо извернулся и перевалился на заднее сиденье, причем ухитрился не задеть мою руку, державшую руль. Джун было явно не по себе, но, как и мы с Биллом, она закурила, да еще оба они частенько прикладывались к бутылке виски – в общем, в машине стало не продохнуть, хуже, чем в кабаке субботним вечером. До меня вдруг дошло: а ведь их жизнь в моих руках, и я мигом протрезвел.
Через плечо я протянул Биллу карту, сказал – пускай определит, где мы сейчас, а он захохотал, опустил стекло и выкинул ее. Карта, должно быть, развернулась, ее закружило в воздухе и прилепило на ветровое стекло какого-то невезучего малого: две или три машины вдруг яростно засигналили. Это бы ладно, но Билл теперь никак не мог поднять стекло, что-то там заело, и в машину ворвался дождь и стал нас всех поливать. Билл и Джун сидели обнявшись (я видел их в зеркале), и оба затянули «Дождик, дождик, перестань». Я готов был их придушить, да боялся остановиться: а вдруг на хвосте у меня грузовик-ведь он сомнет нас всех в лепешку. Мало мне было ненадежных тормозов, так теперь еще дорога намокла и стала скользкая, точно каток. Из-за дождя ничего не было видно, машины проносились мимо с включенными фарами, а мне нечего было включить: не осталось ни фар, ни подфарников. Надо бы завернуть на первую же придорожную стоянку, положить конец этой сумасшедшей поездке, только неохота слушать, как Билл начнет насмешничать, обзывать меня трусом – вот, мол, кишка тонка. Пока они там довольны жизнью, я не прочь ехать
дальше. Джун по доброте сердечной время от времени зажигала сигарету, подавалась вперед и, точно поцелуй, влепляла ее мне в губы.
Дождь поутих, стало опять светло. Спутники мои от этого что-то приуныли и ненадолго задремали. Я остановился, протер газетой ветровое стекло. Теперь я снова видел дорогу. Их блаженных физиономий коснулось солнце, и похоже было, я мчу в Лондон карету «скорой помощи». С тех пор как я развлекался с чувствительной мисс Болсовер, прошло, кажется, сто лет, я уже не беспокоился, что покинул в беде Клодин, просто любопытно было, что она станет делать теперь, когда я дал стрекача.
Я весь погрузился в эти трогательные воспоминания и вдруг почувствовал: заваливаюсь набок на середину дороги, хотя твердо знал, что по-прежнему сижу в машине. Проснулся и заорал Билл, взвизгнула Джун – нас оглушили скрежет и металлический лязг, казалось, нашу машину раздирают надвое и загодя роют нам всем могилу. Обгонявший нас автофургон притормозил, вильнул в сторону и помчался дальше, даже не поглядел, что с нами стало. Я ударился головой о ветровое стекло, но не разбил его. Призвав на помощь все свое умение, я остановил машину. Мы вылезли – оказалось, правого переднего колеса как не бывало. Билл почесал в затылке. – Плохо дело. Ты не член Автомобильного общества?
– Конечно нет, ты же сам знаешь, черт возьми.
– Откуда мне знать,– возразил он.– Может, просто у нее знак отвалился. Другое-то все отвалилось. Эта развалина, видать, сто лет не была на станции обслуживания. Следующая служба будет заупокойная.
– Хватит тебе зубы скалить, остряк-самоучка. Что будем делать?
– Присобачим колесо обратно и двинем дальше. Перво-наперво разыщем колесо.
Долго искать не пришлось, а потом Джун стояла и предупреждала другие машины, чтобы нас объезжали, а Билл достал из багажника инструменты и домкратом приподнял нашу машину. Все гайки от колеса исчезли, пришлось Биллу отвинтить по гайке у остальных трех колес, чтобы закрепить его. Нарезка болтов малость проржавела, но он сказал – ладно, это не опасно. И уже через полчаса мы снова двинулись в путь.
– На этот раз чуть не загремели,– сказал Билл, запрокинул голову и влил в себя весь остаток виски.
Я судорожно рассмеялся. – Золотые твои слова.
– Колеса сейчас в порядке. Теперь, наверно, взлетит крыша.
– Вряд ли,-успокоил я его.
Колесо, когда слетело, малость погнулось и теперь крутилось плоховато. Я с трудом (минутами просто из последних сил) удерживал машину на нужной стороне дороги. Все в этой поездке идет кувырком, хмуро размышлял я, и так висишь на волоске, а уж если снова хлынет дождь, мы и вовсе пропали. А небо впереди ничего другого не сулило. Когда Билл немного проспался, я спросил, не знает ли он, где можно в Лондоне починить мою машину.
– Лучше сбыть ее с рук.
– А сколько, по-твоему, за нее дадут?
– Да, пожалуй, монет пятьдесят.
– Сдурел,– сказал я и сам заметил, что чувство юмора мне изменяет.
Билл вышвырнул в окно пустую бутылку из-под виски.
– Послушайся моего совета. Брось ее у первой же станции мет-
ро. Поставь где-нибудь, а дальше следуй городским транспортом. А если тебе очень уж надоест жизнь, всегда можешь за ней вернуться.
– Что-то мне здорово не нравится, как ты разговариваешь,– сказал я – Если кто любит каркать, пожалуйста, я не против, только у тебя больно зло все выходит. Да еще делаешь вид, будто остришь, это уж совсем погано.
– Я только хотел тебя подбодрить.
– Машина идет лучше, когда ты помалкиваешь,-сказал я и хотел посигналить: автофургон обгонял нас чуть не вплотную, надо было его отпугнуть, но гудка не последовало – видно, судьба улучила минуту, когда я зазевался, и перерезала ему глотку. – Может, хочешь сесть за руль?
– Э, нет,– быстро ответил Билл.– Тебя она лучше знает. Машина не дура, она чует своего хозяина, а уж тут хозяин ты. Если я займу твое место, она, того гляди, лягнет меня в брюхо.
– А вы водите машину?-спросил я Джун.
– Вожу. Но эту лошадку погоняйте сами, я не захватила с собой шпоры и хлыст.
Короче говоря, как бы худо мне ни приходилось, а надо было самому доводить дело до конца, и я даже стал думать, что справлюсь: ведь до центра Лондона оставалось всего двадцать миль. После Хартфорда стало смеркаться, но я надеялся – мы доберемся до места еще засветло и не надо будет включать мою несуществующую осветительную систему. Время от времени дорогу уже накрывало оранжевым балдахином, но час, когда полагалось зажечь фары и подфарники, еще не наступил. Скоро все затянуло сизой дымкой, как будто, того гляди, пойдет снег. Меня словно отрезало от тех мест, откуда я уехал, и от тех, куда держал путь (да я толком и не понимал куда), а заодно и от Джун с Биллом – они, кажется, неплохо проводили времечко на заднем сиденье. Я был сейчас один в целом свете, и в одиночку, а может,-и напрасно старался не дать машине остановиться или сползти в кювет. Мало радости, когда от тебя одного зависит, чтоб твои друзья не угодили в автомобильную катастрофу. Все эти разговорчики, будто ответственность пробуждает все лучшее в человеке, по-моему, сущая мура. Один мой промах – и мы угодим под колеса какого-нибудь железного дракона, который мчится нам навстречу.
С каждой минутой движение становилось оживленнее, и у ближайшего светофора какой-то лондонский нахал опустил стекло и крикнул мне: пора, мол, покупать новую машину. Я не стал ему отвечать, не было у меня на это сил, зато Билл только что очнулся от освежающего сна на груди Джун, высунул башку из окна (стекла там уже не было) и злобно, как заправский уголовник, отбрил этого парня: заткнись, мол, не то я тебя вместе с твоей купленной в рассрочку жестянкой разнесу вдребезги, только мокрое место останется. Одно нехорошо: облаешь такого вот чистоплюя, который сидит за рулем, а сам не знаешь, вдруг он какая-нибудь шишка… правда, Билла все равно никто не переплюнет.
Светофор, как назло, был еще красный, тот тип распахнул дверцу своей машины и нацелился кулаком в Билла, но Билл увернулся – и кулак слегка задел Джун. Тут зажегся желтый свет, я рванул со всей скоростью, на какую способна была моя старая калоша, и побыстрей свернул во внутренний ряд: этот дюжий нахал теперь готов выпустить из меня кишки, так пускай между нами окажется ряд машин. Это я ловко выкрутился, но скоро его «зодиак» поднатужился, скользнул мимо меня и наподдал мне по тому месту, где положено быть крылу.
– Давай остановимся и проучим его,– предложил Билл – У меня в чемодане бритва. Я его располосую.
– А может, у него тоже бритва,– сказал я.– Сдается мне, эта
твердокаменная башка побывала в разных переделках.
Зеркало мое заполнили широкий нос и сверкающие фары «зодиака», он тут же вильнул, попытался долбануть меня в бок. Билл пробормотал– он вроде где-то видел эту харю, да только никак не вспомнит, где и кто это. А я поймал на себе взгляд этого типа, и мне показалось – такой, раз поглядев на человека, век его не забудет. Машина моя судорожно дергалась вправо-влево, а он, наверно, подумал: это я так ловко, хоть и не больно осторожно, уклоняюсь от его наскоков. Но в кон-це концов я ударился о край тротуара, и колпак одного колеса отлетел и покатился по сточной канаве. Запасных колес у меня не осталось, и я готов был выскочить из машины и прикончить этого типа. Я уже успел его разглядеть: эдакий пижон лет пятидесяти, на пальце руки, что лежала на руле,– толстое кольцо с красным камнем.







