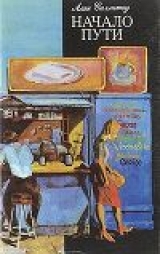
Текст книги "Начало пути"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
А мне стало тошно в четырех стенах, и я пошел прогуляться к вокзалу Виктории – моросил дождь, брызгал в лицо, а я наслаждался, словно это был самый лучший, самый освежающий напиток на свете. Вокзал с его толчеей заманил меня. Ноги сами понесли от платформы к платформе, и наконец я оказался на той, с которой поезда отправлялись во Францию и в Италию. Тут целовались, прощались, отсюда уезжали к побережью. Лондон вдруг стал казаться меньше, незначительней, моя связь с ним – не такой уж крепкой, и я с радостью подумал – ведь на моем счету в банке лежит кругленькая сумма, можно в любую минуту сесть на поезд и уехать хоть на край света, а захочу или понадобится, так и обратно приеду, денег хватит. На душе стало спокойней, и через Итон-сквер я вернулся домой.
Было еще не поздно, мне захотелось кофе, и я пошел на кухню. Пирл не слыхала моих шагов, она стояла у плиты в одних штанишках, даже шлепанцы не надела.
– Сзади у тебя вид что надо,– сказал я.– Но обернись, лапочка, дай поглядеть, какая ты спереди.
Впервые за все время лицо ее хоть что-то выражало – сразу было видно: она обижена и, того гляди, заплачет, я подошел и попробовал ее утешить, но она тут же отвернулась от меня. Спина и бока у нее оказались в шрамах, будто ее почему-то зашивали. Я тронул один шрам, она с досадой стряхнула мою руку. Потом прислонилась ко мне и говорит:
– Почему он не взял меня с собой? Я с ним уже месяц, и за все время мы только один раз выходили вместе – на тот поэтический вечер, где познакомились с тобой.
– Может, он встречается с кем-нибудь еще,– сказал я и поцеловал ее в лоб.– А если и так, подумаешь. Он по-другому не может. Просто он порченый. Ему иначе нельзя, тогда он не мог бы писать свои книги.
– Знаю,– сказала Пирл,– я и сама себе это твержу. Когда я с ним познакомилась, я ничего от него не ждала, а потом, когда так ничего и не получила, стала чего-то ждать. Дура я.
– Не без того,– пришлось мне согласиться.– И вообще я никак не пойму, почему это люди вечно чего-то ждут друг от друга.
– Ну, все не так плохо, как тебе кажется,– сказала она и попы-
талась улыбнуться.– Вот от тебя я ведь ничего не жду, а ты добрый, стараешься меня утешить.
– Подумаешь,– сказал я.– Я иначе не могу. Я сроду такой – со всеми добрый.
Но вообще-то она верно сказала. Мне хотелось лечь с ней вовсе не потому, что она любовница Блэскина. А просто она так долго прислонялась ко мне нагишом, что я стал целовать ее в губы, и она сквозь слезы стала мне отвечать.
– Пойдем, я тебя уложу,– сказал я.
Она кивнула, и я повел ее в спальню. Я подумал, вдруг ей холодно – ведь она плакала,– и прихватил горячую грелку, а она сказала, такая грелка ей ни к чему, и я бросил грелку на пол, разделся, и лег к ней под бок… Немного погодя я выбрался из постели, оделся и пошел на кухню поискать, чем бы подзаправиться, а она осталась лежать, прямо скажем, очень даже довольная.
Я резал салями, и тут она явилась на кухню в золотистом халатике.
– Я тоже голодная, приступ черной ревности прошел.
Я сделал ей саадвич, густо намазал горчицей, и она так на него накинулась, я даже малость к ней охладел – хоть и люблю смотреть, когда женщина ест (меня это даже сильней возбуждает, чем когда она сама расстегивает блузку), да только Пирл Харби лопала уж чересчур жадно, это не по мне. Ну, я повернулся к ней спиной и стал наливать кофе. А она мигом уплела сандвич и, не успел я предложить ей еще, принялась за салями и в два счета все умяла, мне ничего не осталось. Ну, я решил не обижаться – она ведь разочаровалась в любви – в этом все дело, во всяком случае так полагается думать.
– Мой отец работал на сортировочной станции в Суиндоне,– начала Пирл, уютно усевшись у меня на коленях.– В одну, как говорится, прекрасную ночь его убило немецкой фугаской. Мне тогда было шесть лет, похорон не устраивали – хоронить было нечего, Бомба угодила, должно быть, прямо ему в макушку. Через год от бронхита умерла мать, а меня взяли к себе тетя с дядей, у них была и своя дочка, Кэтрин. Дядя, не в пример моему отцу, как говорится, преуспел, он был поверенным в Кауминстере, это такой городишко в Уилтшире. Дядю уважали, но удочерил он меня только из чувства долге и ни капельки меня не любил. Держался так холодно, будто боялся, что я прыгну к нему в постель и введу в грех кровосмешения или стану между ним и его родной дочерью. Поначалу я совсем растерялась и немножко его побаивалась, и мне потребовалось добрых два года, чтобы привыкнуть к нему и приспособиться к новой жизни. Дядя понял, что я его побаиваюсь, и обиделся, ему казалось, это означает, что я недостаточно его люблю, не так, как полагается любить благодетеля.
Он просто не понимал, что я еще ребенок и поступаю бессознательно. Я любила его только в те минуты, когда он что-нибудь мне давал, и это тоже его обижало, он хотел, чтобы я любила его все время, хотя сам-то меня не любил. Но никто из них не знал, что я еще не один год горевала по отцу с матерью, а сказать им об этом я не решилась. Дядя с теткой иногда говорили о моих родителях, но как-то очень спокойно, между прочим, словно мои папа с мамой еще живы, а я просто приехала к ним на каникулы. Понятно, дядя и тетя по-настоящему любили свою родную дочь Кэтрин, и странно было бы винить их за это или надеяться, что они сумеют относиться к
нам обеим одинаково, но мне это было больно. Ища утешения в своем горе, я горячо привязалась к Кэтрин, она была очень добрая и милая и почти все, что получала от родителей, отдавала мне. Примерно через год моя жизнь как-то вошла в колею, и под конец я стала думать о моих новых родителях не без нежности.
Приемная мать была добра ко мне, старалась меня полюбить и во всем мне помогала. Самое же главное – я росла в довольно интеллигентном доме, ничего похожего у моих настоящих родителей быть не могло, и от этого моя жизнь стала гораздо интересней. Здесь было полно книг, их читали, о них говорили. Позже я поняла, что это были все больше книги второсортные, ну, кроме, конечно, таких писателей, как Диккенс, Теккерей, Джейн Остин, Шекспир. Этих я читала с жадностью; я быстро научилась отличать хорошие книги от дрянного чтива. Кэтрин пошла учиться в среднюю школу, и, как только я подросла, я поступила туда же. Будь она моей родной сестрой, я бы из-за нее так не мучилась. Я отдала ей всю любовь, на которую была способна, и всякий раз, как она кем-то увлекалась – все равно, мальчиком или девочкой,– так ее ревновала, так терзалась, кажется, готова была убить себя, лишь бы со всем этим покончить. А она увлекалась всем на свете, и ей хотелось жить только для себя, и ни с кем больше она не считалась.
Родители наши видели, что я совсем на ней помешана, но думали – я просто ее обожаю, как и они сами, ведь она была их единственное родное дитятко. Я не сомневалась, что она куда красивее и обаятельнее меня – я, конечно, преувеличивала, но так мне тогда казалось.
На год или два Кэтрин вдруг стала холодна со мной, и я просто погибала, таяла на глазах, мне даже казалось – я становлюсь меньше ростом, обращаюсь в прах, в ничто. И, однако, училась я прекрасно, чуть не по всем предметам шла первой, все только диву давались. Кэтрин с пеленок привыкла поступать по-своему, и вот несколько недель она встречалась с одним мальчиком. Наверно, они занимались любовью – обычно мы небольшой компанией уезжали в конце недели на велосипедах, и иногда Кэтрин и ее дружок на полчасика исчезали. Потом он уехал со своими родителями и не писал ей – это был первый удар, который нанесла ей судьба. Я раздобыла его адрес и написала ему, как ей худо, но он не отозвался, и, наверно, это к лучшему. По ночам она приходила ко мне в комнату, и горько плакала, и ложилась вместе со мной – так ей было спокойнее. Но длилось это недолго: скоро она о нем почти забыла.
Эта история нас очень сблизила, и Кэтрин полюбила меня так, словно я прошла через все вместе с ней, испытала то же, что и она. Теперь обе мы стали почти взрослые, и родители наши лишь слегка подталкивали нас по дорожке образования, в остальном же предоставили самим себе. Они щедро давали нам деньги на карманные расходы, и мы покупали наряды и книжки, ходили в кино. С мальчиками мы близко не сходились, хотя они на нас заглядывались и в шестом классе многие готовы были с нами подружиться. Но, я думаю, обе мы тогда какое-то время были не в себе. Как одержимые, без конца говорили о книгах, фильмах, картинах, строили планы на будущее. Собирались стать учительницами или врачами и вместе уехать в Африку. То была дивная пора невинности. Мы даже начали изучать суахили, чтобы знать хоть один африканский язык. Расскажи я про все это Джилберту, он бы меня засмеял, а тебе, я знаю, рассказать можно. Родители считали нас образцовыми дочерьми, потому что мы охотно помогали по дому, хотя необходимости в этом не было: мы жили в достатке, у нас была даже горничная-австрийка
и садовник. На каникулы мы уезжали в Уэльс или во Францию – словом, всей нашей семье жилось неплохо.
Мальчик, с которым Кэтрин встречалась за два года перед тем, вернулся, и у них все началось сначала. Через месяц он опять уехал, и тут оказалось – она беременна. Мы не знали, что делать, Она была в ужасе и совсем пала духом. Мы часами обсуждали, как быть: попытаться разузнать, как избавиться от будущего ребенка, или признаться родителям, а может, ничего им не говорить, уехать в университет и родить тайно. Проходили недели, и мы даже составили хитроумный план, как нам обеим покончить с собой. Можно было подумать – я тоже беременна. В конце концов мы поступили так, что хуже не придумаешь. Мы решили бежать из дому.
У нас набралось семьдесят фунтов, и мы решили уехать в Лондон, снять комнату, поступить на службу и все, что заработаем, складывать в общий котел. Можно было подумать, что Кэтрин уже не беременна,– мы так рвались уехать, что почти забыли об этом. Мне взбрело в голову ехать в Лондон на отцовской машине. Иной раз вечером наши родители навещали друзей в другом конце города – значит, на машине мы должны были выезжать вечером. Кэтрин еще раньше немного училась водить машину и водила неплохо. А я не умела.
Мы наспех упаковали чемоданы и сунули в машину, Кэтрин вывела ее через открытые ворота, и мы чуть не расхохотались – таким легким оказался этот первый шаг на пути к долгой и счастливой жизни вдвоем. Был славный летний вечер, до темноты еще далеко, и Кэтрин медленно, но уверенно вела машину по неширокой улице к шоссе. Движения тут почти никакого не было, и Кэтрин так и сияла. Но по щекам ее текли слезы.
«Ты думаешь, мы правильно делаем?» – спросила она.
«А что еще нам остается? – ответила я.– Это ведь чудесно – оставить все позади».
Она улыбнулась:
«Ну хорошо. Пусть так».
Навстречу нам, вверх по склону холма, на небольшой скорости шла машина, ее обгонял какой-то подлый мотоциклист. Он уже промчался мимо, но эта черная фигура, вдруг возникшая перед Кэтрин, отчаянно ее испугала, она вскрикнула, наша машина проскочила через живую изгородь и покатилась под откос. Мир обрушился, меня словно накрыло толстым одеялом, и по нему застучали молотки. Потом я почувствовала, как меня из-под него выволакивают.
Снова надвинулась тьма, и я открыла глаза уже в больнице. Я спросила о Кэтрин, и мне сказали, с ней все в порядке. Она и правда пострадала меньше меня. У меня были сломаны ноги, перебиты ребра да еще сотрясение мозга и всякие ранения помельче. Когда я вышла из больницы, Кэтрин была уже замужем за своим дружком: его заставили признать, что она забеременела не без его участия. Она поселилась с ним неподалеку от Ньюкасла, и теперь у них уже трое детей. Мне удалось увидеться с ней на прощание, но мы с трудом узнали друг друга. Все считали, что это я – злой гений – совратила ее с пути истинного, и я не стала спорить. Пусть так, по крайней мере ей будет что обо мне вспомнить.
С тех пор мы не виделись, не переписывались. Я отбыла свою каторгу в Бристоле, потом давала там частные уроки. А потом мне пришла в голову блестящая идея – написать диссертацию о современном английском романе, но, боюсь, я не двинусь дальше Джил-берта Блэскина, потому что я в него влюбилась. Это не такая уж редкость; я вообще влюбчивая. Я влюбляюсь потому, что мне чего-то
не хватает, а не потому, что есть что отдать, и мужчины это понимают и, как только получат свое в постели, отворачиваются от меня.
– Зря ты расстраиваешься, – сказал я.– Каждый получает чего хочет. Честное слово… хоть обо мне этого, может, и не скажешь.
– Мне жалости не надо,– сказала Пирл и так улыбнулась, что сразу стало ясно: никакой она не циник и вовсе не махнула рукой на свою жизнь, хоть а старается всех в этом убедить.
– А я не думаю тебя жалеть,– сказал я.– Мне только тех жалко, кто живет впроголодь, и еще – кто неизлечимо болен.
– Как это верно! Хорошо бы почаще такое слышать. Эти слова были мне как маслом по сердцу.
– Я правильно говорю,– продолжал я.– Первым делом надо заботиться о теле. Если оно пропадет, тогда уж ничего не останется. А если человек сыт и здоров, глядишь, все еще как-нибудь да образуется.
– На словах-то это легко,– сказала она.– Но все равно ты прав. Я знаю.
– Не сердись на мою трепотню,– сказал я,– В каком-то смысле я еще похуже Джилберта. А только я тебе правильно говорю.
– Ты это чаще повторяй, может быть, я наконец поверю. Иногда я готова кинуться в пропасть: с кем ни заговорю, все соглашаются, что все на свете ужасно, и тогда я не понимаю, зачем жить.
Я встал – решил вскипятить воду для кофе.
– Если я когда-нибудь напишу книжку, я ее назову «Как жить спокойно и помереть легко».
Она с таким жаром стиснула мою руку, будто в ней и впрямь вспыхнула любовь.
– Джилберт не знает, что я его люблю. И я не стану ему говорить. Стоит сказать человеку, что ты его любишь, и он начинает топтать тебя ногами.
– Так ведь если не сказать, он, может, никогда и не узнает.
– Может быть, он сам поймет,– с надеждой сказала Пирл.– Я ему это сколько раз по-всякому показывала. Сейчас мне так плохо – хуже некуда, и все равно кажется, может, все еще повернется к лучшему, и вот тут-то я пугаюсь не на шутку – ведь когда надеешься на лучшее, тогда жди беды.
Она так неожиданно все поворачивала и выворачивала, меня аж в пот бросило, мне уже мерещилось: она рассуждает как нельзя верней.
– Я вечно сомневаюсь в себе и своих чувствах,– продолжала она,– но только для того, чтоб лучше понять себя, а вовсе не затем, чтобы себя погубить…
– Зато это верный способ погубить других,– сказал я, пожалуй чересчур резко.
Вошел Джилберт, плюхнулся на стул, и я понял: пьесу он смотрел никудышную.
– Не пьеса, а кухонная лохань. Кусочек жизни,– заявил он.– Полно грязной посуды. И даже не запускают друг в друга немытыми тарелками. А диалог отличный. Самый что ни на есть новейший жаргон.
Пирл положила руку ему на плечо, дала отпить кофе из своей чашки.
– Покормить тебя?
– Ужинал с типом, который сочинил эту пьесу. Он считает, что мои романы – хлам, а я считаю, что его пьесы – вздор, так что мы
потопили наше взаимное расположение в вине. Я хотел проявить сочувствие, сказать, что оба мы все же писатели, но он принялся рассказывать, как он обставляет свой новый дом, и рассуждал, какой лучше купить автомобиль.
– Но ведь у тебя-то уже есть и дом и автомобиль,– напомнила ему Пирл, по-моему совсем некстати.
– У него тоже. Но ему надо еще и еще. Это бы все не беда, только пускай бы он написал пьесу со счастливым концом, а уж мне предоставил писать мои трагические романы. Хотя, понятно, нельзя рассчитывать, что мне удастся монополизировать рынок на веки вечные. Ужас какой я эгоист. Ну, а вы чем тут без меня занимались? Предавались блуду в моей лучшей постели?
– Я часа два бродил как тень вокруг вокзала Виктории, а потом прогулялся по Вест-Энду.
– Сегодня я получил письмо, оказывается, один мой поклонник напечатал мой четвертый роман цветным шрифтом Брайля, так что уже сам вид этого издания будет радовать глаз читателя. Представляете? Но потом кто-то сказал этому издателю не от мира сего, что слепые все-таки не видят, и тогда он с отчаяния застрелился. Я ему сочувствую: ведь он пытался осветить мирскую тьму, и хотя, как выяснилось, он был не в меру храбр и безумен, попытка эта достойна похвалы. Да воссияет свет в ваших сердцах! Я – за то, чтобы убедить людей, вопреки их инстинкту, что жить стоит. Не отчаивайтесь, говорит Джилберт Елэскин. Предоставьте отчаяние ему. Он облегчит бремя ваше. Но кто же, о господи, облегчит бремя его, Джилберта Блэскина? Жизнь взваливает на его плечи двойной груз, леди и джентльмены, но ему не следует этого замечать, ибо он помогает вам не замечать вашей ноши.
В театре я видел свою жену с оравой приятельниц. Я ее не бросал, но устроил так, что она бросила меня. Я годами мечтал от нее уйти и все не мог решиться, тогда я превратил ее жизнь в сущий ад и сбежать пришлось ей, не то она свихнулась бы или удавилась. Я хотел от нее избавиться, чтоб развязать себе руки и жениться на своей любовнице. Но как только жена ушла, я совершенно охладел к любовнице. Не спрашивайте почему. Пули самоанализа не проникают так глубоко. Или, может быть, проникают – у героев, которых я вызываю к жизни, но не у меня. Итак, я порвал с любовницей и попросил жену вернуться. А она рассмеялась мне в лицо – она, оказывается, давным-давно хотела от меня уйти, но не могла, пока я ее не вынудил. И вот я живу в этой квартире, полной воспоминаний, и их не может изгладить из моей памяти даже моя восхитительная и пламенная Пирл. А уж если не может она, значит, не сможет никто. Самое глупое, что я вовсе не люблю свою жену, и, вернись она, я в первый же месяц, куда там – в первую же неделю, постарался бы снова от нее отделаться. Ей-богу, Майкл, жизнь – штука не простая. А если вам кажется иначе, лучше сразу прыгайте в унитаз и спустите за собой воду. Говорят, в Нью-Йорке в канализационных трубах полно крокодилов, хозяева спускают туда своих любимцев, когда надоест с ними нянчиться.
Так он разглагольствовал и время от времени прополаскивал внутренности коньяком, а под конец свалился со стула, и нам пришлось перетащить его в спальню и уложить в постель.
А потом я сидел у себя в комнате и раздумывал, как бы отсюда смыться. Джилберт еще не читал свой роман после машинки. А прочтет – его хватит удар. И не потому, что я плохо над ним потрудился. Печать четкая, чистая, бумага между строк белая, не перемазанная, и кой-кто, может, и впрямь подумает, что это роман. Поначалу
я принялся честно перепечатывать рукопись Джилберта, но посередке заскучал, а потом герой в Париже уселся на улице за столиком кафе и начал раздумывать, куда ему теперь податься – к подружке в Лондон или к дружку в Ниццу… Ну, тут я достал с книжной полки у себя за спиной роман Генри Филдинга «Родерик Рэндом» и перепечатал оттуда двадцать страниц, они, по крайней мере, подбавили толку блэскиновской малохольной муре. Я впечатал целые страницы и из других романов, хоть понимал, конечно,– это не совсем то, чего надо было автору. На эту работу я потратил больше трех недель, Блэскин, пожалуй, обозлится и выкинет меня вон,– так уж лучше я снова стану хозяином своей судьбы и унесу ноги, пока он еще не понял, что я натворил. Но, может, я зря спешу, может, набраться храбрости и обождать, может, он вовсе и не станет сейчас перечитывать свой роман, а прямо отошлет его издателям. Там, наверно, ничего не заметят и – рады-радешеньки -издадут: наконец-то проза мистера Блэскина стала богаче и полнокровнее, ведь они втайне надеялись на это с тех пор, как по ошибке приняли его первый роман за настоящую литературу. Может, рецензенты даже расхвалят это сочинение за новые достоинства. И тогда ему будет за что меня поблагодарить… если я до тех пор не смоюсь.
Я все-таки надумал уходить, но не среди ночи: подыскивать место для следующего ночлега всегда лучше с утра, когда ты как следует выспался. И вообще мне нужны свои четыре стены, чтоб приходить и уходить, когда захочу. Я вон как долго отсиживался у Блэскина – Моггерхэнгер, верно, уже махнул на меня рукой, даже если он тогда и вспомнил обо мне и воображал, будто сумеет меня отыскать. Притом Блэскин до сих пор не заплатил мне ни гроша, а ведь торжественно обещал пятьдесят монет в неделю. Раза два я ему ясно и понятно напоминал про деньга, но хоть он из тех, кто всегда все замечает и всякий намек ловит на лету, почему-то он совсем не понял моих слов или пропустил их мимо ушей.
По моим расчетам, в доме все уже спали, я выскользнул из своей комнаты и прокрался в прихожую, где висело его пальто. Я взял две бумажки по пять фунтов – за работу над его романом мне причиталось никак не меньше. В бумажнике было шестьдесят фунтов, и можно было бы взять их все, но в глубине души я знал: если Блэскин решит, что его несправедливо обчистили, он сообщит в полицию и глазом не моргнет, ведь он из тех, кто добрый, пока ты ему любопытен. А дальше – как в джунглях: идут в ход клыки и когти.
Выбраться из квартиры надо, пока и он и Пирл еще спят, и, чтоб сэкономить время, я с вечера уложил чемодан. Потом выключил свет, раздернул занавеси, стоял у окна и смотрел на дома напротив. Вон женщина в белой рубашке наклонилась, мужчина притянул ее к себе, и обоих уже не видно. В другом окне громадный пес, ростом с человека, прижал к стеклу большущую башку, вдвое больше человеческой, и вроде лает, только мне не слыхать, и царапает раму лапами,– видно, сидит взаперти и ему никак не вырваться. Я поглядел в сторону, на другие окна. Интересно, многим ли надо вставать спозаранку и отправляться на работу? А всех остальных я сейчас ненавидел, будто во всем мире у одного меня только есть право бездельничать. Я всегда жалел только тех, кто голодает, и сам шел работать, если иначе подох бы с голоду. А вот сейчас глядел на эти окна – их, верно, были тысячи, из-за них даже неба было не видать – и чувствовал: прежняя уверенность, что я один вправе бездельничать,
рассыпается в прах. На что оно мне одному, это право? Оно отгораживает меня от людей, которых мне всего сильнее хочется узнать. Но вот беда: чтоб соединиться с ними, я должен гнуть спину, наживать горб. А ведь чем дольше я буду жить как живу, тем трудней мне это будет, но в то же время я дорого бы дал, чтоб понять, хватит ли у меня мозгов держаться подальше от безликой, серой массы и не пасть так низко, как Джек Календарь. Присоединиться к ним проще простого: включи свет у себя в комнате и встань, заточи себя в прямоугольник окна, и тогда те, напротив, увидят – ты такой же узник, как и они. И я лег спать в темноте.
Через несколько часов:: за окном проклюнулось что-то похожее на утро, и я проснулся; пить хотелось жутко, но я знал: придется подождать, пока выберусь отсюда и найду какое-нибудь кафе. Я в два счета оделся, огляделся напоследок и с чемоданом в руке двинулся к двери. Меня трясло – видно, за последние месяцы слишком часто приходилось сматывать удочки, и еще вопрос, хотелось ли мне сейчас уйти. Меня ведь даже не гонят… Да это неважно, все равно я ухожу, сейчас же, чуть свет, и точка.
За дверью стоял какой-то человек, он уже собирался позвонить, но увидел меня и вроде обалдел не меньше моего. Он был в светлом коротком плаще, высокий такой, складный, только волосы уже редеют.
– Вам чего? – спросил я как можно тише.
– Мог желает свой фитиль обратно,– прошепелявил он. Я ничего не понял.
– Вы ошиблись адресом.
– Меня послал Моггерхзнгер. Он желает получить свою зажигалку.
– У меня ее уже нет.
– Он желает свой фитиль обратно.
– Нет у меня этой штуки.– И я захлопнул за собой дверь.– Посторонитесь-ка. Дайте пройти.
Тут он здорово меня толкнул – я даже чемодан выронил,
– Мистер Моггерхзнгер требует свой фитиль.– Он вытащил из кармана опасную бритву, раскрыл и ухмыльнулся.– Он велел поставить на тебе отметину, коли не отдашь.
Сверкнула сталь, я понял намек, нагнулся, вмиг открыл чемодан и стал рыться под кипой рубашек и грязного белья.
– Я как раз собирался зайти к нему сегодня и отдать,– сказал я и сунул этому типу зажигалку.
Он нажал, вспыхнуло пламя, и он уставился на него, будто готов был до завтра глазеть на эдакую красоту. Налюбовался, еще раз ухмыльнулся, погасил зажигалку и сунул в карман, а в другой руке все время держал бритву.
– Порядок? – спросил я как мог спокойнее и через силу улыбнулся.
Он поднял руку и аккуратно так чиркнул бритвой у меня перед носом, даже кожу не задел. Я вскрикнул, а он заржал, поддал ногой чемодан – барахло мое рассыпалось по ступеням – и так прямо по вещам и протопал.
Я подобрал свои пожитки и затолкал обратно. Уходя, этот гад наступил на тюбик зубной пасты, она выстрелила белой струей и перемазала ковер на лестнице. Я весь был в холодном поту, руки тряслись, никак не удавалось засунуть в чемодан галстук. Я стал на колени, подбирал оставшиеся вещички и думал: хорошо бы вернуться в квартиру, уснуть, а потом проснуться и за завтраком решить, что
нечего мне отсюда уходить, что мне просто привиделся дурной сон. Но квартира заперта, ключей у меня нет, да и все равно не стал бы я возвращаться.
Чем дольше я сидел на лестнице, тем легче становилось на душе, и наконец я заставил себя закрыть чемодан и встать. Нащупал в кармане сигареты и спички, почувствовал – ноги меня еще не слушаются– и не спеша закурил, будто отдыхал перед дальней дорогой. Часы показывали восемь, меня мутило, да и вообще пора было завтракать; я подхватил чемодан – теперь наконец можно идти.
В воздухе отлично пахло дымом, бензином, Джилберт Блэскин сказал бы, наверно,– пахнет самой жизнью. Люди добрые уже шли на работу, а я шагал с чемоданом в руках по Кингз-роуд и желал им удачи и долгих лет жизни. Я отыскал закусочную, уплел бекон, блинчики, выпил кофе и опять почувствовал себя здоровым и полным сил, страх перед моггерхэнгеровской карательной экспедицией из одного человека совсем прошел, я взбодрился и даже малость обнаглел. Раскрыл план города и задумался: где теперь буду жить, в каких четырех стенах окажусь к вечеру и найдутся ли такие стены? На счету в банке у меня двести пятьдесят фунтов, так что я кум королю, хоть и не на вечные времена. Может, пойти в гостиницу? Нет, это уж на самый крайний случай, если на ночь глядя вовсе негде будет приклонить голову, разве что прямо на мостовой. Я шел в сторону вокзала Виктории, вещей у меня было кот наплакал и чемодан, считай, ничего не весил, а все равно таскать его по улицам неохота. Человек с чемоданом – это либо приезжий, либо вор, либо простофиля, которому на улицу и выйти-то опасно. С чемоданом в руках не пощеголяешь. Даже если он ничего не весит, все равно будешь бросаться в глаза и уже нипочем не растворишься в толпе.
Я оставил его в камере хранения на вокзале Виктории и зашагал по улицам, которые еще не утратили для меня свежести и привлекательности. Все магазинчики в Сохо были открыты, вдоль тротуаров – сплошь ручные тележки и всюду – толпы утренних покупателей. Я купил испанскую газету, которую не мог читать, с сигарой в зубах уселся в какой-то итальянской закусочной и в перерывах между затяжками отхлебывал черный кофе, Всякий раз, как я пускался в бега или просто покидал старое место, я непременно надевал выходной костюм. Уж не знаю почему, но от этого я чувствовал себя лучше. А раз в таких случаях он прибавлял мне бодрости духа, значит, ясно: бездомность мне совсем не но нутру и надо поскорей что-нибудь придумать. Похоже, Моггерхэнгер мне враг (может, утренняя угроза – только начало) и лучше бы мне на месячишко смотаться из Лондона, не показываться там, где ему принадлежит чуть не половина клубов.
Но уж очень неохота было расставаться с Лондоном, и оказалось, я хорошо сделал, что не уехал: днем я зашел пообедать в итальянский ресторанчик (стоило мне оказаться без места – и у меня разыгрывался волчий аппетит) и увидел – в глубине комнаты за отдельным столиком спиной ко мне сидит человек и что-то уж больно знакомый у него затылок. Я стал ждать, чтоб человек обернулся, но он все время смотрел в сторону, вроде не хотел никому показываться. Несколько раз я думал: вот сейчас обернется, скучно же без конца пялиться на стену, а перед ним больше ничего и не было. В какой-то миг мне даже видно стало сбоку его лицо, он как-то очень знакомо повернул голову, а голова – точь-в-точь репка, и уж наверняка я вижу ее не первый раз. Я ел итальянский овощной суп, густо заправленный лапшой, и все соображал, чья же это голова репой и как
звать этого парня. Рылся я, рылся в памяти, перебрал даже все фильмы за последние десять лет – может, вспомнится лицо какого-нибудь актера и подскажет, кто он такой.
Похоже, он так никогда и не обернется – и я взял и уронил нож, но кругом была прорва народу, все ели, разговаривали, и он ничего не услыхал. Рядом с ним стояла вешалка, а на ней дорогое легкое пальто, шляпа и кашемировое кашне. Мне принесли телятину, а он, оказалось, меня опередил, официант уже поставил перед ним кофе. Он наклонился над столом – видно, читал газету,– и над его головой поднимался сигарный дым. Он спросил счет, и официант уж так к нему подскочил, сразу было видно – это постоянный клиент и на чаевые не скупится. Я хотел перехватить хоть несколько слов, да не удалось. Он встал, официант подал ему пальто, и только он обернулся – сердце у меня подпрыгнуло.
Я окликнул его по имени – не слишком громко, чтоб он один услыхал, и он поглядел в мою сторону с таким видом, будто я его облаял. Так вот это кто – Билл Строу, всезнайка и обжора, который прикатил со мной в Лондон. Он был в светло-сером костюме, в шелковой рубашке и темном в крапинку галстуке, в зубах все еще торчала сигара. Тогда, помню, лицо у него было небритое, по-тюремному бледное, а сейчас такое сухощавое, загорелое, сразу видно, силы бьют ключом и оттого он помолодел на десять лет. И все же это, без сомнения, был он, мой друг-приятель Билл Строу, с которым мы вместе добирались до Лондона.
Он подошел ко мне поближе, глянул своими серыми глазами и улыбнулся.
– Привет, красавчик, я уж думал, больше мне тебя не видать. Давненько не встречались.
– Сто лет,– сказал я и пожал протянутую руку.– Садись, выпей еще кофе,
– Выпью,– согласился он.– А ты глотни коньяку – я угощаю.
– Тебя теперь не узнать,
– Таким, как тогда, я уже не буду,– сказал он. Он и говорил-то теперь по-другому. Взгляд у него стал какой-то отрешенный – не поймешь, о чем он думает.– Нет, таким, как на Большом северном тракте, когда ты меня подобрал, ты меня больше не увидишь.
– Прости-прощай прежний Билл Строу,– сказал я, да, видно, чересчур насмешливо – его даже передернуло.







