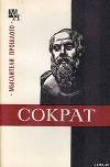Текст книги "Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней"
Автор книги: Абдусалам Гусейнов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 48 страниц)
И потому сила эта не может хотеть от нас того, что неразумно и невозможно: устроения нашей временной, плотской жизни, жизни общества или государства. Сила эта требует от нас того, что одно несомненно, и разумно, и возможно: служения царствию божию, т. е, содействия установлению наибольшего единения всего живущего, возможного только в истине, и потому признания открывшейся нам истины и исповедания ее, того самого, что одно всегда в нашей власти.
«Ищите царствия божия и правды его, а остальное приложится вам». Единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установлению царства божия. Служение же это может совершиться только через признание истины и исповедание ее каждым отдельным человеком.
«И не придет царствие божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: царствие божие внутрь вас есть».
А. Швейцер
Возникновение учения о благоговении перед жизнью и его значение для нашей культуры
Предлагаемый очерк собственного духовного развития, являющийся вместе с тем изложением сути учения о благоговении перед жизнью, был написан Альбертом Швейцером в апреле 1963 г. Перевод осуществлен мною по изданию: Schweitzer A.Werke. Leipzig, 1971. В. V, S. 172–191.
С раннего моего детства я ощущал сострадание к животным. Еще до того как начал посещать школу, мне казалось совершенно непостижимым, что я в своей вечерней молитве должен молиться только за людей. Поэтому, как только моя мама, помолившись со мной и поцеловав меня, уходила со словами «спокойной ночи», я втайне начинал уже свою собственную молитву во имя всех живых существ. Она гласила: «Господи, храни и спаси все, что дышит, убереги от зла и позволь им спокойно спать».
Глубокое впечатление оказало на меня одно переживание семи– или восьмилетнего возраста. Мой друг Генрих Бреш и я сделали рогатки, из которых можно было стрелять маленькими камнями. Дело было ранней весной, во время страстной недели. В одно солнечное воскресное утро друг говорит мне: «Давай, пошли в виноградник, постреляем птичек».
Это предложение мне покачалось ужасным, но я не посмел противоречить ему из-за страха быть осмеянным.
Мы подошли к голому дереву, на котором безо всякого страха перед нами птицы распевали свои любовные песни. Крадучись, словно индеец на охоте, мой друг вложил кусок кремня в резинку своей рогатки и потянул ее. Подчиняясь его повелительному взору, я, испытывая страшные угрызения совести, проделал то же самое.
В это же мгновение в солнечных лучах, сквозь пение птиц я услышал звон церковного колокола. То был первый звон, который на полчаса опережает основной звон и который сзывает верующих в церковь.
Для меня это был голос неба. Я выбросил рогатку, разогнал птиц, чтобы они спаслись и от рогатки моего друга, и убежал домой.
И каждый раз, когда на фоне голых деревьев и весеннего солнечного сияния звонят колокола страстной недели, с волнением к благодарностью я думаю о том, как тогда они прозвонили мне в сердце заповедь: «Не убий».
Начавшееся во время моей юности движение в защиту животных произвело на меня большое впечатление. Наконец-то люди отважились публично провозгласить, что сострадание к животным есть естественный элемент человечности и эту истину не следует скрывать. У меня было впечатление, что во тьме идей появился новый свет и он будет становиться ярче.
В 1893 г. я начал изучать философию и теологию в Страсбургском университете. В эти годы, на исходе столетия, нас, студентов, охватили удивительные переживания, связанные с противоречивыми сочинениями Ницше и Толстого.
Фридрих Ницше (1844–1900) едва окончившим университет юношей был призван в Базель профессором классической филологии. Но он не ограничивает себя исследованием лишь классической культуры и ее духа, а занимается проблемами культуры и ее духа вообще. С 1880 г. его критика направлена против европейской культуры, обусловленной греческой философией и христианством, против господствовавшего в ней духа слабых и трусливых людей. По мнению Ницше, именно слабые и трусливые создали этику, предписывающую любовь к человеку. Они создали ее, чтобы найти в ней защиту и надежду на счастливое бытие.
Однако этика истинной культуры, как полагал Ницше, требует гордого и мужественного утверждения жизни. «Сверхчеловек» связывает себя не с «рабской моралью», а с господской моралью «воли к власти».
Это новое понимание сущности культуры и этики, возвещенное Ницше с большим пафосом, имело огромное воздействие па людей того времени, особенно на молодежь.
Одновременно тогда, на закате столетия, стали известны произведения Толстого (1828–1910). Русский писатель и мыслитель представил в своих романах и повестях иное, отличное от ницшеанского, воззрение. Оно было для него глубоко выношенной и продуманной истиной. Его произведения показывали путь, по которому он пришел к подлинной человечности, и позволяли вместе с ним пройти его.
Так мы, молодые люди конца XIX в., столкнулись с двумя различными мировоззрениями.
Я ждал, что религия и философия совместно и энергично выступят против Ницше, будут противостоять ему. К моему глубокому разочарованию, этого не случилось. Мне казалось, что они не хотели, не стремились обосновать этику с той глубиной, которую требовала борьба, развернутая против нее Ницше.
Будучи студентом последних лет столетия, я решил посвятить себя вопросу: действительно ли наша культура обладает достаточной этической энергией? Это привело меня к необходимости заняться проблемой культуры и этики в том ее виде, в каком она обсуждалась философией начиная с 1850 г.
Из появившихся в этот период в Европе философских произведений я заключил, что культура и этика не воспринимаются как проблема, а рассматриваются как состоявшееся и достойное заимствования духовное достижение.
Я не мог также отделаться от впечатления, что этика, считавшаяся подлинной, не предъявляла человеку и обществу высоких требований. То была «успокоившаяся» этика.
Когда в конце века во всех областях жизни началось подведение итогов достигнутого, с тем чтобы обозначить и оценить его, то происходило это с непонятным для меня оптимизмом. Все были склонны думать, что мы продвинулись вперед не только о области знаний, но и в сфере духовного и этического, достигнув здесь невиданных высот и необратимых результатом. Мне же представлялось, что в духовной жизни мы не только не превзошли предшествующее поколение, но, напротив, даже утратили многое из накопленного им духовного богатства.
Глубокое воздействие возымело на меня зафиксированное при разных обстоятельствах наблюдение: негуманные мысли, когда они выражались публично, не отвергались и не осуждались, а воспринимались спокойно. «Реальная политика» вызывала уважение. Ницшеанская «воля к власти» начинала играть свою роковую роль. Пароль «реальная политика» расчистил ей путь. Духовная и душевная усталость, как мне казалось, овладела поколениями, гордившимися трудом и достижениями.
Все больше и больше я склонялся к тому, чтобы заняться культурой и этикой последних десятилетий XVIII столетия.
Затем постепенно я пришел к необходимости приступить к обстоятельному критическому исследованию духовного состояния времени, в котором я жил. Работа должна была носить название: «Культура и этика». Но так как мы, па мой взгляд, переживали период духовного упадка, то у меня возникло искушение назвать ее «Мы эпигоны».
Лето 1900 г. я провел в Берлинском университете. В доме вдовы великого эллиниста Эрнста Куртиуса я мог часто видеть известных берлинских ученых. Однажды за послеобеденным кофе, как бы подводя итог ранее начатой дискуссии, один из гостей – членов Прусской академии сказал: «Все мы лишь эпигоны». Эти слова промелькнули передо мной как молния. Следовательно, я не единственный, кто сознает, что наше время есть время эпигонов!
Я, это было в начале столетия, решил просмотреть философские произведения по этике последних десятилетий под углом зрения того, что в них говорится о нашем отношении к живым созданиям.
Как оказалось, многие произведения рассматривали это отношение как нечто второстепенное, в некоторых же из них авторы считали своим долгом извиниться за то, что они призывали выказывать сочувствие существам, которые находятся на иной, более низкой, нежели человек, ступени развития. Едва ли в каком-нибудь произведении можно было прочитать, что сострадание к ним требует большого внимания.
Но я был убежден, что доброта по отношению к животным должна занять определенное место в философской этике. Этой последней, полагал я, настал час прийти на помощь защитникам животных.
Ранней весной 1913 г., завершив изучение медицины, я вместе с женой отправился во Французскую Экваториальную Африку, чтобы открыть госпиталь в миссии, основанной в 1872 г. американским пресвитерианским миссионерским обществом. Это было время борьбы с сонной болезнью, которая производила в Экваториальной Африке страшные опустошения.
В своем багаже я вез достаточно философских произведений, чтобы можно было продолжить работу «Мы эпигоны».
В августе 1914 г. началась первая мировая война. Как эльзасцы, мы с женой относились к немецкой национальности. До войны это не помешало нам прибыть во французскую колонию и основать там госпиталь. Но теперь мы оказались в бедственном положении, мы стали подозрительны.
Вечером первого же дня войны было объявлено, что мы должны считать себя пленными и обязаны оставаться в доме, отказавшись от какого-либо общения, будь то с белыми или черными. Перед нашим домом была выставлена охрана, состоящая из унтер-офицера и четырех солдат.
Работа в госпитале мне была запрещена, и у меня поэтому появилось время сосредоточиться на предмете, который занимал меня многие годы, а из-за начавшейся войны стал особенно актуальным, – проблемой «культура и этика».
Разразившаяся война, несомненно, явилась выражением упадка культуры. О названии книги «Мы эпигоны» уже не могло быть и речи. Почему только критика культуры? Почему надо ограничиваться лишь анализом нашего эпигонства? Время требовало созидательной работы.
Я начал поиски духовного явления, обусловившего бессилие этической культуры. Однако в конце ноября домашний арест был снят, это случилось главным образом из-за недовольства и белых и черных, которых без каких-либо очевидных оснований лишили единственного врача, да и друзья в Париже ходатайствовали перед правительством о нашем освобождении. Я вновь должен был приступить к работе в госпитале и искать время для занятий над интересующей меня проблемой.
Теперь я сосредоточился на фундаментальном вопросе: как может возникнуть более глубокая и живая этическая культура?
Проходили месяцы, а я не мог продвинуться в его решении ни на шаг. Все, что я знал об этике из философии, казалось обманчивым.
Рукописные наброски работы были со мной, когда мы с женой в конце лета 1915 г. отправились на море в Кап-Лопус. Наша поездка была вызвана состоянием здоровья жены. Но в сентябре 1915 г. я получил известие, что на миссионерском пункте Нгомо заболела жена швейцарского миссионера Пелота и ждет моего приезда.
Чтобы добраться до Нгомо, я должен был плыть двести километров против течения по реке Огове. Единственным быстрым средством передвижения, которым я мог воспользоваться, был готовый к отплытию буксир с двумя гружеными баржами, Кроме меня на борту были только негры. Поскольку из-за спешки я не запасся провизией, то они позволили мне есть вместе с ними из общего котла.
Медленно шли мы вверх по реке. Было сухое время года, и мы должны были искать путь между большими песчаными отмелями.
Я сидел на одной из буксирных барж и исписывал несвязными предложениями листок за листком единственно только для того, чтобы сконцентрироваться. Усталость и беспомощность парализовали мою мысль.
Вечером третьего дня пути, когда мы плыли вдоль острова, по отмели, слева от нас, брели четыре бегемота со своим потомством. Тут у меня, охваченного унынием и больной усталостью, промелькнули слова: «Благоговение перед жизнью», слова, которые я никогда ранее не слышал и не читал. Вскоре я понял, что они заключали в себе решение той проблемы, которой я мучился. Мне пришло в голову, что этика, имеющая дело только с нашим отношением к другим моделям, неполноценна и не может обладать достаточной энергией.
Ибо такое под силу только этике благоговения перед жизнью. С ее помощью приходим мы к необходимости так строить отношения, соучаствовать в судьбе и людей и всех находящихся в поле нашего зрения, чтобы настолько насколько это возможно не навредить им и быть готовым оказаться рядом с ними в их бедах; очень скоро мне стало ясно, что эта элементарная этика обладает совершенно иной энергией, нежели та, которая имеет дело только с людьми.
Этика благоговения перед жизнью позволяет нам достигнуть духовного отношения к универсуму. Самоуглубление, переживаемое нами при этом, дает нам и волю и способность создать духовную этическую культуру, благодаря которой мы в большей степени, чем прежде, укореняемся и действуем в мире. Этика благоговения перед жизнью делает нас другими людьми.
Я не мог представить себе, что путь к более глубокой и сильной этике, который я тщетно искал, откроется мне, как во сне.
Теперь я был способен приступить к написанию запланированной работы о культуре и этике. С наступлением ночи мы прибыли в Нгомо. Два дня я лечил больную жену миссионера. Вскоре нам представился случай вновь вернуться в Ламбаренс.
Здесь я начал наброски книги о культуре и этике. План был простой. В первой части я намеревался дать обзор взглядов на культуру и этику выдающихся мыслителей прошлого и настоящего. Во второй части я хотел рассмотреть сущность этики, благоговение перед жизнью и его значение для культуры.
Фундаментальный факт сознания человека гласит: «Я есть жизнь, которая хочет жить среди жизней, которые хотят жить».
Мыслящий человек переживает необходимость высказывать перед всеми волями к жизни такое же благоговение перед жизнью, как и перед своей. Он переживает другие жизни в своей собственной. Добро для него состоит и том, чтобы сохранять жизнь, способствовать жизни, поднимать развивающуюся жизнь на более высокую ступень. Зло – чтобы уничтожить жизнь, вредить жизни, сдерживать развивающуюся жизнь. Это является «мыслепринудительственным», универсальным, абсолютным принципом этического. Предшествующая этика была неполной, поскольку она верила в то, что может ограничиться лишь отношением человека к человеку. В действительности же речь идет о том, как человек относится ко всем жизням, к жизням вовлеченным в сферу его существования. Человек этичен только тогда, когда для него священна жизнь как таковая и человеческая, и всех созданий.
Только этика, ощущая бесконечную ответственность перед всем, что живет, может быть обоснована мышлением. Этика отношения человека к человеку не замыкается на себе, она должна быть выведена из чего-то более общего. Благоговение перед жизнью, к которому мы, люди, должны стремиться, заключает в себе все: любовь, преданность, сострадание, сорадость, соучастие. Мы должны освободить себя от бездумного существования.
Но все мы, однако, подчинены загадочной и жестокой судьбе, побуждающей нас сохранять жизнь на костях других жизней, заставляющей нас постоянно быть виновными в разрушении и уничтожении жизни.
Как этические существа, мы стремимся неуклонно, насколько позволяют ним нити силы, противостоять этой необходимости. Мы жаждем быть гуманными и способствовать избавлению от страданий.
Благоговение перед жизнью, возникающее в мыслящей воле к жизни, содержит во взаимопроникновении и этику, и жизнеутверждение, исходит из осуществления прогресса и созидания ценностей, которые служат материальному, духовному и этическому возвышению человека и человечества.
В то время как бессмысленно миро– и жизнеутверждение блуждает в идеалах знания, умения и властвования, идеал подлинного и глубокого мышления является этическим завершением человека и человечества, наступлением культуры, которая жаждет мира и отрицает войну.
Только мышление, в котором господствует дух благоговения перед жизнью, способно открыть наступление эры мира в нашей Вселенной. Все же внешние дипломатические усилия останутся бесплодными.
Должен наступить великий ренессанс, признанный побудить человечество к тому, чтобы от скудного смысла существования оно перешло к духу благоговения перед жизнью. Только благодаря подлинной этической культуре наша жизнь наполнится смыслом, только благодаря ей человек может быть гарантирован от гибели в бессмысленных, жестоких войнах. Она принесет состояние мира в мир.
В сентябре 1917 г. нам было сообщено, что мы, как и все военнопленные во французских колониях, будем отправлены в Европу, Этот приказ исходил от министра обороны Клемансо. Министр боялся, что пленные в колониях охраняются недостаточно строго.
К счастью, корабль, который должен был доставить нас в Европу, опаздывал на несколько дней, так что у нас было время упаковать вещи и отобрать те из них, которые следовало оставить в миссии, поскольку на корабль разрешалось взять груз весом лишь до 50 килограммов.
Наброски к книге по философии культуры также пришлось оставить, ибо написаны они были по-немецки, а при осмотре багажа на берегу или на корабле любой унтер-офицер был вправе отобрать их у меня.
Я доверил свои наброски моему близкому другу, американскому миссионеру Форду, который входил в миссию в Ламбарене. Форд, как он признался, охотно бы выбросил их в воду, так как считал философию штукой бесполезной и даже вредной, но из чувства христианской любви решил сохранить их, с тем чтобы вернуть мне после войны.
Таким образом, я мог пуститься в предназначенное нам с женой путешествие в Бордо, несколько успокоившись. Из Бордо мы попали в Гаранс, в большой лагерь для интернированных. Замок, в котором жили интернированные, в средневековье был местом паломничества (сюда приходили люди и из далекой России), но с отделением церкви от государства, которое произошло во Франции за несколько лет до войны, замок начал приходить в упадок и был бы обречен, если бы не война и не доставленные сюда сотни интернированных мужчин, женщин, детей. В течение года они привели замок в порядок.
Странным образом я оказался единственным врачом среди интернированных. Поначалу директор лагеря запретил мне заниматься больными, считая это делом лагерного врача, функции которого выполнял старый сельский врач. Однако через несколько дней он нашел разумным использовать в этом качестве и меня.
Так я снова стал врачом. Остававшееся свободное время я посвящал «Культуре и этике», восстанавливая по памяти свои первые наброски на тот случай, если я не получу оригинал из Ламбарене.
Весной 1918 г. пришел приказ доставить нас с женой в лагерь Сант-Ремо в Южной Франции, предназначенный исключительно для эльзасцев. Старания директора отозвать приказ и сохранить тем самым для лагеря врача оказались напрасными. Мы были переведены в Сант-Ремо.
Вскоре, однако, это было в середине июля 1918 г., мы узнали о том, что будем обменены на пленных французов, находящихся в Германии, и уже в ближайшие дни через Швейцарию сможем вернуться в Эльзас.
На этот раз составленные в Гарансе и Сант-Ремо наброски «Культуры и этики» я взял с собой, после того, впрочем, как лагерный цензор проштемпелевал все их многочисленные страницы. Теперь я был спокоен: никто не отнимет их у меня.
В Страсбурге бургомистр предложил мне место ассистирующего врача в городском госпитале, которое я с радостью принял. Одновременно я стал проповедником осиротевшей церкви св. Николая, так как ее эльзасский пастор из-за своих слишком немецких убеждений был выслан в Германию.
Скудный досуг, который оставляли мне обе службы, я, естественно, отдавал новой записи «Культуры и этики». Она оказалась и больше и полней, чем та, которую я оставил в Ламбарене.
За несколько дней до рождества 1919 г. я получил телеграфное приглашение шведского архиепископа Натана Сёдерблюма, бывшего в то время и ректором университета в г. Упсала, прочитать ряд лекций по заказу «Фонда Олауса Петри». Таким образом, я что-то еще значил в Европе! До этого я смотрел на себя как на закатившийся под диван медный грош.
Архиепископу я предложил в качестве предмета лекций «Культуру и этику». Тот согласился.
В Упсале я впервые услышал отзвук на мысли, которые я вынашивал в себе много лет.
На последней лекции, резюмировавшей основные мысли благоговения перед жизнью, я был так взволнован, что с трудом мог говорить. Взволнованы были и слушатели из-за нового и более глубокого обоснования этики. Мои мысли встретили поддержку и у архиепископа Сёдерблюма. С той поры нас связывает большая дружба. Узнав, что на мне висят тяжелые долги, которые я сделал во время войны, он посоветовал мне попробовать выступить с лекциями и органными концертами в Швеции, где еще с довоенных времен осталось много денег, и дал рекомендации в различные города.
В течение нескольких недель я собрал столько денег, что мог не только расплатиться с долгами, но и оставить некоторую сумму на дальнейшее финансирование госпиталя.
Вскоре после возвращения в Страсбург я получил по почте пакет с первыми набросками «Культуры и этики», которые я доверил в Ламбарене миссионеру Форду. Так что для окончательной отработки текста я мог располагать и первой его редакцией.
Во время этого моего первого пребывания в Европе и после, когда представлялась возможность выступать с лекциями в университетах Оксфорда, Кембриджа, Копенгагена, Праги, мои лекции вызывали интерес и понимание. Я был вправе считать, что состоялся отчет о преимуществе этого элементарного обоснования морали перед другими.
В беседах, которые я вел об этике благоговения перед жизнью, мне часто приходилось слышать, что она, собственно, является повторением дела святого Франциска Ассизского (1182–1226). К такому заключению пришел и я сам. Еще со студенческих лет я был почитателем этого святого.
Он проповедовал братство людей с живыми тварями, как небесную весть. Для его слушателей она была божественной поэзией, и они не стремились посвятить себя опыту его осуществления на Земле.
В этике благоговения перед жизнью такое братство выступает как элементарное требование человеческого мышления, подлежащее обязательному осуществлению.
К началу 1923 г. текст «Культуры и этики» был готов для печати. Но как найти издателя? Ситуация в этом смысле сложилась неблагоприятная. В Германии тогда увлекались восхитительным, блестяще написанным произведением Шпенглера «Закат Европы». С точки зрения Шпенглера, европейская культура исторически возникает, исторически расцветает, исторически увядает и приходит к концу. Этот трагический взгляд соответствовал духу послевоенного времени. Шпенглер не исследовал, что собой представляет культура, а только рассматривал ее историческую судьбу.
Как мог я пробиться со своим обоснованием этики и культуры? И я малодушно отказался от переговоров с каким-либо издателем по поводу опубликования книги.
Эмма Мартини, вдова моего рано умершего друга, эльзасского проповедника, помогавшая мне с корреспонденцией, ехала в гости к подруге в Мюнхен и попросила меня передать ей рукопись с тем, чтобы попытаться найти издателя. В Мюнхене Эмма Мартини никого не знала; проходя однажды мимо магазина издателя Ц. Г. Бека, она зашла в него и попросила встречи с директором. В качестве его заместителя представился господин Альбер. На его вопрос о ее деле она ответила, что ищет издателя для моей книги. Он взял рукопись, перелистал первые страницы и сказал: «Мы возьмем эту рукопись без чтения. Альберт Швейцер не является для нас незнакомцем».
Случайным образом Бек оказался и издателем книги Шпенглера о культуре. Так я познакомился со Шпенглером. Вместо того чтобы соперничать, мы стали друзьями и в качестве таковых спорили о нашем понимании культуры.
«Культура и этика» вышла в свет в I923 г. Между мной и господином Альбером возникла глубокая дружба.
В феврале 1924 г. я вернулся в Ламбарене. Но и здесь я сохранял связь с миром. Так как я был уже не единственным врачом в моем все развивающемся госпитале, а двое или трое коллег работали рядом со мной, то я время от времени мог совершать короткие или продолжительные поездки по Европе, выступая в университетах с лекциями о культуре или письменным словом агитируя за нее.
Я имел удовольствие отметить, что она – этика благоговения перед жизнью – все больше и больше получает признание не только в Европе, но и во всем мире, особенно в Японии, Индии, Америке.
Во время второй мировой войны я почти десять лет (1939–1948) провел в Ламбарене, временами оставаясь единственным врачом в своем госпитале.
Я видел наступление этой войны и поэтому привел в движение все средства, коими располагал, чтобы создать большой запас медикаментов, ибо война вновь, я это знал, отрежет нас от мира. Но запаса хватило только до середины 1942 г., когда же он кончился, в Ламбарене неожиданно пришла посылка с медикаментами. Ее отправили неизвестные мне врачи из США. Это произошло благодаря тому, что во время войны сообщение между США и Экваториальной Африкой все-таки сохранялось.
В августе 1948 г. я снова приехал в Европу и отметил для себя, что война и ее мерзости заставили людей стать более восприимчивыми к идее благоговения перед жизнью.
В июле 1948 г. я находился в США, где должен был произнести торжественную речь на празднике в Аспе по случаю двухсотлетия со дня рождения Гете. Здесь я и познакомился с друзьями, чья посылка с медикаментами в 1942 г. помогла госпиталю в тяжелой ситуации.
При посещении городов и университетов я узнавал, что учение о благоговении перед жизнью имеет распространение и занимает души людей. Особенным уважением оно пользовалось в Бостоне.
В 1951 г. во время короткого пребывания в Европе меня посетила госпожа Элла Кризер, ректор одной из школ в Таписвере. Она пришла сказать, что в ее школе преподают учение о благоговении перед жизнью. Дети обнаруживают хорошее его понимание, а осознание ими, уже в этом возрасте, того, что быть добрым по отношению ко всем живым созданиям – элементарный человеческий долг, делает их одновременно и радостными и серьезными.
Сегодня в мире существует много школ, в которых изучают этику благоговения перед жизнью.
Все, что мне становилось известно о воздействии этого учения, укрепляло в убеждении: оно является истиной, которая позволит человечеству достигнуть подлинной духовности.
Для нашего поколения учение имеет особое значение. Благодаря тому что мы владеем атомным оружием, неизмеримо возросли наша возможность и наше искушение уничтожать жизнь. Способность к жестокому уничтожению жизни стала судьбой современного человечества.
Мы можем уйти от такой судьбы, только уничтожив атомное оружие. Многие годы правительства ядерных держав пытаются договориться между собой о его уничтожении. Но это им не удается. Все предложения, которые они делают друг другу, не вызывают того доверия, которое необходимо для всеобщего отказа от него.
Доверие есть нечто духовное. Оно может возникнуть только в духовных усилиях. Но у людей все еще нет сознания того, что они страшно бесчеловечны, ибо в своем бездушии допускают возможность применения атомного оружия, которое в один день способно уничтожить сотни миллионов жизней. Мы не должны пребывать в таком бездумии.
Уничтожение атомного оружия будет реальным в том случае, если в общественном мнении возникнет убежденность в необходимости этого, гарантировать возникновение такой убежденности может только благоговение перед жизнью.
Ход истории человечества свидетельствует о том, что благодаря этике благоговения перед жизнью, этическими личностями станут не только отдельные люди, но и народы.