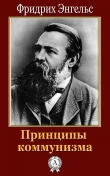Текст книги "Красная книга ВЧК. В двух томах. Том 2"
Автор книги: А. Велидов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)
Что-либо другое о практической деятельности этой «группы» показать абсолютно не могу.
О ШЕСТЕРКЕ
Я решительно не могу указать ни одного практического мероприятия, которое было бы принято шестеркой для передачи на обсуждение по группам. Единственное заседание, на котором обсуждался вопрос «практического характера», это было заседание, где слушалось сообщение о военной организации; как я указывал, группа СВ совершенно не была осведомлена о сущности этой организации. На заседании вопрос был поставлен приблизительно так. Существует военная организация в целях, указанных в моих показаниях от 25 марта. Пребывание в бездействии становится невозможным – организация разлагается, ей грозит провал. Раз так, то необходимо ей выступить. Если суждено гибнуть, то надо гибнуть? Вопрос ставился так: общественные деятели, принадлежащие к разным политическим кругам, должны дать как бы моральную санкцию. Моя точка зрения, которую разделяли все участвующие в группе, примыкавшей к платформе СВ, была следующая. Мы можем моральное одобрение давать тому, в чем участвуем непосредственно. Если бы мы стояли на точке зрения карбонарийских заговоров (что приблизительно было в зимние и весенние месяцы 1918 года в некоторых с-р. кругах), то, конечно, приняли бы непосредственное участие в этих военных организациях. Наша военная организация стояла вне политических группировок. О данной военной организации мы ничего не знаем: ни ее состава, ни принципов построения, ни, в сущности, ближайших ее целей. При таких условиях не может быть речи о какой-либо санкции. С моей личной уже точки зрения, подобное выступление приходилось бы квалифицировать как общественное преступление. Оно, обреченное на неудачу, повлекло бы за собой массу невинных, а главным образом, совсем ненужных жертв. Я указывал на вредные последствия выступлений, подобных савинковском в Ярославле. Это лишь способствует укреплению Советской власти на почве неизбежного усиления общественного разочарования. Единственно, что я мог рекомендовать, это роспуск военной организации, а лицам, которые считают необходимым бороться вооруженным путем, эвакуироваться из пределов Советской России. Во всяком случае, все другие представители общественных группировок на данных, по крайней мере, заседаниях высказывались против какого-либо выступления.
Считаю своим долгом указать, что обсуждение этого вопроса совершенно не стояло в связи с выступлением, якобы предполагавшимся, о котором говорилось в документах, опубликованных по делу Щепкина и др. в сентябре. Опубликованный план был полной новостью не только для меня. Я очень и очень сомневаюсь, чтобы Щепкин вообще давал на подобные выступления какую-либо санкцию, даже лично от себя, – по крайней мере, никаких намеков в этом отношении он не делал. По моему глубочайшему убеждению, он крайне отрицательно относился к подобной идее.
В заключение я должен сказать, что совершенно неверно заявление, что с 1 августа 1919 года я скрывался. Меня не было в Москве, когда меня пришли арестовать. В период засады я, конечно, боялся появляться на квартиру, тем более что это было время моего летнего отпуска. Узнав через Каменева и Бонч-Бруевича, что засада снята, я вернулся к своим постоянным занятиям: ежедневно бывал в «Задруге» и три раза в неделю бывал в редакции «Голоса минувшего»; жил в деревне для более успешного выполнения своей работы, которую, как могу сказать, почти закончил. Жил и для некоторого, так сказать, психологического спокойствия, так как у меня не было гарантии, что не буду вновь арестован, и не желал думать о сем каждую ночь.
Если я после четвертого раза (обыска и ареста) не скрылся за пределы Советской России, что сделать было, конечно, нетрудно, особенно в сентябре, когда фронт был так близок от Москвы, то потому, что я не видел для себя места в общественной жизни Юга из создавшейся там конъюнктуры (пожалуй, одну тюрьму приходилось бы менять на другую, как показал опыт с Аргуновым, [207] 207
А. А. Аргунов, член ЦК партии эсеров, вместе с другими руководителями Уфимской директории был арестован в Омске во время колчаковского переворота в ноябре 1918 года.
[Закрыть]с расстрелом Ладинского и т. д.). Я полагал вместе с тем, что моя политическая роль в Москве не носила такого характера, при котором мне можно было поставить в вину участие непосредственное в каком-либо заговоре, а тем более в активном вооруженном выступлении против Советской власти, в чем только я обязался подпиской не принимать участие. Считаю, что подписки своей не нарушил и обещания своего, как бы данного моим поручителям.
P. S. Что касается проекта «о частной собственности», будто бы написанного моей рукой, то он во всяком случае мне не принадлежит. Если он написан моей рукой, в чем, впрочем, сильно сомневаюсь, то переписан с чего-либо. По содержанию, как мог я уловить, он должен принадлежать какой-либо правой группе. Может быть, это один из проектов, напечатанных в одесских газетах. Во всяком случае, Котляревский от меня получить его не мог.
17 марта 1920 года С. Мельгунов
ПОКАЗАНИЯ С. А. КОТЛЯРЕВСКОГОПрежде чем обращаться к изложению моей собственной деятельности за время Октябрьской революции, я отвечу на отдельные вопросы, поставленные вами. Вы назвали Герасимова, Трубецкого, Муравьева и Кольцова и спросили, кто из них мог быть в ядре «Центра», в самой его организации. Я думаю, что с наибольшей вероятностью это можно сказать о Герасимове. Он производил впечатление человека прямого, твердого, с большим опытом, хотя уже с подорванным здоровьем и силами, человека с авторитетом в глазах окружающих. Мимоходом скажу, что сам Шипов относился к нему с очевидным большим уважением, много, однако, с ним спорил. Я бы сказал, что в этих спорах сказывалось столкновение известного народничества и бюрократизма. В частности, Герасимов выступал в октябре или ноябре с сообщением о постановке школьного дела, желательной в России, и особенно интересовался этим вопросом, хотя принимал живое участие и в других.
Относительно Трубецкого это уже было менее вероятно. Он появился на наших собраниях поздно весной, когда они вообще стали реже, да и я менее их посещал. Я его часто видел по работе в «Северном пути», где он занимался в лесном отделе; когда Борисов и Воблый [208] 208
Воблый – один из участников концессии «Великого Северного пути». Организовал сбор денежных средств среди буржуазии для строительства железной дороги, выдавал, ссылаясь на подложные «гарантии» норвежского консульства, обязательство возвратить взятые суммы валютой Свои валютные сделки объяснял стремлением содействовать удержанию курса русского рубля на иностранных биржах. См. примечание на с 306–307.
[Закрыть]меня пригласили, я его там уже застал. Он работал усердно и обнаружил большой практический смысл и знание дела. Борисов и Воблый оба его очень ценили, и, конечно, Воблый мог бы дать более полные данные о его работе. Я слышал, что он в трудном материальном положении, имея на руках семью, которая потеряла средства, и должен был прежде всего искать заработка. Производил впечатление человека с несколько доктринерским умом, подходящего к вопросам политическим рассудочно, свободного от увлечения и чуждого всяких авантюр.
Положительно невероятным мне казалось бы такое участие Кольцова и Муравьева. Кольцова я видел часто, но он был довольно пассивен. Единственное его личное небольшое сообщение было лишено всякой политической окраски – об организации научной работы в государстве (научные институты, академии, изобретения и т. д.). Интересовался он живо обсуждаемыми вопросами, но скорее как слушатель. Мне кажется, он представлял тип чистого ученого-теоретика. Пользовался всегда репутацией прекрасного преподавателя и очень этим делом интересовался.
Я остановлюсь подробнее на Муравьеве, так как знал его ближе, чем других, а также ввиду поставленных вами о нем особых вопросов. Муравьев мне представляется из указанных лиц умом наиболее подвижным, разносторонним и способным к эволюции. Он вообще был противником иностранной интервенции и совершенно не разделял той веры в союзников и благодетельность их воздействия на Россию, которая была особенно у Шилова и Федорова. Далее, уже весною 1919 года он часто высказывался в том смысле, что желательны скорейшее открытие границ и всеобщий мир, что в большевистском режиме есть элементы совершенно здоровые, которые при благоприятных условиях сами разовьются. В частности, будучи большим противником отделения окраин, он неоднократно указывал, что большевики осуществляют миссию объединения России (это всегда подчеркивал и Кольцов), весьма отрицательно вообще относился к нашим контрреволюционным группам. На наши собрания он смотрел как на обмен мыслей и информации (последняя, впрочем, была весьма скудна и анекдотична). Я не видел его с лета долгое время и встретил лишь в конце прошлого года. Он решительно говорил о необходимости совместной работы беспартийной интеллигенции с коммунистами и не только о безусловном прекращении всякого бойкота со стороны интеллигенции, но и ее активном участии в этой работе.
Был под сильным впечатлением – я бы сказал, под обаянием – Троцкого. На наших собраниях он делал сообщения больше по внешней политике, отчасти и на основании иностранной прессы, но главным образом чрезвычайно внимательно изучал прессу советскую; очень интересовался всегда вопросом о Красной Армии как проявлении слагающейся из революции государственности.
Что касается поступления его в Комиссариат иностранных дел, то дело это, по рассказу Муравьева, обстояло так. Не он туда пошел с предложением своих услуг, а его пригласил Чичерин (кажется, через Паскаля). Муравьев был у Чичерина и Карахана, более подробно говорил со вторым и получил от него поручение организовать информационную часть: она должна была собирать сведения из иностранной прессы, делать обзоры о политическом и об экономическом положении для комиссариата, сообщать сведения нашей прессе, следить за книгами и т. д. Учреждение предполагалось большое, и Муравьев мне предложил взять отдел научной библиографии, обзор книг. Дело казалось мне весьма интересным, так как можно было познакомиться с иностранной литературой, которую мы совсем не знаем. Я согласился, но так как образование бюро замедлилось, то поступил в Комиссариат юстиции, где тоже предстояла в высшей степени интересная работа. Я не сомневаюсь, что Муравьев руководился желанием работать в той области, которая была его всегдашней специальностью, в которой он занимался раньше. Он категорически высказался, что внешняя политика Советской России есть прежде всего внешняя политика России и она должна направляться в ее интересах, что нужно кончить здесь с нелепыми бойкотами и предубеждениями. Я не знаю, существуют ли в Москве в настоящее время какие-либо белогвардейские организации, думаю, что все они отошли в прошлое, но совершенно немыслимо, что, если бы они и существовали, Муравьев с его теперешними взглядами мог иметь к ним какое-либо касательство. Сошлюсь здесь на Денисевича, коммуниста и партийного работника, окружного уполномоченного Трамота. Я как-то с ним шел, и мы встретили Муравьева. Здесь между ними шел оживленный разговор об отношении интеллигенции к Советской власти, разговор, в котором они по существу сошлись. Помню также, как неделю тому назад Муравьев меня спрашивает при встрече, не знаю ли я чего-нибудь по вопросу о Шпицбергене. Он сообщил с большим удовлетворением, что Чичерин решил протестовать против самовольной отдачи этого владения, на которое у России есть свои права и большие интересы, Норвегии. Что касается до разговоров о его поступлении в Комиссариат иностранных дел, то они были просто вызваны тем, что для некоторых вопросы советской службы и, в частности, службы в Комиссариате иностранных дел, как бы предполагающей солидарность с советской внешней политикой, остаются не решенными. Если в чем была ошибка Муравьева, то лишь в том, что он вообще обращал внимание на подобные сомнения, от которых сам был совершенно далек.
Наконец, по поводу доклада Муравьева, назначенного на воскресенье, 22-е. Он должен был явиться продолжением или быть в известной связи с докладом Ильина, бывшим в воскресенье, 15-го. Ильин читал главу из своей большой книги о правосознании, которую он, кажется, уже написал. Летом он несколько раз читал главы из этой книги. Это уже чистая наука или философия, которая, конечно, имеет некоторое приложение и к современности, но не заключает в себе ничего актуально-политического. Я посещал обычно сообщения Ильина и здесь встречал по преимуществу людей академического круга, часто совершенно аполитичных не только в настоящем, но и в прошлом (математик проф. Лузин, лингвист проф. Петерсон). По поводу сообщения Ильина были некоторые как бы ответные сообщения такого же рода, также совершенно теоретические и философские (помню одно – Бердяева).
Муравьев часто их посещал и принимал участие в прениях. В воскресенье я также был на докладе Ильина, но ушел до конца прений; не знаю точно тему Муравьева, но не сомневаюсь, что она носила подобный же характер. Я знаю, что Муравьев участвовал в семинарии Ильина по философии Гегеля; он вообще интересуется философскими вопросами. Сам я слышал его один реферат в собрании наших экономистов, которые летом образовали кружок для изучения социализма с точки зрения хозяйства, правовой и культурной.
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЗОЛЮЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ТЕХ ПУНКТОВ, НА КОТОРЫХ ОБЪЕДИНИЛИСЬ СОД, НЦ И СВ
Насколько я могу припомнить, я действительно какие-то из них переписывал – часть, кажется, у Венцковского, который, наверно, их показывал (я вернусь к его посещению). Он очень интересовался отношением различных русских групп к единству России и старался выяснить, как они его понимают. А какую-то резолюцию, кажется, касающуюся одесского совещания четырех групп, но приблизительно одинакового содержания, я, помнится, списал в «Задруге», только решительно не помню, кто мне ее показывал. В «Задруге» я был несколько раз весною 1919 года по поводу гонорара за прежние статьи и по поводу предполагавшихся издательских дел. Резолюциям этим я не придавал вообще никакого значения, кроме показательного. Венцковский считал, что резолюция по поводу объединений платформ была составлена Алексинским, но, кажется, я слышал это из других источников.
ПЕРЕХОЖУ К ИЗЛОЖЕНИЮ МОИХ ДЕЙСТВИЙ И ВЗГЛЯДОВ
Я принимал деятельное участие в русской политической жизни 1905–1907 годов, был членом Государственной думы первого созыва, деятельным кадетом и до 1908 года состоял в ЦК партии. Но в конце 1907 года я был осужден за Выборгское воззвание, [209] 209
Выборгское воззвание было ответом партии кадетов на разгон царским правительством 10 июля 1906 года I Государственной думы. Воззвание призывало население к кампании мирного неповиновения властям – отказу от уплаты налогов, от отбывания воинской повинности и т. д.
[Закрыть]потерял политические права и посвятил себя науке и преподаванию. Фактически я не принимал участия в партийной жизни 1908 года, а формально вышел из кадетов по принципиальным с ними разногласиям перед выборами в четвертую Государственную думу в 1912 году. С тех пор я решил остаться беспартийным и не входить в политические организации, обязующие к известной дисциплине. Беспартийным оставался и после Февральской революции, это имело свои неудобства: я не мог, например, как хотел бы, попасть в Московскую городскую думу: выборы шли по партийным спискам. В то же время я считал, что по вопросам своих специальных знаний я вполне могу выступать и в организациях, к которым не принадлежу и с которыми даже существенно расхожусь. Весною 1919 года, например, я сделал сообщения у московских кадетов о монархии и республике, а летом того же года у меньшевиков в Петербурге – ряд сообщений об автономии, федерации и о национальном вопросе. Политически я мог бы определить себя как эволюционного социалиста.
Октябрьская революция не была для меня неожиданной. Я считал нелепым бойкот, которого держалась значительная часть интеллигенции, но не верил в прочность Советской власти и, естественно, не разделял ее политику. В наибольшем отчуждении от Советской власти я находился в период Брест-Литовского мира. К этому миру я тогда относился совершенно отрицательно и считал весьма полезной всякую против него агитацию, особенно в период, предшествовавший его заключению, когда, мне казалось, эта агитация могла повлиять на условия его. Мне приходилось выступать и открыто в газете «Утро России», [210] 210
«Утро России» – ежедневная газета, орган торгово-промышленных кругов. Издавалась в Москве в 1907 и в 1909–1918 годах. Закрыта за контрреволюционную пропаганду.
[Закрыть]в соединенном заседании университетских обществ, а также и в отдельных организациях, даже таких, к которым, по существу, я относился без всякого сочувствия. Когда образовавшаяся при «Союзе земельных собственников» экономическая комиссия занялась вопросами о последствиях этого мира для русского сельского хозяйства и пригласила меня, я принял участие в ее работе. Принимал участие и в заседаниях по этому вопросу, устроенных в феврале и марте «Союзом общественных деятелей». До этого я был раз на съезде «Союза» – втором, в октябре, незадолго до революции, был простым зрителем. Физиономия «Союза» тогда не определилась. Съезд проходил под знаком резкого осуждения Керенского и вообще политики Временного правительства, но какой-либо конкретной программы, кроме общих пожеланий о возрождении армии, объединении национальных сил и т. п., этому не противополагалось. Мне неизвестно было, что стало с «Союзом» после революции, но в феврале я получил приглашение принять участие по поводу мира. Там я в первый же раз нашел много народу: помню Кривошеина, Новгородцева, Белоруссова, Гурко и Кистяковского; Щепкин и Леонтьев, кажется, были, но я не помню, высказывались ли они. Много было неизвестных. Я в общем повторил свой доклад в университетских обществах. Мир очень осуждался, но, с другой стороны, осуждалось начинающееся в некоторых кругах стремление воспользоваться против большевиков немецкими штыками. В этом смысле особенно говорили Новгородцев и Гурко.
Постепенно я должен был изменить свой взгляд на Брест-Литовский мир. Штернберг, бывший тогда в Комиссариате народного просвещения, привлек меня к переводу договора вопреки моему долгому нежеланию, и, изучая его условия в подробности, я нашел, что он мог бы быть даже без полного аннулирования существенно улучшен. Главное же, я убедился, что заключение этого мира было совершенно неизбежно.
Мне очень много дали в этом смысле рассказы Ружейникова, ныне члена казацкого отдела ВЦИК, о положении на фронте, откуда он и вернулся. В то же время, изучая немецкую прессу и литературу, какая все-таки проникала в Москву, я нашел, что на этом мире сама Германия не может долго настаивать: необходимость толкает ее на действительное примирение с Россией. Немецкая же вооруженная интервенция, по тем же источникам и по сведениям, доходящим из оккупированной Украины, казалась мне совершенно исключенной. Наконец, я убедился, что так называемая союзническая ориентация, связанная с бесконечным продолжением войны и с японским вторжением, более опасным, чем немецким, никоим образом не может быть принята целостно и без оговорок. Словом, мир был неизбежен. И когда произошло безумное убийство Мирбаха, я должен был признать, что большевики были правы, а левые эсеры могли навлечь на Россию великие беды. В ходе этих мыслей я перестал посещать довольно быстро совещания, собираемые СОД, которые мне казались бессодержательными и неинтересными.
В это время я работал в Военно-промышленном комитете [211] 211
Военно-промышленные комитеты – общественные организации, образованные в 1915 году с целью мобилизации промышленности для военных нужд.
[Закрыть]и составлял отчет о его деятельности с самого основания по различным отделам. По поводу этого отчета мне приходилось быть у разных лиц, связанных с нашей промышленной и вообще экономической жизнью. Был у Третьякова, стоящего во главе льняной секции комитета. Он рассказывал об образовании Центра, борьбе там германофильского и союзнического течений, борьбе, расколовшей и торгово-промышленный класс. По-видимому, тогда и образовалась группа лиц, из которых сложился «Национальный центр», и большую, если не главную роль, по словам Третьякова, здесь играл Астров. Вообще московские кадеты, по отзывам близко стоящих к ним лиц, были решительными сторонниками союзнической ориентации. Сам Третьяков, насколько я помню, тоже склонялся к союзникам, однако очень опасался вовлечения японцев в русские дела. Около этого времени я по делам того же отчета ВПК был у Федорова и узнал, что он стоит во главе общественной и продовольственной организации, она называлась Центроко. [212] 212
Центральное (всероссийское) кооперативное объединение
[Закрыть]Я спросил у него, нет ли там работы; он сказал, что нет, но очень предлагал уехать на Украину, куда и сам собирается; говорил, что там будет много дела в экономических и финансовых организациях. Я указывал на их классовый, спекулятивный характер (например, «Протофиса»), который явствует из всех известий, доходящих с Украины. Федоров с этим соглашался, но говорил, что поэтому и надо лечить экономическую жизнь на Украине. Вскоре после этого Федоров был у меня и предлагал принять участие в политической работе на Украине, которая там начинается и которая должна произвести прежде всего изменения в составе Украинского правительства (он считал, что при настоящих условиях немедленное соединение Украины с Россией неосуществимо, но должно быть подготовлено). Федоров думал, что Скоропадский обречен, как и группы, опирающиеся на немцев, которым уже военные части изменяют, и что должно быть правительство, верное союзникам. Говорил, что в будущем возможно было бы и мое участие хотя бы в качестве товарища министра иностранных дел или секретаря – правда, не в виде какого-либо определенного обещания, а предположения. Я решительно отказался, указав, что, будучи сам украинского происхождения, мог бы принять подданство и сделать там политическую карьеру, но совсем это не имею в виду, вовсе не хочу быть в каком-либо правительстве, особенно после пережитого в эпоху Временного правительства, что власть союзников на Украине – не замена для власти немцев и т. д. Федоров все же очень убеждал уехать, указавши, между прочим, что на юг, кажется в Екатеринодар, уехали уже Астров и Степанов. Когда я все-таки отказался, он просил снабдить его какими-нибудь материалами по Украине. Я дал ему записку мою об украинской автономии, составленную при Временном правительстве, когда я был членом юридического совещания, куда передан был этот вопрос, и другие материалы, которые у меня были.
После этого ко мне заходил Шипов (сентябрь 1918 года) и просил прийти к нему, так как Федоров хотел переговорить с ним и со мной. Там застал я Карташева (я познакомился с ним при Временном правительстве, когда он был комиссаром исповедания). Карташев прочел свою программу по церковно-религиозному вопросу для Украины и, пожалуй, для всей России. Затем Федоров просил меня изложить, как я понимаю внешнеполитическое положение. Здесь мы довольно резко разошлись. Я вовсе не считал для России желательным полный разгром Германии и даже распадение Австрии, но и Федоров и Шипов фанатически отстаивали союзников, победа коих должна оздоровить весь мир, и Россию в том числе. Меня поразило тогда противоречие у Шилова, с которым я и позднее часто сталкивался. С одной стороны, он всего ожидал от внутренней, духовной эволюции русского народа и полагал вредным всякое насильственное действие и вмешательство. С другой, он думал, что каким-то путем союзники могут помочь России сейчас же. В конце концов Федоров просил меня составить записку по внешней политике, которая будет даже оплачена и которую он свезет на Украину. Я решительно отказался, не зная, какое выйдет отсюда политическое употребление. Но я счел возможным дать Федорову часть большой записки, составленной мной в 1916–1917 годах, когда я был председателем совещания по железнодорожному строительству при московском Военно-промышленном комитете, с дополнением о железнодорожном строительстве в Южной России и получил за нее гонорар. Здесь не было ничего политического, и суть этой записки я напечатал в «Экономической жизни» (декабрь 1918 года и январь 1919 года).
После этого Шипов стал меня приглашать на совещания, где обсуждались разные вопросы: законодательные, правовые, экономические и общеполитические. Трудно было назвать эти собрания какой-либо организацией, и состав их был не совсем постоянный. Обсуждались, например, разного рода положения по рабочему вопросу, выработанные Червен-Водали, и здесь принимали участие промышленники (октябрь – ноябрь 1918 года). Общая тенденция была – найти равнодействующую между старым и новым строем. В общем, господствовал взгляд, что большевизм должен внутренне переродиться и уступить место другим течениям. Передавались информации, иногда читались письма с Юга, но все это было весьма бессодержательно. На меня производило впечатление, что никакой связи собственно с уехавшими нет или нам ее не передавали. Я интересовался по преимуществу вопросами внешней политики и окраинами (Польша, Финляндия), а также областным строительством и национальностями. Помимо этого, готовил большое сообщение об экономических связях Польши и России. Предполагалось позвать экономистов, но это не вышло, и я не нашел Козловского, секретаря польской миссии, которого мы хотели расспросить. Были и большие споры. Я, например, решительно не думал что единство России без оговорок – все равно, большевистских, меньшевистских, кадетских, – может сейчас быть плодотворным политическим лозунгом. Нельзя навязывать окраинам централизма. Больше того, когда все разрушается, не нужно ли прежде всего остановить это разрушение, не воевать друг с другом и воссоздаваться по частям? Должен сказать, что я делал разные сообщения по этим вопросам и в других местах, особенно отстаивал важность федерализма в России.
Между тем мое отношение к Советской власти оставалось каким-то двусмысленным и начинало меня тяготить. Я не хотел, да и не видел возможности активно с нею бороться, в то же время я все-таки избегал с нею соприкосновения. Хотел как бы остаться нейтральным, в роли наблюдателя или историка. Но это оказывалось все труднее. Гражданская война не знает нейтралитета, и все промежуточное в ней бессильно. Нужно было или активно бороться и тогда ехать на Юг или на Восток, или найти способ лояльной и честной с ней работы.
Здесь у меня постепенно произошел перелом. Он был связан прежде всего с Принцевыми островами. Я считал, что этот проект, если бы он осуществился, мог бы принести России великое благо или, точнее, мог бы избавить ее от великого зла, потоков крови, проливаемой в гражданской войне, материального разорения и морального одичания. Несомненно, проект был проникнут скорее враждебным отношением к Советской власти, и, однако, она его приняла. Я считал и считаю тяжким грехом Деникина и Колчака и разных заграничных русских групп, что они все сделали для его провала. Может быть, попытка и не удалась, но нужно было ее сделать. Еще более пагубным был провал американского примирительного проекта, на который Советская власть дала свое согласие, но который был сорван Францией и Англией при участии русских белогвардейских групп. Тут была бы, во всяком случае, передышка, открылись бы границы, снята была бы блокада и т. п. Я изложил свой взгляд в публичном сообщении и в Кооперативном клубе в марте 1919 года, мне кажется, встретил полное сочувствие аудитории и очень жалел, что не мог по внешним условиям пропагандировать его далее. Далее на мне сильное впечатление оставил разговор с польским уполномоченным Венцковским, у которого я был по делам «Северного пути», [213] 213
В июне 1918 года художник А. А. Борисов и норвежский банкир и промышленник Эд. Ганневик обратились в Совнарком с предложением о выдаче им концессии на строительство железных дорог Обь – Котлас – Сорока и Котлас – Званка или Котлас – Петроград и предоставлении им на 48 лет на концессионных началах 8 млн десятин лесных разработок в бассейнах рек Печоры и Оби. Они обязались поставить материалы, инструменты, машины и другое оборудование для изыскательских и строительных работ. Создание Великого Северного пути (такое название получила будущая магистраль) открывало перспективу хозяйственного освоения европейского и азиатского Севера страны, экспорта через Мурманск и порты Балтийского моря сибирского леса, рыбы, дичи, пушнины, ухтомской нефти, кузнецкого угля. 4 февраля 1919 года Совнарком РСФСР признал принципиально допустимым предоставление концессии иностранному капиталу и одобрил общий план предполагаемых работ. Гражданская война помешала приступить к намеченному строительству.
[Закрыть]но с которым пришлось вести и общую беседу. Венцковский заявил, что он совсем не враг России и даже Советской России (с большим сочувствием и уважением говорил о Чичерине), но из его слов было ясно, как растет польский империализм, подготовляя столкновение с Россией. И этот империализм направлялся Антантой, прежде всего Францией, которая, разочаровавшись в России, как бы желала поставить вместо нее Польшу, поощряя ее к захвату русских земель в границах чуть ли даже по Днепру, а не по Березине. А Версальский мир ясно предопределял будущее сближение ограбленной Германии и России. Уже поэтому утверждение правительства, совершенно зависящего от Англии и Франции, есть опасность с точки зрения чисто русской. В Германии же, хотя бы и с шейдемановскою властью и диктатурой Носке, [214] 214
Носке Густав (1868–1946) – германский социал-демократ. В феврале 1919 – марте 1920 года – военный министр.
[Закрыть]есть полная готовность вступить с Россией в мирное общение.
С другой стороны, чем больше я думал, тем более мне казалось сомнительным, чтобы другая, несоветская власть могла ввести в России сейчас порядок и дисциплину – если эта власть не держится на иностранных войсках, которые когда-нибудь да уйдут, и тогда повторится судьба Скоропадского. Я видел все темные и жестокие стороны существующего порядка, столь усиленные гражданской войной, что даже и они лучше сплошного анархического бандитизма. В лагере, боровшемся с Советской властью, много людей прекрасных, благородных, талантливых, много таких, с которыми я лично был связан своим прошлым, но там нет людей калибра Ленина и Троцкого. Здесь можно видеть и фанатизм, и утопии, но там не чувствуется вообще новых начал. Ведь единство и неделимость России только форма: чем будет жить единая неделимая Россия? Как историк, я чувствовал, что возврата к старому нет в гораздо более глубоком смысле, чем это понимают. Ни одна антибольшевистская группа не внесла своего положительного содержания в смысле этого нового. Огромные недостатки большевизма связаны с огромностью самого явления русской революции и открывающихся из нее мировых перспектив.
Вся творческая работа как будто остановилась, и все же Красная Армия при самых тяжелых условиях становится настоящей русской армией. Оздоровление только в общей созидательной работе. В малом виде я видел это на реформе университета и создании факультета общественных наук, в котором мне пришлось принять участие. И у меня явилась потребность расширить это участие. Еще раньше я обратился к В. М. Свердлову, [215] 215
В. М. Свердлов – председатель Центральной коллегии Российского общества Красного Креста.
[Закрыть]предлагая организовать при нашем Красном Кресте широкую разработку вопросов, поставленных на очередь войной и направленных на ликвидацию ее последствий и смягчение на будущее время. Свердлов вполне сочувственно отнесся к этому, и весной 1919 года мы в К. К. (консультации) выработали ряд новых международных правовых положений. Я надеялся, что общение краснокрестных организаций, хотя бы по поводу обсуждения этих положений, может пробить некоторую брешь в нашей блокаде. Наконец в июне я решил стать просто советским ответственным работником и поступил в Трамот ВСНХ. Здесь уже я должен был сам подать прошение и с тем принять на себя соответственное обязательство. Остановился на Трамоте, так как меня особенно интересовал транспорт и я полагал, что работа в этой области наиболее неотложна. Эта работа дала мне очень большое удовлетворение. Я убедился, что и при современных условиях можно достигнуть известных результатов, особенно в учреждении, руководимом таким энергичным и талантливым лицом, как председатель коллегии Трамота. Тем с большей уверенностью я вступил в Комиссариат юстиции, к несчастью, до сих пор как-то бойкотируемый многими нашими юристами, которые могли бы принести здесь большую пользу. Точно так же я принял предложение Л. Б. Каменева, сделанное в день моего ареста, вступить секретарем председательствуемой им комиссии по национальным и федеративным вопросам – область, которой я всегда занимался. Я вижу и вполне убедился, что в условии наличного строя для русской интеллигенции возможно весьма широкое и интересное применение своих сил. С другой стороны, я уже раз был арестован, раз был дан ордер на мой арест, и помню, с каким доверием отнеслись ко мне учреждения, с коими я был связан, и отдельные лица, какую они оказали помощь, хлопотали за меня, брали меня на поруки и т. д. Все это налагает обязательства, которые должны быть выполнены и могут быть выполнены лишь лояльным отношением к Советской власти и действительно полезной работой. То и другое я, оставаясь беспартийным и, конечно, не выдавая себя за обратившегося в коммуниста, хотел бы выполнить полностью.