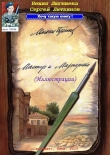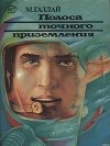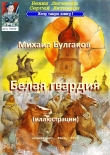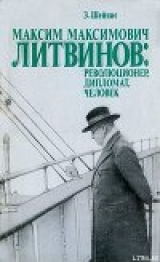
Текст книги "Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек"
Автор книги: 3иновий Шейнис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
После возвращения из Калифорнии Людмилу Павличенко ждал в советском посольстве в Вашингтоне необычный прием. Литвинов встретил ее на парадной лестнице в полной форме, вместе с ним были сотрудники посольства. В руках Литвинов держал серебряный поднос, на котором лежал какой-то конверт. Павличенко, несколько сконфуженная и удивленная неожиданной церемонией, поднималась по лестнице. Литвинов сделал ей навстречу несколько шагов и вручил конверт. В нем оказалось письмо калифорнийского миллионера, в котором он делал советской героине предложение – просил ее руки и сердца. Литвинов сказал, что он, как посол, обязан сообщить ей об этом официально.
Шутливая церемония, устроенная Литвиновым, вызвала много веселья и шуток. Вскоре Людмила Павличенко вернулась на Родину. Калифорнийский миллионер так и не получил ответа на свое предложение.
Осенью 1942 года гитлеровцы подошли к стенам Сталинграда. Весь мир понимал, что там, в сущности, решается исход войны. Американские газеты печатали как советские, так и германские военные сводки. Разнобой в сообщениях был очень большой, и дезинформированный американский обыватель плохо ориентировался в обстановке. Советское посольство приняло все возможные меры, чтобы в ведущих органах американской печати появились подробные, обстоятельные статьи, в которых разъяснялось положение на советско-германском фронте.
Серьезность положения заставила Литвинова высказать свое мнение о том, как сложится обстановка, если падет Сталинград. Во время сугубо конфиденциальной беседы с Рузвельтом Литвинов в более категоричном тоне сказал президенту то, что он раньше избегал говорить: падение Сталинграда, если таковое произойдет, приведет к затяжке войны. Советский Союз никогда не капитулирует и будет драться до победы. Но следует иметь в виду и ту позицию, которую займут некоторые союзники Германии в случае падения Сталинграда. Несомненно, очень усложнится положение Соединенных Штатов. Необходимо оттянуть гитлеровские дивизии с Восточного фронта и форсировать поставки вооружений.
Неожиданным образом содержание этой беседы попало на страницы американской печати, правда в несколько искаженном виде. Литвинов поручил сотруднику посольства В. В. Пастоеву выяснить, кто повинен в разглашении его беседы с Рузвельтом. Ответить на этот вопрос оказалось не очень трудно: агентство Юнайтед Пресс разослало во все органы печати статьи о положении на Сталинградском фронте. Узнав, что Литвинов должен быть в тот день у Рузвельта, агентство решило, что темой беседы может быть только битва на Волге и ее возможные последствия. И выводы по собственной инициативе приписало Литвинову…
Празднование 25-й годовщины Октябрьской революции дало возможность Литвинову еще раз приковать внимание американской общественности к советско-германскому фронту. При содействии Рузвельта и мэра Нью-Йорка Ла-Гардиа 8 ноября 1942 года Америка отметила как День Сталинграда. В нью-йоркском Мэдисон-Сквер-гарден состоялся конгресс американо-советской дружбы. На него прибыли представители рабочих организаций, писатели, ученые, промышленники, деятельницы женского движения. Рузвельт не смог явиться на конгресс, но прислал в его адрес приветствие. Выступили вице-президент Генри Уоллес и другие ораторы. Все говорили о великом подвиге Красной Армии и советского народа. Литвинов вышел на трибуну под гром оваций. Говорил о необходимости крепить антигитлеровскую коалицию, о том, что слова поддержки и восхищения «дойдут до сердец воинов Красной Армии, сражающихся среди руин Сталинграда и на других фронтах. Они найдут также глубокий отклик у всех советских людей, работающих в условиях неописуемых трудностей во имя свободы человечества».
Симпатии к Советскому Союзу росли не только в Соединенных Штатах, но и в других странах Западного полушария. Еще в июне 1942 года дипломатические отношения с Советским Союзом установила Канада. В разгар немецкого наступления на Сталинград решение восстановить дипломатические отношения с СССР приняла Мексика. Литвинов вел по этому вопросу переговоры с мексиканским послом в Соединенных Штатах. В 1943 году были восстановлены дипломатические отношения с Уругваем. Все это говорило о росте авторитета Советской страны, о признании всеми народами ее громадных заслуг перед человечеством.
Ноябрь и декабрь 1942 года принесли решающий перелом в битве на Волге. Красная Армия взяла немецкие войска в железные клещи и начала уничтожение армии Паулюса. В эти месяцы в советском посольстве не умолкали телефоны, каждый день почта приносила сотни писем и телеграмм от американцев. Они интересовались новостями, желали скорейшей победы. Исход событий был уже ясен. В ночь на 1 февраля американские радиостанции передали сообщение Советского информбюро о полном и окончательном разгроме немцев под Сталинградом.
В газетах публиковались статьи и комментарии, печатались снимки советских военачальников, руин Сталинграда, плененных немецких генералов. Вашингтонская «Стар» писала, что «битва за Сталинград является одной из величайших в истории. Она закончилась полной победой русских и тяжелой катастрофой для держав оси. В сталинградском сражении русские показали, какие огромные препятствия можно преодолеть напряжением человеческой воли. Сталинград стал для немцев мясорубкой, еще более страшной, чем Верден в прошлую мировую войну».
Митинги и собрания солидарности с Советским Союзом состоялись во многих городах США. Выступали Альберт Эйнштейн, Эрнест Хемингуэй, известный полярный исследователь адмирал Бэрд и многие другие. Теодор Драйзер прислал приветствие Советскому Союзу, обошедшее крупнейшие американские газеты. «Считаю честью, – писал Драйзер, – выразить свою благодарность русскому народу за его гигантские труды на благо всего человечества, за его поразительные социальные достижения, за его героическую оборону родины от нападения сумасшедшего Гитлера. С 1917 года я следил за социальным строительством в России и всегда был убежден в том, что… надежды цивилизации в настоящее время покоятся на достойных знаменах мужественной Красной Армии, а также на разуме, природной гуманности и социальном благородстве русского народа».
Президент Соединенных Штатов тоже считал необходимым дать оценку подвигу советских армий. Рузвельт писал: «Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город… будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей».
Разгром гитлеровских армий под Сталинградом вызвал и еще один весьма любопытный отклик. Его автором был… А. Ф. Керенский. Бывший глава Временного правительства последние четверть века провел в эмиграции в США. Его пророчества о неизбежной гибели большевиков и Советской власти давно уже быльем поросли. И теперь этот враг Советского государства, бежавший из революционного Петрограда, люто ненавидевший социалистический строй, всю жизнь боровшийся против него, изумленный мужеством советских солдат, просил приема у Литвинова.
Максим Максимович прочитал письмо, повертел его в руках. Бросил на стол. Затем губы его брезгливо сжались. Он молча ходил по кабинету, думал. Может быть, вспомнил то далекое лондонское лето 1918 года и собрание, на котором выступал Керенский, обливая потоками грязной клеветы Ленина и большевиков. Он прибыл тогда в Лондон, чтобы заручиться военной поддержкой Антанты и с ее помощью задушить Советскую власть.
В разгар выступления Керенского в зал вошел Литвинов. Присутствующие устроили ему овацию, в которой совершенно потонул одинокий голос оратора…
Максим Максимович решительно повернулся к вошедшему сотруднику и сказал:
– Некоему Керенскому на его письмо не отвечать…
Литвинов внимательно следил за нарастанием симпатий к своей стране. Теперь, выступая на крупнейших собраниях и митингах, он стал подчеркивать необходимость установления прочного и длительного мира после войны, все чаще говорил Рузвельту, что на Советском Союзе и Соединенных Штатах будет лежать особая ответственность за поддержание этого мира.
В начале апреля 1943 года Литвинова вызвали в Москву.
Сообщения о предстоящем отъезде советского посла появились на страницах газет. Корреспонденты осаждали Литвинова расспросами. Он коротко отвечал, что едет по вызову правительства, а его жена остается в Вашингтоне.
Литвинов решил не откладывать отъезд. Подготовил необходимые инструкции для работы посольства. Позвонил Рузвельту, сказал, что уезжает в ближайшие дни. Президент, разумеется, уже знал об этом.
В канун отъезда Литвинов пришел к Рузвельту прощаться. Рузвельт долго молчал, потом спросил:
– Вы не вернетесь?
Литвинов пожал плечами. Заговорил о военных поставках, о втором фронте.
Так была прервана высокополезная для Советской страны деятельность Литвинова в Соединенных Штатах Америки, деятельность, в которой проявились огромная энергия и ум многоопытного дипломата…
После разгрома армии Роммеля можно было лететь на Родину через «черный континент». Всем, кто летит в Африку, полагалось делать прививки против чумы, холеры и других опасных болезней. Литвинов отправился в военное министерство, где находился специальный медицинский пункт.
Мрачное пятиугольное здание произвело на Литвинова тягостное впечатление. В военно-медицинском пункте врач долго и придирчиво осматривал и выслушивал Литвинова, а затем сказал, что полет не разрешает. Максиму Максимовичу было шестьдесят семь лет, авиация тогда была далеко не совершенной, и длительное воздушное путешествие через океан и пустыни могло тяжело сказаться на его здоровье, если не окончиться трагически. Литвинов настоял, чтобы ему сделали прививку.
Неожиданно возникло и другое препятствие. Решено было, что с Литвиновым в Москву полетит Петрова. Но военное ведомство воспротивилось: военные летчики ни за что не хотели брать в самолет женщину. Это считалось дурным предзнаменованием. После долгих препирательств договорились, что в документах Литвинова будет написано: «Следует советский посол с секретарем». Секретарь мог быть и мужчиной.
Сборы в дорогу, как обычно, были недолгими. Из Вашингтона летели на гражданском самолете до Майами. Оттуда – уже на военно-транспортном самолете до Тегерана.
Во время перелета, который вместе с остановками длился двенадцать суток, Литвинов познакомился с жизнью американских и английских гарнизонов, разбросанных на огромном пространстве от Майами до Багдада. Впечатления складывались в гигантскую мозаику, очень пеструю и поучительную.
Союзники устроились с большим комфортом. Казармы были хорошо защищены от москитов, разделены на комнаты, рассчитанные на двух человек. В солдатских и офицерских столовых кормили, как в первоклассных ресторанах. А в это время на фронте в три тысячи километров от Мурманска до Кавказа Красная Армия вела тяжелые бои с фашистскими ордами.
Во время остановок в гарнизонах Литвинов выступал с докладами. Рассказывал о положении на советско-германском фронте, о тяготах, которые переживают советские люди, о героизме солдат и офицеров Красной Армии. Говорил о неизбежности победы СССР над гитлеровской Германией. И всегда заканчивал свою речь призывом к скорейшему открытию второго фронта. Слушали внимательно, с интересом, задавали много вопросов.
В Тегеране Литвинов, не задерживаясь, пересел на советский самолет и вылетел в Баку. Здесь фронт был уже близко, затемненный город ощетинился зенитными орудиями. Литвинов хотел сразу же вылететь в Москву, но пришлось ждать ночи, чтобы избежать нападения фашистских самолетов.
В Москву Литвинов прилетел утром. На аэродроме его встречала дочь Татьяна.
Литвинов не знал, что ждет его впереди. Конечно, он понимал, что формально уже давно подошел к тому возрасту, который называют пенсионным, но он никогда не представлял себя вне работы, а те два года вынужденной отставки рассматривал как досаднейший эпизод в своей жизни. Он работал, как работали все люди его склада и образа мышления, не думая ни о возрасте, ни о здоровье.
Он просто не понимал, как может большевик уйти на покой, когда вокруг идет борьба и, быть может, опыт, который он накопил за десятилетия, будет полезен и даже необходим.
С этой твердой верой он вернулся на Родину, которая вот уже почти два года вела смертельную схватку с фашизмом. В невероятных муках и лишениях была достигнута вершина, с которой уже угадывались далекие зарницы победы. Но Литвинов понимал, сколько еще сил, энергии и разума придется приложить его стране, чтобы выиграть войну, а затем добиться прочного и длительного мира. Этой цели он и хотел посвятить остаток своей жизни.
Эпилог
Последние годы
Летом 1943 года гитлеровское командование предприняло попытку взять реванш за поражение под Сталинградом. Однако это была безнадежная затея. В битве на Курской дуге Красная Армия нанесла еще одно сокрушительное поражение вермахту.
Вынуждены были активизировать свои действия и союзники. Еще в январе 1943 года на встрече Рузвельта и Черчилля в Касабланке было решено после захвата Северной Африки предпринять высадку в Сицилии. Вопрос о вторжении в Европу через Ла-Манш, которое могло бы приблизить разгром Германии, так и остался открытым. Таким образом, открытие второго фронта в Европе вновь откладывалось. 10 июля 1943 года американские войска высадились в Сицилии, а затем в Южной Италии. Режим Муссолини пал. После решающих успехов Красной Армии на Восточном фронте и активизации действий союзников в Южной Европе можно было ожидать скорого выхода из войны и других стран. В Москве, Вашингтоне и Лондоне начали готовиться к большой встрече на высшем уровне – к Тегеранской конференции. Дипломаты снова выдвигались на авансцену политической жизни.
Полгода Литвинов продолжал числиться послом в Америке. Молотов его почти игнорировал. Лишь иногда, когда возникал какой-нибудь сложный дипломатический вопрос, обращался к Литвинову за помощью, был любезен, называл по имени и отчеству, расспрашивал, советовался. Потом все шло по-старому: грубость, пренебрежение.
А. Я. Вышинский, занимавший тогда пост первого заместителя Молотова, действовал точно так же. Любое предложение Литвинова встречал в штыки или игнорировал. Старался во всем потрафить Молотову. Главным для него было желание угодить руководству. Как-то на заседании обсуждался важный внешнеполитический вопрос. Вышинский изложил свое мнение, с жаром защищал его. Молотов поморщился. Вышинский тут же переориентировался и выдвинул предложение, исключающее предыдущее. Литвинов не вытерпел, резко заметил:
– Слушайте, Вышинский, вы ведь только что предлагали прямо противоположную идею.
Молотов замял спор.
Еще до того, как это было окончательно решено, Литвинов понял, что в Соединенные Штаты больше не поедет. 23 мая 1943 года он писал сыну Михаилу: «Мой дорогой Мишук! По вызову начальства прибыл сюда 21 апреля… Маму оставил в Вашингтоне, но она, вероятно, уже сбежала в Нью-Йорк, который она всегда предпочитает столице… Она опубликовала несколько статей в журналах, снабдив их собственными иллюстрациями, затем выпустила новое издание „Хис мастерс“ под новым названием „Москоу мистери“, с большим предисловием. Книга имеет больший успех, чем в Англии…
Ехал сюда в предположении, что обратно в США не поеду. Не могу еще сказать, насколько это предположение оправдается. Если нет, то все же думаю повидаться с тобой. Какой-то твой товарищ сказал Тане, что ты будешь здесь 4 июня. Раньше этого числа, во всяком случае, не уеду. Если понадобится, то буду хлопотать перед твоим начальством о разрешении тебе слетать сюда на несколько дней…
В ожидании скорой встречи кончаю.
Крепко целую. Твой папа».
В конце лета 1943 года послом в США был назначен А. А. Громыко. Литвинов оставлен в Москве на посту заместителя наркома иностранных дел. В последние военные годы он участвует в обсуждении важнейших внешнеполитических вопросов, возглавляет комиссию по подготовке мирных договоров, принимает экзамены в Высшей дипломатической школе, составляет ноты, выступает с предложениями по вопросу о послевоенном устройстве мира. Его имя упоминают в сообщениях о дипломатических приемах, за пределами официальных кругов полагают, что он входит в круг дипломатов, решающих государственные проблемы. Незадолго до конца войны на прием в английское посольство прибыл Сталин. На этом приеме присутствовали многие советские дипломаты, в том числе и Литвинов. Неожиданно Сталин подошел к Литвинову, приветливо поздоровался и предложил выпить на брудершафт. Все вокруг замерли. Литвинов ответил:
– Товарищ Сталин, я не пью, врачи запретили.
– Ну ничего, – сказал Сталин, – считайте, что мы выпили на брудершафт.
На следующий день Литвинова переместили в другой, более просторный кабинет, рядом с Вышинским.
Летом 1944 года открылся второй фронт. Начался завершающий этап второй мировой войны. Советские войска освободили Польшу, Болгарию, Венгрию, Австрию, Северную Норвегию, подошли к границам Германии. Огромные усилия советского народа, его армии, усилия союзников наконец-то привели к тем результатам, ради которых сражались и умирали десятки миллионов людей.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Мир ликовал. Москва салютовала победителям, в небе рассыпались сверкающие гирлянды фейерверков. Старый дипломат думал о будущем. В тот день он написал на экземпляре газеты «Известия» над опубликованным Актом о капитуляции: «Мише, Павлу и моему дальнейшему потомству на память о сегодняшнем историческом дне разгрома материальных сил фашизма».
Какая точность политической формулировки! В ликующий, солнечный первый мирный день он смотрел в будущее. Ради счастья грядущих поколений призывал к бдительности, напоминал, что разгромлены материальные силы фашизма, но тлетворный дух его, гнусная идеология не искоренены.
После победоносного завершения Великой Отечественной войны Литвинов еще около года работает в Наркоминделе. Чем занимается Литвинов, что тревожит его, о чем он думает?
После страшных испытаний, принесенных войной, народ возрождает страну к мирной жизни. Восстанавливаются заводы, фабрики, строятся дома. Целые города поднимаются из руин. Литвинов счастлив видеть это, слышать о новых успехах. В Донбассе инженеры и рабочие совершают чудо – восстанавливают взорванную домну, которая наклонилась при взрыве, но не упала. Через Днепр наводят новый мост, появляются сообщения о строительстве жилых кварталов в Киеве, Смоленске, Великих Луках, Минске. Литвинов делится с друзьями этими сообщениями, радуется. Его мысли целиком заняты будущим Родины, укреплением ее международного положения на основе того громадного авторитета, который был накоплен Советским Союзом за годы войны против фашизма.
Литвинов пишет докладные записки в правительство, Сталину, предлагает планы, проекты. Подготовил большое письмо, в котором подробно изложил план заключения государственного договора с Австрией, одной из первых жертв гитлеровского фашизма. Урегулирование австрийского вопроса Литвинов считал важной внешнеполитической задачей Советского Союза.
На февраль 1946 года были назначены первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР. Литвинова выдвинули кандидатом в депутаты. Но уже не в Ленинграде, где он баллотировался два десятилетия, а в городе Кондопоге Карело-Финской республики. В биографии M. M. Литвинова, представленной избирателям 283 избирательного округа Карело-Финской ССР, было сказано много теплых слов о революционной, государственной и дипломатической деятельности Максима Максимовича: «Враги Советского Союза, враги мира и прогресса не раз испытали на себе силу литвиновской логики, литвиновского сарказма и остроумия. Тов. Литвинов является выдающимся деятелем, одним из старых большевиков. Он пользуется огромным авторитетом во всем мире… Старейший большевик, выдающийся деятель советского государства и советской дипломатии, Максим Максимович Литвинов является достойным кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Он много и плодотворно работает над укреплением дружеских отношений со всеми странами мира, усилением влияния Советского Союза по разрешению вопросов послевоенного устройства».
Литвинов из-за болезни не мог встретиться с избирателями, прислал письмо, которое опубликовала республиканская газета «Ленинское знамя». Горячо поблагодарил за оказанную честь, сказал об огромных задачах, которые стоят перед страной после одержанной победы, и закончил свое письмо следующими словами: «Я обещаю вам предназначенный мне остаток жизни по-прежнему отдавать беззаветному служению интересам нашей дорогой Родины, добросовестному выполнению в меру моих сил и умения той работы, которая мне будет поручаться партией и правительством».
10 февраля Литвинова избрали депутатом Верховного Совета СССР. На I Всесоюзном съезде Советов в декабре 1922 года Литвинов был избран в состав ЦИК. Последнее избрание в 1946 году завершило его пребывание в высшем органе Советского государства.
17 июля 1946 года Максиму Максимовичу Литвинову исполнилось семьдесят лет. В отличие от 60-летия, которое он встретил в Эвиане, теперь все было по-другому. Никаких официальных телеграмм и приветствий.
Впрочем, о нем вспомнили. На следующий день Литвинову позвонил Деканозов, также занимавший пост заместителя наркома, сказал:
– Приходите, жду вас.
Их кабинеты находились в разных крыльях здания. Литвинов поднялся на три этажа, потом прошел в кабинет Деканозова. Тот был немногословен. Без обиняков перешел к делу:
– Мне поручили сообщить, что вы освобождены от работы.
Так закончилась дипломатическая деятельность Максима Максимовича Литвинова.
Все же брудершафт, предложенный Сталиным в английском посольстве, продолжал оказывать свое магическое действие. Литвинову предложили «стать» академиком. Он отказался:
– Какое отношение я имею к Академии наук? Не считаю возможным даже говорить на эту тему.
Теперь уже окончательно можно подвести итоги прожитой жизни. И право, ему есть что вспомнить, есть, чем гордиться. Раньше у него никогда не оставалось времени для себя, да и потребности особой не было, его жизнью была работа. Теперь все свое время Литвинов отдает книгам, перечитывает всего Пушкина, углубляется в историю французской революции. Много читает английских авторов – романы Диккенса и Теккерея, увлекается романистом 70-х годов XIX века Антони Троллопом, перечитывает биографические романы французского писателя Андре Моруа, особенно ему нравятся «Карьера Дизраэли» и «Премьер-министр». Эти произведения помогают ему переосмыслить английскую политику за последние десятилетия, ее непоследовательность, приведшую к многим провалам и поражениям. Внимание привлекает фраза из романа Троллона «Премьер-министр»: «Для того чтобы выйти на первое место в государстве, надо быть человеком посредственным и лишенным щепетильности». Литвинов отмечает на полях книги: «Узнаю английских премьер-министров».
Его часто можно видеть в Ленинской библиотеке. Как и всюду, он ходит туда пешком. Автомобиль у него отобрали сразу же после отставки. Возле дома на улице Серафимовича, где живет Литвинов, стоянка такси. И каждый день происходит одно и то же: как только Литвинов появляется на тротуаре, к нему устремляются машины, открываются дверцы, и шоферы предлагают:
– Садитесь, Максим Максимович, подвезем в любое место, об остальном не беспокоитесь.
Литвинов благодарит и всегда отказывается.
О заботе, проявляемой таксистами, стало известно. А. А. Жданов отругал Деканозова, приказал дать Литвинову автомобиль.
Иногда по большим праздникам Литвинова приглашают на приемы. Последний раз это произошло в начале 1947 года. Известный английский журналист и публицист Александр Верт, автор книги «Россия в войне 1941–1945», пишет: «Возможно, самым упорным сторонником „мягкой“ политики был Литвинов, который даже в 1947 году продолжал оставаться на своих позициях. Я беседовал с ним на приеме, который дал Молотов по случаю Дня Красной Армии в феврале 1947 года…
В этот момент мимо нас прошел Вышинский и бросил на нас обоих исключительно недобрый взгляд. Литвинов никогда больше не появлялся ни на каких дипломатических приемах. Неосторожные замечания, сделанные на том же приеме Айви Литвиновой, притом так громко, что их мог слышать каждый, очень не понравились к тому же и Молотову».
Теперь уже совсем редко его приглашают только на собрания, посвященные революционным юбилеям. Иногда он выступает в Центральном музее Революции СССР и Центральном музее В. И. Ленина. Делится воспоминаниями о побеге из Лукьяновской тюрьмы, о годах «Искры». Потом перестали приглашать и на эти вечера.
Но люди Литвинова не забыли. Ему шлют письма, телеграммы, обращаются за советами, выражают добрые пожелания. Вот одно из таких писем:
«Здравствуйте, Максим Максимович!
Поздравляю Вас с наступающим Новым, 1948 годом! От всей души желаю Вам долгих лет жизни.
Извините за письмо, ибо оно написано Вам человеком, которого Вы совершенно не знаете, но который знает Вас. С каждым годом из ленинской гвардии остается все меньше и меньше славных представителей, как Вы. Но память о Вас никогда не померкнет. Ваше оружие, которое Вы привозили через Финляндию, с которым был свергнут царизм, с которым были отбиты волны интервенций, Ваши пламенные речи с трибуны Лиги наций в Женеве помогали победить в Великой Отечественной войне, помогут победить и в грядущих боях за всемирный коммунизм.
Желаю Вам, дорогой Максим Максимович, еще и еще раз счастливого Нового года.
Слава! Почет! Признательность старой ленинской гвардии большевиков от ее воспитанников!
Слава Вам – седому подпольщику – пламенному революционеру!»
На склоне лет Литвинов начинает составлять словарь синонимов, на это уходит два года. Когда словарь был готов, он послал в издательство предложение познакомиться с материалом. Ему долго не отвечают. Потом приходит отказ. Нет, с ним не заключат договор. Может быть, он возьмет себе в соавторы человека, известного в области филологии, тогда и будет разговор.
Потом прислали письмо, предложили написать рецензию на шведско-русский словарь. Как к любому делу, Максим Максимович отнесся к этому предложению вполне серьезно. Считая свои познания в шведском языке недостаточными, отказался. 16 июня 1948 года он пишет Коллонтай:
«Дорогая Александра Михайловна!
Мое письмецо Вы, надеюсь, получили. Сейчас пишу деловое.
Мне предложило издательство написать рецензию на шведско-русский словарь. Должен был, к стыду своему, признаться в своем невежестве. Но вот осенила меня мысль: не возьметесь ли Вы за сие дело? Речь идет об оценке словаря (не для печати, а для самого издательства: стоит ли печатать). Составлен словарь моей бывшей сотрудницей Милановой. Думается мне, что издательство было бы обрадовано, если Вы затем согласитесь редактировать словарь».
Переписка с Коллонтай становится все оживленнее. В общении друг с другом они находят радость. И переписку прекращает лишь кончина Литвинова.
Александра Михайловна тогда усиленно работала над своими записками. Обычно она сама передавала Литвинову свои литературные труды или делала это через свою сотрудницу Ларису Ивановну Степанову. Литвинов был первым критиком записок, давал советы, вносил предложения, иногда не соглашался с тем или иным положением. 23 июня 1949 года он писал ей:
«Дорогая Александра Михайловна!
Спасибо за письмецо. Выражаю сочувствие по случаю бесцеремонной погоды, которая мало приятна и нам, горожанам.
Вернул Ларисе Ивановне все Ваши тетради. Воздерживаясь, согласно Вашей просьбе, от похвал, должен, однако, сказать, что читаю Ваши записки с неослабевающим интересом. Запоздало сочувствовал Вам в ваших заботах о селедке, треске и тюленях, которым Вы должны были уделить внимание наряду с лирическими отступлениями и поэтическими описаниями красот природы. Вы, конечно, влюблены в Норвегию. Я всегда жалел, а теперь еще больше жалею, что она осталась в стороне от моих многочисленных экскурсий по Европе. Собирался туда каждое лето, но так и не собрался. Что же, человеку всегда суждено умереть, чего-то не совершив и не доделав.
А сколько позабытых эпизодов и лиц Ваши записки воскресили в моей памяти! Большущее Вам спасибо. Нечего и говорить, что буду бесконечно благодарен Вам за дальнейшую литературу этого рода. Крепко жму руку и желаю здоровья и хорошей июльской погоды.
Ваш Литвинов».
Летом 1949 года Литвинов уезжает в Кемери, надеясь подлечить на этом прибалтийском курорте застарелый ревматизм, полученный еще в тюремные годы.
Здесь ему все знакомо. Через Прибалтику он отправлял оружие в Россию из Германии и других стран. В Риге были явки, перевалочные базы. Туда слали ему письма Владимир Ильич и Надежда Константиновна.
В Кемери Литвинов встретился с Майским и бывшим помощником Чичерина Короткиным. Вместе они часто гуляли вдоль берега моря. Как-то вечером, в предзакатный час, они втроем сидели на берегу. Разговорились о прошлом. Литвинов скупо отвечал на вопросы. Потом мягкая улыбка осветила его лицо, и он сказал своим спутникам:
– А с Георгием Васильевичем я впервые встретился в 1904 году. После катастрофы с «Зорой» Чичерин потребовал в ЦК РСДРП, чтобы создали комиссию для расследования причин гибели «Зоры», а меня привлекли к ответственности. Комиссию создали, и Георгий Васильевич даже специально приехал из Парижа в Брюссель, где заседала комиссия ЦК… Мои действия признали правильными… Георгий Васильевич уехал в Париж, и мы с ним встретились уже в Лондоне… Громадный был человек. Своеобразный.
Улыбка долго не сходила с лица Максима Максимовича. Он думал о давно ушедших годах…
В Риге и Кемери Литвинова узнавали, останавливали на улицах. Он писал Коллонтай 2 августа 1949 года: «Пишу Вам в пространство, не зная, где Вы сейчас находитесь, – в Москве или в Чкаловской. Хочу надеяться, что, несмотря на гнилое лето, Вы чувствуете себя окрепшей и извлекли все ценное из своего пребывания на лоне природы.
Как в Москве, так и здесь приходится бороться за грязь, в которой мне отказывали было. В общем, битва за грязь выиграна, но толку мало, даже никакого. Никакого улучшения пока не чувствую. Утешают меня, что эффект может сказаться спустя некоторое время уже в Москве. Что ж, вооружимся оптимизмом и утешимся. Ничего более не остается…
Отвлекаясь от безрезультатного лечения, должен сказать, что во всех других отношениях здесь было хорошо. Внимание и уход не оставляют желать лучшего. Чувствую себя все время свадебным генералом. Воздух отличный, есть общество, кино и другие развлечения. Много ли человеку нужно…»