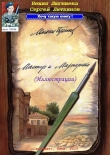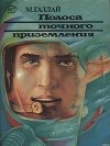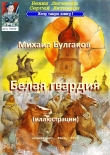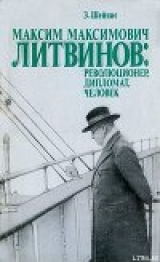
Текст книги "Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек"
Автор книги: 3иновий Шейнис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Вот свидетельство другого ответственного сотрудника Наркоминдела – однофамильца секретаря Литвинова – Б. И. Козловского, многие годы проработавшего генеральным консулом СССР в Китае и на других руководящих дипломатических постах: «Литвинов – это образец организованности. Он никогда ни у кого не отнимал минуты, не заставлял ждать, но не разрешал и у себя „воровать“ минуты. Принимал точно в назначенное время, укладывался в него. В конце беседы извинялся, смотрел на часы: меня ждут следующие».
Много внимания Максим Максимович уделял воспитанию молодых сотрудников. Но это не было назойливое менторство и поучения. Он предпочитал, чтобы опыт и знания накапливались в непосредственной, живой работе, поощрял молодежь. Как-то Литвинов с группой сотрудников обсуждал вопрос о назначении одного молодого человека. Один из присутствовавших сказал Литвинову, что тот карьерист. Литвинов ответил: «Какой же молодой человек не хочет сделать карьеру?» И утвердил назначение.
Однако он резко отрицательно относился к людям, а особенно к дипломатам, которые стремились выдвинуться любой ценой. О таких сотрудниках в Наркоминделе тогда говорили, что они больны «полпредитом». Литвинов совершенно не терпел ябедников и доносчиков. Воспитывал их, если они поддавались воспитанию, по-своему. Однажды молодой сотрудник настрочил Литвинову большое письмо, в котором необоснованно упрекал заведующего отделом в целом ряде «прегрешений». Литвинов собрал производственное совещание, на котором поставил вопрос о стиле и этике работы наркоминдельцев. Дал всем высказаться, а потом изложил свои замечания. После совещания Литвинов в присутствии подателя письма передал его заведующему отделом, сказав, что там имеются кое-какие полезные замечания.
Недопустимым пороком для сотрудника дипломатического аппарата Литвинов считал болтливость. Как-то выяснилось, что этим пороком страдает один ответственный работник Наркоминдела, в силу служебного положения почти всегда присутствовавший на заседаниях коллегии. Литвинов решил проучить его. На заседании коллегии сказал ему:
– Прошу вас выйти на несколько минут. Мне необходимо поговорить с товарищами по сугубо секретному делу…
Тот вышел. Вскоре Литвинов оформил перевод этого сотрудника на другую работу.
Провал интервенции отрезвил капиталистические страны, но каждый день приносил новые «сюрпризы» Советскому Союзу. Вот лишь некоторые из «мелких» проблем, которыми приходилось заниматься Литвинову в течение нескольких месяцев 1923 года.
Норвежское правительство в одностороннем порядке прекращает экономические связи Шпицбергена с Советским Союзом. Это может серьезно отразиться на северных и северо-западных областях СССР, которые снабжаются углем Шпицбергена. Литвинов ведет сложную переписку с министром иностранных дел Норвегии Мовинкелем, улаживает этот вопрос.
В Мексике обнаруживается самозванец. Некий барон Вейндхаузен-Розенберг выполняет в этой далекой стране функции российского консула и знать того не желает, что в России шесть лет назад произошла революция.
Литвинов добивается изгнания самозванца. В Мексику полпредом едет Александра Михайловна Коллонтай.
Врангель во время бегства из Крыма захватил эвакуированное туда имущество Петроградской ссудной кассы, в которой хранились не только частные, но и государственные ценности, перевез это добро в Каттаро и там ведет торговлишку, намерен продать все ценности югославскому королевскому правительству. Литвинов занимается вызволением этого добра.
В Болгарии застряли русские. Обманутые белогвардейской пропагандой, шантажом, они оказались в очень тяжелых условиях. Их надо вернуть на родину.
Литвинов находит выход. Он обращается к человеку, которого знает и уважает весь мир, Фритьофу Нансену, пишет ему письмо: «Дело огромного гуманного значения, как репатриация русских граждан, налаженное при вашем самоотверженном содействии, погибает, и многие тысячи российских граждан, введенные в заблуждение контрреволюционными генералами, подвергавшиеся в течение ряда лет неимоверным лишениям и жаждавшие вернуться на родину и зажить новой честной жизнью, обречены теперь… на дальнейшие невзгоды и лишения на чужбине».
Французское правительство тоже задерживает репатриацию русских граждан. Наркоминдел посылает во Францию миссию Красного Креста, чтобы ускорить возвращение репатриантов. Но миссия прибывает в Берлин и дальше ехать на может – французское посольство в Берлине не дает ей визы для въезда во Францию. Литвинов ведет телеграфную переписку с министром иностранных дел Франции Пуанкаре. Тот изворачивается. Парламент, дескать, не отпустил кредитов на репатриацию, поэтому якобы и не выданы охранные грамоты русской миссии Красного Креста. Пуанкаре клянется в любви и симпатиях к русскому народу.
Литвинов отвечает, что все заверения в любви к русскому народу не стоят и ломаного гроша, а недостойная политика французского правительства вызывает «громадное разочарование среди заинтересованных, с нетерпением ожидающих прибытия российской делегации и своего возвращения на родину». Вскоре началась репатриация.
Руководство Наркоминдела ведет борьбу за возвращение судов русского морского торгового флота, захваченных во время империалистической и гражданской войн.
«Мелкие» заботы чередуются с более крупными, сложными. Весной 1923 года происходит резкое обострение англо-советских отношений. События начинаются с провокации.
Английские суда пытаются хозяйничать в северных водах России. Советские власти задерживают английское рыболовное судно «Джеймс Джонсон». Английский Форин офис нервничает. Литвинов ведет дело спокойно. Впечатление такое, что он проявляет английскую выдержку и хладнокровие, а не англичане. Английский агент в Москве Ходж-сон выходит из себя, угрожает, но факты против него. Никто не имеет права вторгаться в советские территориальные воды. «…Российское Правительство, – пишет Литвинов Ходжсону, – всю проблему о территориальных водах рассматривало и будет рассматривать, исходя из того духа миролюбия, которым оно всегда руководится в своей внешней политике».
В Лондоне продолжают обострять отношения, задето самолюбие «владычицы морей». Английское правительство отдает приказ о посылке канонерки к мурманским берегам, угрожает применением силы. Керзон шлет «ультиматум». Лидер лейбористской партии Макдональд телеграфирует в Москву, что он и его партия взирают «с тревогой на всякую возможность разрыва, раньше чем будут использованы все способы решения вопроса путем арбитража и переговоров». Литвинов отвечает Макдональду 11 мая 1923 года: «Считаю нужным заверить Вас, что Советское Правительство, хотя не может подчиняться ультиматумам и угрозам, готово все русско-британские споры разрешить в миролюбивом духе, как это доказывает его решение освободить захваченные траулеры».
В тот же день Литвинов по поручению Советского правительства ответил на «ультиматум Керзона». Он писал, что «шаг Великобританского Правительства вызван, по-видимому, в корне неправильной оценкой состояния Советских республик под явным влиянием белой эмиграции, которая никогда еще не искажала действительности так, как теперь». И Литвинов снова предлагает уладить конфликт мирным путем «в интересах всеобщего мира, в интересах экономического восстановления разрушенной Европы, в интересах как народов Советского Союза, так и английского народа». Вскоре конфликт был улажен.
Чтобы вполне оценить хладнокровие, выдержку Литвинова, надо вспомнить, в каких условиях приходилось работать советской дипломатии.
В те дни в Лозанне убили Вацлава Вацлавовича Воровского, товарища по революционной борьбе, агента «Искры», близкого друга. 11 мая 1924 года на открытии памятника Воровскому в Москве Литвинов произнесет пламенную речь, в которой скажет о двух выстрелах: «…лорд Керзон выстрелил ультиматумом в сердце нарождающегося нового мира – Советской республики. Два дня спустя… белогвардеец Конради выстрелил в представителя Советских республик товарища Воровского.
Оба выстрела явились следствием одних и тех же причин и преследовали одну и ту же цель. Эти выстрелы были проявлением отчаяния международной буржуазии, потерпевшей позорное поражение в своей первой интервенции и блокаде Советских республик…
Выстрелы Керзона и Конради, можно сказать, являются арьергардными выстрелами. То была арьергардная стычка позорно отступившей международной буржуазии после первой интервенции…»
Международная обстановка требовала не только бдительности, но и чрезвычайной гибкости, осторожности, умения не поддаваться на провокации. На каждый арест иностранца заграница отвечала скандалами, нотами протеста. Иногда и чекисты в пылу борьбы совершали ошибки. Однажды Литвинов вынужден был даже обратиться к Дзержинскому:
– Феликс Эдмундович, вы мешаете работать дипломатам.
– В чем дело, Максим Максимович? – спросил Дзержинский.
– Арестовываете иногда без серьезных оснований. А потом нам приходится отдуваться. Получаем ноты протеста.
Дзержинский на секунду задумался, потеребил свою бородку клинышком, походил по комнате:
– Максим Максимович, все эти господа иностранцы сидят в одной тюрьме. Вот вам пропуск, идите в тюрьму, посмотрите всех, кого мы вынуждены были арестовать. Познакомьтесь с их делами. И если вы найдете, что мы поступили неправильно, опрометчиво, освобождайте из тюрьмы.
После этого разговора с Дзержинским кое-кто из иностранцев был выпущен из тюрьмы и выслан из Советской страны.
Вечерами дома Литвинов преображался, отрешался от забот, отдыхал. Семья вела спартанский образ жизни. Зимой комнаты еле отапливались, как это делают в Англии. Каждый имел свои обязанности и поручения. Вечера, если у Литвинова не было срочных дел, проходили весело, дружно. Литвинов проявлял неистощимый юмор, устраивал представления. «Эти вечера смеха, – вспоминала Татьяна Литвинова, – были очень любимы в нашей семье. Очень часто отец любил тренировать свою память и мою с братом. Скажет слово и просит, чтобы составили новое на последнюю букву предыдущего. Страстно любил стихи, особенно Пушкина, читал наизусть, всегда с восхищением находил новые краски и оттенки в творениях поэта.
Утром часто можно было слышать, как отец ведет во время завтрака беседу с мамой. Собственно говоря, беседы эти всегда бывали односторонние. Мама говорила без умолку, а отец молчал. Но чтобы как-то участвовать в разговоре, он то подвинет тарелку, то переставит чашку, издав при этом какой-нибудь звук одобрения или отрицания, хмыкнет. Мама задавала тысячи вопросов, говорила о необходимости расширить преподавание английского языка в школах, о всякой всячине. В ответ раздавалось сакраментальное «хм» и слышался звон тарелок и чашек».
Шли месяцы, годы, заполненные большими, важными делами, размышлениями о будущем.
Литвинову уже под пятьдесят. Доволен ли он прожитыми годами? Ему некогда задумываться о прошлом. Лишь друзья из Истпарта возвращают его к былым временам: «Максим Максимович, напишите воспоминания. Ведь это так важно для истории нашей партии. Найдите время, очень просим вас. И Лондон не забудьте, и Цюрих, „Искру“…» А Литвинову все некогда. Да и не любит он писать о себе. Лишь два-три раза удалось уговорить его написать о прошлом.
Вот разве съездить в Киев, посмотреть Лукьяновку, ту тюремную камеру, где он сидел. Или в Клинцы, побывать на пеньковой фабрике, там наверняка можно найти людей, с которыми он работал. Или в Питер махнуть на недельку, побродить по городу, посмотреть знакомые места. А может быть, в Самару или в Бежицу, ведь Крупская слала ему туда шифрованные письма. Или поехать на Кавказ, в Тифлис. Как жаль, что погиб Камо. Вот собраться бы и вспомнить прошлое!
Но работа, очень много работы. И никуда он не поехал.
Наступил 1924 год. Январь, день 21-й.
Для Литвинова смерть Ленина была большой личной драмой. Он потерял близкого человека, великого наставника и мудрого советчика, под руководством которого десятилетия работал в партии.
Вот что вспоминает А. В. Литвинова. «Максим Максимович не ложился спать, всю ночь ходил по комнате. В Лондоне он не посвящал меня в свои партийные дела, я даже не знала о его переписке с Лениным. Он тщательно скрывал свои партийные связи. Но в ту ночь он предался воспоминаниям. Это были даже не воспоминания, а штрихи к портрету Владимира Ильича, детали о встречах с ним. Вот один из таких штрихов.
…Это было в 1920 году. Не помню, почему я не пошла с мужем в Большой театр. Кажется, не очень хорошо себя чувствовала, болела. Максим Максимович пошел один. Давали «Севильского цирюльника». Литвинов уединился в боковой ложе. Он не мог знать, что в это время к нему в Наркоминдел позвонил Ленин. Как позже выяснилось, у Владимира Ильича был срочный вопрос к Литвинову. Секретарь сказал Ленину, что Максим Максимович в Большом театре, спросил, надо ли его немедленно вызвать оттуда.
– Ни в коем случае, – ответил Ленин.
Когда после второго антракта Литвинов вошел в комнатку перед ложей, он увидел там Владимира Ильича. Он точно рассчитал время и ждал Литвинова. Они переговорили о срочном деле, и Владимир Ильич уехал».
Наступила середина 20-х годов, эра признания Советского Союза. Советскую дипломатию не устраивало просто признание капиталистических стран, своей политикой она стремилась приблизить нормализацию отношений с ними. Договоры, конвенции, соглашения, и нигде не прогадать и ничего не упустить, обеспечить стране максимальную выгоду.
История переговоров с Италией позволяет особенно ярко увидеть дипломатические методы Литвинова, его тактику.
Итальянский дуче, кокетничавший в былые времена своими «социалистическими» взглядами, не раз заявлял, что Италия признает СССР. Еще 30 ноября 1923 года Муссолини сделал такое заявление в палате депутатов, но этим и ограничился. Все пытался выторговать условия повыгоднее, а потому тянул с дипломатическим признанием.
Тем временем лейбористское правительство Макдональда опередило Муссолини, признав 2 февраля 1924 года СССР де-юре.
И вот тогда-то Литвинов прибегает к своему излюбленному приему. 6 февраля он беседует с корреспондентом «Известий» и дает оценку происшедшему. Литвинов заявляет, что навязывание любых условий Советскому Союзу обречено на неудачу. Это лишь осложняет и замедляет признание. Это относится к любой стране, которая желает установления дипломатических отношений с Советским Союзом. А что касается Италии, то «г. Муссолини, явно желавший приписать себе „смелость“ первого признания, дал себя опередить Англии именно потому, что у него не хватило смелости сделать тот шаг, на который решился Макдональд, и заявить о возобновлении дипломатических отношений с Советскими республиками, независимо от окончательного исхода переговоров по тому или иному пункту торгового трактата».
Муссолини отказаться от своих намерений не мог – итальянская экономика крайне нуждалась в развитии отношений с Советским Союзом, и это в Москве было хорошо известно. Пришлось отвечать на заявление Литвинова. 7 февраля Италия признала СССР де-юре. И здесь Муссолини решил взять «реванш». Англия назначила в Москву не посла, а поверенного в делах, итальянское правительство сразу же назначило посла.
Что означал этот шаг со стороны Англии? Уловку, маневр? В любом случае надо было внести ясность. И Литвинов снова дает интервью корреспонденту «Известий». Пусть знает советская и мировая общественность, что в Москве отлично разбираются в тонкостях дипломатической практики и не дадут себя провести. «Я хотел бы рассеять одно недоумение, связанное с английской нотой о признании, – заявляет Литвинов. – Упоминание о временном назначении поверенных в делах вместо послов, согласно полученной из Лондона информации, отнюдь не означает намерения со стороны английского правительства установить промежуточную форму представительства. Для назначения послов требуется, согласно установленным международным обычаям, предварительное одобрение кандидатур, вследствие чего пришлось временно ограничиться назначением поверенных в делах… Будущим историкам придется решать вопрос о том, кто первый нас признал – Англия или Италия… Для нас же признание со стороны Италии будет достаточно ценно даже в том случае, если оно явится на несколько дней позже».
Какая спокойная уверенность в правоте своего дела, сколько тонкой иронии в этих заявлениях.
Но Литвинов мог быть, когда того требовали обстоятельства, беспощаден и в соответствующих условиях действовал с космической скоростью, как боксер на ринге нокаутировал противника, не давая ему опомниться. Эти его качества хорошо проявились во время происшедшего инцидента в советском торгпредстве в Берлине.
Буржуазный мир все же не мог примириться с Рапалльским договором. Германию всячески подталкивали на провокации и конфликты с Советским Союзом. 3 мая 1924 года отряд берлинской полиции вторгся в здание советского торгпредства на Линденштрассе. Они якобы искали там бежавшего преступника и на этом основании учинили обыск и погром, арестовали нескольких сотрудников торгпредства. Полицейские чиновники действовали по всем правилам, которые получили всего лишь через девять лет столь широкое распространение в «третьем рейхе». Это был предлог для того, чтобы порвать отношения с Советским Союзом.
Действовать следовало немедленно, и Советское правительство поручило Наркоминделу разработать соответствующие мероприятия. Их надо было провести решительно и быстро, ибо германское правительство и его министр иностранных дел Штреземан всячески изворачивались, не давая оценку происшедшему, и не желали признать свою вину.
Наркоминдел превратился в командный пункт, откуда направлялись все указания и куда поступала необходимая информация из Берлина и других мест. Факты, отраженные в дипломатических документах, напоминают сводки с поля боя. Это и впрямь была дипломатическая битва, цель которой состояла в том, чтобы показать всем, кто пойдет по пути берлинских налетчиков, что Советский Союз не намерен безнаказанно спускать нанесенное ему оскорбление.
События разворачивались с необычайной стремительностью. СССР решил применить к Германии экономические санкции. С 5 мая была окончательно приостановлена продажа ей зерна. С этой целью всем советским пароходам запретили заходить в германские порты, а продовольственные грузы из СССР в Германию были задержаны. Транспорт яиц, шедший с Украины в Берлин, был переотправлен в Лондон. Туда же были перенаряжены все другие продовольственные транспорты.
3 мая должны были открыться отделения Резинотреста в Германии. Открытие было отменено, а советских сотрудников, прибывших в Берлин, немедленно отозвали на родину. Были закрыты отделения торгпредства в Берлине, Лейпциге и Гамбурге и отделения советских экономических организаций в Германии. К 3 мая в Берлин прибыла закупочная комиссия Госмедторга. Она получила указание никаких медикаментов не покупать, а начать переговоры о закупках в других странах. Все торговые сделки с германскими фирмами приостановили. Были аннулированы заказы одних только наиболее крупных советских хозяйственных органов на 8 миллионов 140 тысяч золотых долларов, что по тем временам было значительной суммой. Заключительным аккордом этой акции был отказ СССР участвовать в лейпцигском аукционе щетины.
В Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и других крупных экономических центрах Германии началось нечто невообразимое, что можно было сравнить с паникой на бирже. Экстренные выпуски газет возвещали о катастрофических последствиях для германской экономики предпринятых Советским Союзом мер.
Литвинов каждый час получал сводки, анализирующие сообщения германской прессы. Читал их, издавая свое сакраментальное «хм». Заходил к Чичерину, советовался о дальнейших шагах, звонил в ЦК, сообщал о ходе акции. Когда, по его мнению, события достигли кульминации, Литвинов вызвал к себе корреспондента «Известий» и дал интервью для печати, в котором вскрыл суть событий. Он предельно лаконичен и краток в оценке фактов: «Неожиданное и бессмысленное нападение берлинской полиции на торгпредство является не только формальным нарушением экстерриториальности и оскорблением Советского правительства, но и действием, лишающим наше торгпредство необходимых условий для спокойной работы. Экстерриториальность торгпредства вытекает из советско-германского соглашения 1921 года, которое Рапалльским договором не было отменено».
В Берлине утверждают что-то невразумительное по поводу действий полиции; что ж, он выскажет свое мнение и по этому вопросу. Кому-кому, а ему хорошо известны нравы и методы берлинской полиции. Он испытал их на себе. И Литвинов подвергает уничтожающей критике действия германских властей: «Объяснение, которое германское министерство иностранных дел пытается дать действиям полиции, несомненно, отдает веселым водевилем и вряд ли может быть принято всерьез. Так все просто и понятно. Вюртембергские полицейские сопровождают тяжкого преступника через Берлин. Опоздав к поезду и пожелав освежиться, они не могут найти возле вокзала или на близлежащих улицах подходящего пивного заведения или ресторана и наивно отдаются в распоряжение арестанта, который ведет их за несколько верст, как раз на ту улицу, где находится торгпредство, чтобы достать кружку пива. Вюртембергские полицейские никогда не видали, вероятно, пивного заведения и принимают за таковое солидное здание советского торгпредства. Не прочитав надписи на дверях, они, ничтоже сумняшеся, по приглашению арестанта в поисках кружки пива входят в незнакомый им дом, а там арестант проваливается и над самими полицейскими учиняется насилие. Вздорность и неправдоподобность подобного объяснения совершенно очевидны».
Дав оценку действиям полиции, Литвинов, что называется, берет быка за рога. Ведь всего лишь два года назад был подписан Рапалльский договор. Он был справедливо расценен как крупная победа советской внешней политики. Так, может быть, эта победа уже сведена на нет. Может быть, и договор этот был нежизненным. Ведь это и есть главный вопрос, который волнует широкие массы в Советском Союзе и Германии. На него надо ответить. И Литвинов это делает: «Общность экономических и политических интересов, которая вызвала к жизни Рапалльский договор и установленные им отношения, еще сохраняет и сохранит свою силу надолго. Я не допускаю ни на одну минуту мысли, чтобы Германское правительство сознательно стремилось к изменению существующих между Советскими республиками и Германией отношений».
Через несколько дней германский посол граф Брокдорф-Рантцау попросил приема. Был принят. Чичерин и Литвинов предъявили требования: германское правительство должно принести извинения. Виновные – наказаны. Ущерб – возмещен.
Граф откланялся, но через три дня снова явился. Литвинов повторил требования. В Берлине поняли, что Советское правительство твердо стоит на своем.
События развивались в соответствии с планами советских дипломатов. И закончились полной победой. 29 июля 1924 года был подписан Протокол об урегулировании инцидента. Германское правительство выразило свое сожаление по поводу происшедшего. Руководитель выступления полиции отстранен от должности, все виновные наказаны. Третий пункт протокола гласил: «Германское правительство заявляет о своей готовности возместить произведенный германскими должностными лицами в здании Торгового представительства материальный ущерб, выказывая при этом предупредительное отношение».
Впервые в истории крупная держава принесла извинение Советскому Союзу. Инцидент был исчерпан. Жизненность Рапалльского договора еще раз доказана. Авторитет Советского правительства еще больше вырос в глазах трудящихся СССР. И в глазах всего мира.
Буржуазная печать отметила исключительно корректный тон советской дипломатии, ее выдержку и высокое чувство собственного достоинства.
Был ли доволен достигнутым результатом Литвинов? Максим Максимович был человеком сдержанным. Никогда не выказывал восторга, не проявлял излишней торопливости в оценке событий. Он умел ждать и заглядывать в будущее. Еще внимательнее стал присматриваться к Германии.
Тот факт, что с первых дней работы в Наркоминделе Чичерин большое внимание уделял странам Востока, породил мнение, что Литвинов Востоком не занимался. И даже позже, когда Литвинов уже был народным комиссаром иностранных дел, считалось, что к Востоку он относится «прохладнее», занимается этими проблемами Карахан, а затем Стомоняков.
Была ли действительно присуща Литвинову недооценка Востока? Есть неоспоримые доказательства, свидетельствующие о том, что Литвинов не обходил вниманием страны Востока уже в первые годы своей дипломатической деятельности и у него выработалась своя концепция. Пожалуй, достаточно ясно она была выражена в том же письме в Политбюро, в котором он в начале февраля 1922 года изложил свою позицию по поводу Генуэзской конференции. В письме есть такая фраза: «Нынешние правительства восточных стран не являются выразителями национально-освободительных стремлений, готовы продать себя, интересы своих стран, а нас и подавно. Охлаждение к нам правящих сфер не помещает, а, наоборот, поможет нам поддерживать демократическое движение, поскольку таковое имеется на Востоке».
В этих последних словах – ключ к пониманию тогдашней точки зрения Литвинова. Разумеется, уже в то время были страны Востока – и Турция тому первый пример, – в которых правительства в определенной мере отражали национально-освободительные стремления. Но подавляющее большинство восточных стран были тогда колониями или полуколониями, находились в полной или частичной зависимости от колониальных держав. В этих странах, даже в таких крупных, как Китай, Индия, рабочий класс – главный носитель революционных тенденций – не был развит. Государства Востока справедливо видели в Советском Союзе своего защитника в борьбе против колониального гнета, что создавало основу для развития отношений с ними. И советская дипломатия, безусловно, стремилась к налаживанию этих отношений. Литвинов много занимается взаимоотношениями с Афганистаном, Китаем, Персией, Турцией, особенно активно после того, как 18 октября 1924 года II сессия ЦИК заслушала доклад Чичерина и одобрила деятельность НКИД, «направленную на упрочение мира и укрепление международного положения Союза ССР, и в частности по оформлению нормальных отношений с государствами Запада и Востока».
С. И. Аралов свидетельствует: «Чичерин был тем дипломатом, который острее и шире других развивал мысли В. И. Ленина по вопросам Востока, решал эти вопросы, посоветовавшись с Литвиновым. Максим Максимович был великолепным знатоком политических ситуаций, проникал в их сущность».
Связи со странами Востока становились шире, разностороннее. В 1928 году Москву посетил король, или, как он тогда был титулован, эмир, Афганистана 36-летний Аманулла-хан. Еще в 1919 году эмир установил дипломатические отношения с Советской Россией.
Аманулла-хан поселился в доме на Софийской набережной. Гостю отвели целый флигель, оказывали всяческое внимание. В Кремле был устроен большой прием. Известно было пристрастие афганского владыки к лошадям. В Москву привезли отличных скакунов арабских кровей, их водили показывать эмиру. В Москве тогда было наводнение, по Софийской набережной плавали на лодках. Ворота в дом Наркоминдела пришлось засмолить, и выход оттуда был на Болотную площадь, куда и водили скакунов. Эмир был большим знатоком лошадей, внимательно осматривал их, восхищался, отобрал великолепные экземпляры.
С Амануллой-ханом шли переговоры, в которых обсуждались вопросы дальнейшего развития политических и экономических связей. Литвинов принимал участие в этих переговорах. Дружественные отношения, установленные в 1919 году и закрепленные договором с Афганистаном, подписанным от имени РСФСР Чичериным и Караханом 28 февраля 1921 года, стали еще прочнее.
Не раз Литвинов вел переговоры с дипломатами разных стран Востока.
Осенью 1926 года Георгий Васильевич Чичерин уехал на полгода лечиться за границу. Его замещал Литвинов.
После отъезда Георгия Васильевича произошли события, осложнившие международное положение Советского Союза. Особенно серьезная обстановка складывалась на Дальнем Востоке. После конфликта на КВЖД в январе 1926 года последовала целая серия провокаций, инспирированных антисоветскими силами. 6 апреля 1927 года вооруженная полиция и солдаты ворвались в здание советского полпредства в Пекине, учинили погром, арестовали некоторых сотрудников. В Шанхае советские дипломаты с пистолетами в руках оборонялись от озверевших налетчиков.
Налеты на советские представительства были организованы реакционными кругами Англии. Советник английского посольства О'Малли вел переговоры с кантонским правительством, которое требовало вывода английских войск из Китая. Переговоры провалились. Англия, ссылаясь на сфабрикованные «документы», начала злобную антисоветскую кампанию, утверждая, что виновниками срыва англо-китайских переговоров являются «советские агенты».
Нелегко было в ту горячую пору без Чичерина. Может быть, чаще обычного Литвинов поддерживал связь с Центральным Комитетом партии, вносил в правительство предложения, рекомендации. Никогда не применял в своих письмах в Совнарком такие выражения, как «НКИД настоятельно просит» или «НКИД настаивает». Писал просто: «НКИД просит», «НКИД рекомендует или предлагает». Предложения Литвинова, одобренные правительством, воплощались в конкретные дипломатические акции.
19 февраля 1927 года двадцать девять членов ЦИК обратились с запросом в Президиум ЦИК по поводу злостных нападок на Советский Союз со стороны некоторых членов английского правительства и консервативных кругов. 21 февраля Литвинов выступил на сессии ЦИК с заявлением по этому вопросу. «В Англии, – сообщает Литвинов членам ЦИК, – действительно имеет сейчас место новая вспышка антисоветской кампании, которая датируется, однако, не со вчерашнего дня. Эта кампания систематически проводилась и до восстановления дипломатических отношений и никогда не прекращалась, то затихая, то вновь вспыхивая с большей или меньшей силой в моменты переживания Великобританией внутренних и внешних затруднений».
Литвинов называет инспираторов и организаторов новой антисоветской кампании. «Это, во-первых, русские эмигранты, монархисты, бывшие царские чиновники, засевшие в Лондоне, пользующиеся там своими старыми связями и покровительством английского чиновничества и даже некоторых членов нынешнего английского правительства, а во-вторых, немногочисленная, но располагающая большими денежными ресурсами группа так называемых кредиторов России, т. е. иностранных собственников национализированной Октябрьской революцией промышленности, и крупных спекулянтов, скупивших акции бежавших за границу бывших российских промышленников с нефтяниками во главе. Именно эти группы в первую очередь до сих пор продолжают наивно думать, несмотря на неудачный опыт интервенции, предпринятой Англией в свое время по их наущению и в их интересах, и других устрашительных мер, что они могут запугать 150-миллионное население Советского государства и продиктовать ему условия соглашения».