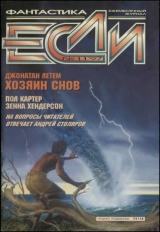
Текст книги "Журнал «Если», 1997 № 11"
Автор книги: Жюль Габриэль Верн
Соавторы: Зенна Хендерсон,Дэвид Брин,Владимир Гаков,Дмитрий Караваев,Сергей Кудрявцев,Джонатан Летем,Василий Горчаков,Сергей Дерябин,Андрей Столяров,Пол Картер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Прямой разговор
Андрей СТОЛЯРОВ
«ВЫШЕ ЛЮБЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»

*********************************************************************************************
Друзья! В пятом номере «Если» мы объявили о появлении в журнале рубрики «Прямой разговор». Напомним ее суть: заранее называем писателя-фантаста, согласившегося ответить на вопросы поклонников жанра; читатели присылают в редакцию вопросы; редакция отбирает как наиболее характерные, так и самые интересные, а затем предлагает их писателю. В «первую тройку» вошли Кир Булычев, Андрей Столяров и Гарри Гаррисон, в адрес которых пришло 67 писем. (Некоторые читатели задавали вопросы одному автору, иные решили побеседовать со всеми тремя). Наиболее характерные вопросы заданы от имени всей аудитории, а наиболее интересные – «именные». Их авторы получат по книге с автографом любимого писателя.
*********************************************************************************************
Какая Ваша книга принесла Вам наибольший успех?
Трудность в том, чтобы определить – что именно считать успехом. Если говорить о коммерческой стороне дела, то есть о тиражах, то наибольшим успехом пользовался мой сборник «Изгнание беса». Если под успехом подразумевать признание, то признание получила книга «Монахи под луной». Все произведения этого сборника были отмечены литературными премиями: целых два «Странника» и «Бронзовая улитка». Если же считать успехом нечто такое, что не поддается определению ни в цифрах, ни в терминах, то здесь вне конкуренции «Малый апокриф». У этой книги странная судьба: ее тираж как будто растворился в воздухе. Никто никогда не видел, чтобы «Малый апокриф» где-нибудь продавали. На книгу не было, по-моему, ни одной рецензии. Она исчезла, словно и не была издана. Мне это было обидно, потому что я считаю «Малый апокриф» одной из своих лучших книг… И вдруг через несколько лет именно эту книгу стали просить самые разные люди. И вдруг выяснилось, что многие слышали об этой книге и хотели бы ее иметь. Вдруг выяснилось, что книга эта не только не умерла, но сейчас, пожалуй, является одним из наиболее читаемых моих сборников.
Вы оказались в глубоком космосе. На корабле авария. Вы должны провести там всю жизнь либо же устранить неполадки. Кого из персонажей, своих или чужих, Вы выбрали бы себе в напарники? (А. Коростелев, г. Орел)
В современной российской фантастике нет персонажей, с которыми хотелось бы иметь дело. Это либо «Человек рубящий», созданный коллективными усилиями писателей-килобайтников, существо с рефлексами антропоида, и, по-моему, просто социально опасный; даже лучший из них, герой романа Марии Семеновой «Волкодав», вызывает тревогу! Что он будет делать, когда рубить ему станет некого, не обратит ли пристальное внимание на своего напарника? Либо это «Человек, Влюбленный-в-Себя», каковы по сути своей персонажи произведений В. Рыбакова, любящие себя настолько страстно, искренне и самозабвенно, что я лично просто бы не рискнул вмешиваться в их отношения; нарциссизм – это тот же меч, только сладкий. Либо это «Человек опаздывающий» Андрея Лазарчука – автор нагружает сюжет таким количеством стремительно разворачивающихся событий, что герои его, находясь в дефиците литературного времени, просто не успевают проявить собственно человеческие качества. Наконец, это «Человек Препарирующий» Виктора Пелевина – холодный созерцатель даже не жизни, а бытия. Чувствовать себя насекомым, наколотым на булавку, не слишком приятно. Но не лучше и «Человек несчастливый» из моих собственных книг. Персонаж, ощущающий бытие как непрерывно разворачивающийся апокалипсис, и потому принципиально не могущий воспринять солнечное содержание жизни, вряд ли будет подходящим напарником даже для самого автора. Нельзя непрерывно чувствовать себя несчастливым, от этого устаешь не меньше, чем от эгоистической самовлюбленности.
Сейчас в российской фантастике – эпоха не личности, а сюжета, эпоха вселенских миров, а не отдельного персонажа. Это понятно: сконструировать мир легче, чем человека. Потому что для создания мира необходимо только воображение, а для создания человека нужна еще и душа – та, которой прежде всего должен обладать сам автор.
Роман «Я – Мышиный король». Имели ли Вы представление о нахождении места его действия в пространстве и времени?
Мир «Мышиного короля» – это прежде всего мир детства. Именно там он находится и в пространственном, и во временном отношении. Это Санкт-Петербург конца шестидесятых годов, но не тот, разумеется, Санкт-Петербург, который видели и воспринимали все, вдыхавшие воздух эпохи разочарования. Это город, который видел исключительно автор «Мышиного короля», и поэтому для постороннего наблюдателя он может выглядеть искаженным или вовсе придуманным.
Здесь мы сталкиваемся с одной из самых больших трудностей литературы: как передать другому то, что видишь и чувствуешь. В любви, которая встречается необычайно редко (я имею в виду именно любовь, а не секс и не семейные отношения), иногда бывают моменты удивительного прозрения, когда понимаешь не только то, что сказано и очевидно, но и то, что сказано, видимо, никогда не будет. Просто потому, что есть вещи, о которых не говорят. Собственно, это внезапное «прозрение сути» и есть критерий любви. Чтобы понимать, надо любить. И искусство прозрения в литературе – зго. тоже есть искусство любви. Начинается же любовь в детстве, когда воспринимаешь и мир, и всех людей в нем, как часть себя, и не отделяешь себя от других, жизнь От смерти, реальное от фантастического, – все это существует вместе, единой, неразрывно-слитной картиной.
Как бы Вы провели день, зная, что он – последний?
И в смерть мира, и в смерть отдельного человека поверить психологически невозможно. Умирает всегда кто-то другой, а личное «Я» испытывает непреодолимую веру & бессмертие. Кстати, для пишущих бессмертие – это литература. И, однако, если я буду полностью убежден, что этот мой день – последний, я, наверное, не придумаю ничего нового и оригинального: приведу в порядок дела и до самой последней минуту буду читать Пастернака.
Если же это будет последний день мира, то хорошо бы неторопливо пойти навстречу Закату. С последним днем мира надо прощаться именно так: Человек и Закат. И ничего более.
«Мумия» производит впечатление документальной повести. Существуют ли документы, на которые Вы опирались? Есть ли у Вас связь с политическими кругами? (И. Бабушкин, г. Скопин)
Повесть «Мумия», по моему мнению, чисто художественное произведение. Она выдумана вся – от первого до последнего слова. Никаких документов о реальном микробиозе я не читал и никаких связей с политическими кругами не имею. Писатель вообще должен держаться как можно дальше от власти. Однако удивительные превращения иногда происходят с фантастикой: чем сильнее выдумываешь, тем ближе это оказывается к реальности. Именно так произошло и с «Мумией». Например, для большей достоверности я предположил, что у президента России есть тайный советник, занимающийся прикладным оккультизмом. Мне это казалось логичным. Политики – люди мнительные. К прорицателям обращались и французские короли, и русские императоры. Я придумал такого советника, я сочинил ему внешность и род занятий, я дал ему имя по аналогии с Григорием Распутиным. Это был целиком вымышленный персонаж. И вдруг, когда повесть уже была отдана в печать, выяснилось, что у президента действительно есть такой не слишком афишируемый советник, и что занимается он именно прикладным оккультизмом, и что самое неожиданное – фамилия и имя его до последней буквы совпадают с теми, что я придумал. Это было фантастичнее любой фантастики. Пришлось срочно менять их в тексте произведения.
У меня и раньше были совершенно необъяснимые совпадения. В романе «Монахи под луной», например, написанном более чем за год до путча ГКЧП, я назвал точную дату будущего политического переворота – 19 августа. А в повести «Послание к Коринфянам» описал обстрел российского Белого дома. И тоже почти за год до реальных событий. Нечто подобное было и в ранних произведениях.
Я не знаю, откуда и почему такие совпадения возникают. Лично я не верю ни в какую мистику и ни в какие оккультные знания. Однако просвещенный материализм, близкий мне мировоззренчески, пасует перед фактами такого рода. Я не берусь объяснить это ни логически, ни философски – разве что при определенном, достаточно большом напряжении творческих сил, человеку, сосредоточенному не на себе, а на мире, удается расслышать некое размытое эхо будущего. Повторяю: я не могу этого объяснить, я могу лишь надеяться, что это признак подлинности того, что пишешь.
Почему Вы избегаете называть себя фантастом? Почему не отстаиваете достоинство жанра?
Мы начинали писать в те легендарные времена, когда фантастика была жанром полузапретным, когда принадлежность к ней уже выделяла автора из безликого моря пишущих и когда было ясно, что если уж человек берет перо в руки, то не для того, чтобы заработать денег, а потому что ему есть, что сказать. Непечатаемость большинства фантастов имела и некоторые положительные моменты: российский автор, в отличие от автора западного, не будучи привязан к рынку, поскольку надежды на публикацию книги все равно не было, не испытывал давления коммерческой литературы. Он был человеком свободным – вот в чем парадокс эпохи застоя – и мог работать согласно своим внутренним убеждениям. Тогда автор не зависел ни от читателя, ни от капризов изменчивой моды, он вырабатывал свой собственный художественный кислород, помогавший ему дышать – и ему самому и его немногочисленным литературным коллегам.
Разумеется, и тогда уже существовали свои Бушковы, Павловы, Медведевы и Гуляковские, серая паренхима – древесная масса фантастики. К счастью, большая часть этих фамилий сейчас прочно забыта, но в литературном ядре фантастики «новой волны» наличествовал ясный нравственный императив, то есть тот надличностный идеал, с которым сверяешь свои поступки. Писать явную халтуру было тогда просто стыдно. К тому же, поскольку не печатали никого, каждый пишущий мог считать себя гением. Это было нормально. И у лидирующих фантастов «новой волны» была вполне обоснованная уверенность, что именно им предстоит вывести фантастику на качественно иной уровень, показав искусственность разделения литературы на «низкие» и «высокие» жанры. Это была иллюзия, но из тех иллюзий, которые движут историю. Разумеется, ничего из этой попытки не получилось. С появлением книжного рынка хлынул такой мощный поток англоязычного чтива, дополненный не менее мощным потоком чтива российского, ’что доказывать «литературность» фантастики стало просто бессмысленно. Во всю силу заработал закон, сформулированный, кажется, Ричардом Фрименом: о литературе судят по ее вершинам, а о фантастике – по ее отбросам. Борис Стругацкий как-то обмолвился, что они с Аркадием Натановичем двадцать лет доказывали, что фантастика – это литература, но преуспели, по его словам, очень мало. Я потратил на это около десяти лет и теперь вижу, что потратил эти десять лет совершенно напрасно. Да, обидно, когда хорошие книги отвергаются критикой только потому, что это фантастика; да, обидно, что самый доморощенный «реалист» посматривает на фантастов с явным высокомерием; да, обидно видеть в газетах устоявшееся клише: «детективы, фантастика и прочее низкопробное чтиво»; и все-таки пора перестать доказывать недоказуемое. Пора вообще перестать что-либо доказывать. Доказать ничего нельзя – можно лишь писать книги, которые будут выше любых доказательств.
________________________________________________________________________
В ближайших номерах журнала читателей ждет прямой разговор с Киром Булычевым и Гарри Гаррисоном. Ну а мы, чтобы не «терять темп», предлагаем вам обратиться к творчеству Евгения Лукина, который согласился ответить на вопросы читателей «Если». Ждем ваших писем в течение месяца со дня выхода номера.
Вл. Гаков
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
*********************************************************************************************
Сегодня мы завершаем публикацию очерков, посвященных европейской НФ [14] 14
(«Если» №№ 7, 8, 10, 1997 г.)
[Закрыть]. В ближайших номерах «Если» мы познакомим читателей с традициями японской и китайской фантастики.
*********************************************************************************************
Считается, и по праву, что французская НФ – самая мощная национальная фантастика в Западной Европе. Мощная во всех отношениях: тут и исторические корни, и количество, и литературный уровень. Поэтому данный фрагмент – своего рода обзор в обзоре – будет и более объемным, и более обстоятельным, чем предыдущие. Начну с корней.
Мы говорим: фантастика, – понимаем: Верн. Однако французский «след» в этой литературе именем одного из ее основоположников и классиков не ограничивается. Полагаю, что имен Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль» – чем не шедевр ранней фантастики?), Сирано де Бержерака (автора «Иного света, или Государств и империй Луны» и, между прочим, проекта первой «многоступенчатой ракеты» в истории литературы!), Вольтера («Микромегас»), Кабе и Мерсье (признанных утопистов) вполне достаточно, чтобы уверенно оспаривать титул «страны, в которой родилась современная фантастика». Что бы там ни утверждали американцы…
Но прежде чем продолжить ряд имен, небольшое отступление.
В годы моей литературной молодости, когда в нашей фантастике гремели баталии – не нынешние, за место на рынке, а, смешно сказать, идейные, случилось мне наткнуться на статью одного из тогдашних молодогвардейских «заплечных дел редакторов». Возомнив себя; знатоком фантастики, этот деятель на подчиненной ему издательской площади опубликовал нечто о жизни и творчестве талантливого и ироничного французского художника-графика и писателя Альбера Робиды. Именно так – склоняя фамилию бедного француза «согласно падежов». Помнится, я выступил в «Литгазете» с репликой под названием «Читали ль вы Дюму?», где речь шла о защите языка и авторов: о писателе Гюге, математике Ферме и даже супругах Кюрях.
С тех пор много воды утекло: и где та «Молодая гвардия», и кому сейчас придет в голову (кроме президента, естественно) бороться за чистоту разнообразных языков! Но зуд блеснуть образованностью и порассуждать о философии Дерриды и оригинальной концепции де Шардена (для тех, кто не в курсе: фамилия последнего – Тейяр де Шарден, а имя – Пьер), увы, не прошел. Так вот, специально для «знатоков», публично возмущавшихся, почему это я в Энциклопедии фантастики поместил Сирано де Бержерака на букву «С» вместо положенной «Б», сообщаю «по буквам». Потому что фамилия бессмертного француза – Сирано де Бержерак, имя же – Савиньен. Приведу еще две столь же «вредные» фамилии, имеющие отношение к научной фантастике: Вилье де Лиль-Адан (имя его не Вилье, а Жан-Мари-Матиас-Филип-Огюст) и Ретиф де Ля Бретон (имя – Никола-Анна-Эдм).
Между прочим, фамилии в истории жанра славные. Первый автор знаменит романом «Ева будущего», в котором задолго до механической дивы из «Метрополиса» впечатляюще описана женщина-андроид; а второй – романом «Южное открытие», где этим самым открытиям и предвидениям несть числа…
И только после всех перечисленных явился Жюль Верн в компании своих верных последователей – Гюстава Ле Ружа, Андре Лори и Жозефа Рони-старшего; они представляли, в основном, сторону научную, а фантастику – Шарль Нодье, Теофиль Готье, Морис Ренар. А еще к НФ в XIX – первой половине XX столетия эпизодически обращались буквально все маститые французские писатели: Оноре де Бальзак, Ги де Мопассан, Дюма-отец, Луи Буссенар, Гастон Леру, Анатоль Франс, Андре Моруа, Марсель Эме, Анри Труайя (настоящее имя которого, кстати, Лев Тарасов), один из столпов литературного модернизма Альфред Жарри и знаменитый в свое время астроном, популяризатор науки и философ Камиль Фламмарион.
О таком генеалогическом древе можно только мечтать! Теперь по поводу количества.
Практически во всех западных странах научная фантастика совершала бурный спурт сразу вслед за появлением соответствующего печатного органа, всецело посвященного ей; таковым во Франции стал журнал «Фиксьон», издающийся с 1954 года. Именно тогда накатила первая волна переводов «с американского» – хотя девятый вал был еще впереди! – и поначалу журнал задумывался лишь как младший брат американского «Фэнтези энд сайнс фикшн». Однако новое издание сплотило вокруг себя местную литературную молодежь, а чуть позже к нему присоединилось еще два новых «Галакси» и «Саттелит». Так что в майском номере «Фиксьон» за 1959 год редактор журнала Алан Доремье, сам мастер короткого фантастического рассказа, не ради красного словца провозгласил явление «национальной школы». Казалось, вот он – Золотой Век, совсем как у американцев два десятилетия назад!
Но шестидесятые годы ожидаемого бурного роста не принесли: издаваемая во Франции фантастическая литература, хотя и сохраняла родные цвета (красный, белый, синий), но окрашены в них были все-таки преимущественно звезды и полосы. Лишь десятилетие спустя наступило некоторое оживление. И уже не только европейские критики, но и заокеанские, отдавали французской научной фантастике второе после СССР место 0 Старом Свете. А небывалый «разгул» местного фантастоведения вызывал изумление. Но…
Снова – «но». На протяжении всего прошлого десятилетия – ровное плато. Отношение к этой литературе по-французски легкое и не обязывающее: пуркуа бы и не па, как говорили в наше время… Книг издается предостаточно, конвенции бурлят, премии раздаются направо и налево, а вот мощной французской школы на родине Жюль Верна не видно и по сей день [15] 15
Более подробно об авторах и произведениях современной французской фантастики см. в моем предисловии к сборнику «Планета семи масок» (М., 1993). (Здесь и далее прим. автора.)
[Закрыть].
Может быть, дело в том, что лучшую – пришло время коснуться упомянутого литературного уровня – французскую научную фантастику создавали те, кто себя фантастом, в общем-то, не считал. В первую очередь, это Пьер Буль и Робер Мерль.
И все же отношение обоих с литературой, которую еще в конце 50-х годов местные критики прочили на смену бульварному «полицейскому роману», нельзя назвать легкомысленным флиртом. Три солидных романа (а если считать еще и философскую притчу «Мадрапур», то все четыре) у Мерля и, по крайней мере, шесть книг у Буля – казалось, эта любовь всерьез и надолго. Но Буль скончался в 1994 году, Мерль, насколько мне известно, еще год назад был жив, однако ничего фантастического более не написал.
При всем том оба поработали в фантастике славно! Хотя понимали ее несколько односторонне: в основном, как «роман политико-фантастический» – так сам Мерль определил свой остросюжетный триллер «Разумное животное» (1967).
Нет необходимости подробно останавливаться на этом, а также и на других произведениях, которые у нас хорошо известны: об апокалиптическом «пост-атомном» видении Мерля (монументальный «Мальвиль», 1972) и беспощадно-горькой сатире Буля («Планета обезьян», 1962) написано немало. Зато стоит, вероятно, хотя бы вкратце коснуться других книг этих авторов, так и не дошедших до отечественного читателя или явившихся к нам лишь недавно.
Сатире Мерля «Охраняемые мужчины» (1974) в советскую эпоху не повезло вовсе не из-за политики; хотя она в романе и присутствует, причем «антиамериканская», – дальше некуда! Испугал отечественных цензоров «секс». Забавно, но вот секса-то (в смысле «клубнички») в романе практически нет… Короче, Мерль ополчился против тенденции, в те времена еще трудно различимой, сегодня же превратившейся в общее место – пока, к счастью, только за океаном – феминистской революции. Еще одной в истерзанном революциями веке – и единственной успешной. Писатель два десятилетия назад разглядел в недалеком будущем еще одну возможную антиутопию, сравнимую с замятинской или оруэлловской, но только подкралась она незаметнее: шла себе тихо-мирно «сексуальная революция» да вдруг свернула с проторенной колеи, и до руля политики дорвались воинствующие феминистки. Ну и порулили всласть, отомстили мужчинам.
Зато ход в тогдашний СССР ранним фантастическим произведениям Буля преградил шлагбаум как раз чистой политики.
О Буле-фантасте заговорили уже после выхода его сборника рассказов «Ибо это абсурдно» (1957) и небольшой повести «Е=МС 2». Последняя представляет собой один из ранних примеров «альтернативной истории»: ученые-ядерщики в середине сороковых отказываются от создания атомной бомбы и переключаются на задачу противоположную – превращение энергии в материю; в результате Хиросима все же погибает, но заваленная неведомо откуда взявшимися грудами урана! А потом была «Планета обезьян», в общем-то, тоже случайно прорвавшаяся к нашему читателю… Случайно, потому как мрачная басня о человечестве, захлебнувшемся в болоте им же созданных вещей и в конце концов уступившем Землю поумневшим обезьянам, тогдашними отечественными идеологами была однозначно и, в общем, верно! – расценена как произведение антибуржуазное. И только. А ведь в книге, если внимательно ее читать, роздано по серьгам всем сестрам. Цивилизация на Земле в равной мере погибла от скудоумия «тех», и «этих» – Буль сказал это в открытую; его гротеск, несмотря на внешнюю «черноту», весьма прозрачен. Однако самое поразительное то, что и на Западе сатирические стрелы французского писателя увидели летящими лишь в одну цель.
Ну, отечественные ревнители – ладно, с ними все ясно. Но французская-то, французская пресса куда глядела, обозвав роман «фантастическим сновидением, математически логичным и безопасным»! Об американской киноверсии я и не говорю – тем более о ее продолжениях (кино– и литературных), по сравнению с коими и первый фильм смотрелся как Феллини или Тарковский. Словом, это у них, а не у нас «замотали» великолепную книгу, которой фантастика вправе гордиться.
Следующие визиты признанного прозаика в мир НФ – «Сад Канашимы» (1964), «Уши джунглей» (1972) и «Добрый Левиафан» (1978) – заметно уступают «Планете обезьян». Две первые истории – японского ученого-камикадзе, ценой жизни принесшего своей стране победу в космической гонке (он раньше всех высадился на Луне, но имея билет в один конец), и прослушивания вьетнамских джунглей с помощью нового сверхсекретного военного прибора – очевидным образом устарели; история же экологической катастрофы в результате очередной аварии супертанкера, наоборот, превратилась в кошмарную рутину ежедневных выпусков новостей. Что касается судьбы всех трех книг в СССР, то не перевели их в свое время, конечно же, ввиду «неактуальности». Космические гонки, прослушивание, засорение Мирового океана…
До середины 1990-х годов мы пребывали в полном неведении и в отношении еще одного видного французского «нефантаста в фантастике» – Ромена Гари. Но в случае с ним попали впросак не одни: и на родине с именем писателя, обстоятельствами его жизни и его творчеством вышла такая «робида», что…
Ромен Гари (по другим источникам фамилия его – либо Касев, либо Касевгари) родился в литовском Вильно (или, по другим сведениям, в грузинском Тифлисе), с 14 лет жил во Франции, военным летчиком сражался в рядах Сопротивления: к немцам у него, сына польских евреев, был особый счет. Затем стал писателем, причем создавал произведения на двух языках – английском и французском, получил сразу две Гонкуровские премии, что, заметим, запрещено статусом этой премии. Одну под собственным именем-псевдонимом Ромен Гари, другую – под именем Эмиля Ажара. Мистификация раскрылась только после самоубийства писателя в 1980 году, вызвав грандиозный скандал. Еще он был дипломатом, поколесил по свету, а закончил карьеру – вместе с жизнью – будучи Генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе…
Воистину, если не с самой фантастикой, то уж с создателями ее не соскучишься.
Фантастику же – в основном, на стыке научной и мистико-оккультной – Гари-Ажар пописывал аж с 1946 года, когда в романе «Тюльпан» с большой долей ехидства изобразил будущую Землю под властью чернокожих. Еще на его счету мистико-фантастический роман «Танец Чингиз-Кона» (1967), любопытная фантастико-теологическая притча «Последний вздох», первоначально вышедшая на английском языке в 1973 году, и несколько фэнтезийных рассказов.
Заканчивая с французскими прозаиками, эпизодически грешившими научной фантастикой, назову еще одно имя: Владимир Познер. Нет-нет, не популярный российский телеведущий, а видный писатель-коммунист [16] 16
Напомню, что в стране, где не бросились лихорадочно переименовывать парижские улицы Робеспьера и Сталинграда, а День Бастилии отменять как национальный праздник, своего членства в ФКП не стыдились ни Пикассо, ни Мерль…
[Закрыть](кажется, даже некий родственник нашего Владимира Владимировича) и автор добротного и умного научно-фантастического романа «Лунная болезнь» (1974). А вспоминая о фигурах периферийных по отношению к жанру, в первую очередь приходят на ум, конечно же, лидер-гуру литературного авангарда Борис Виан, а также видный прозаик Жан-Мари-Гюстав Ле Клезио. Обратимся теперь к собственно science fiction. Последние десятилетия эта литература во Франции представляет собой арену почти завершившейся войны «жюльверновской» романтической традиции с американизированной реальностью рынка. Чем закончилась битва – в общем, ясно. Пример тому – творчество таких авторов, как Б.Р. Брюсс (псевдоним Роже Блонде-ля), супруги Шарль и Натали Эннеберг, плодовитый Пьер Барбе (псевдоним Клода Ависа) и Мишель Демют [17] 17
Я все же думаю, хотя и не настаиваю, что это псевдоним Жана-Мишеля Ферре, а не наоборот: Ферре – псевдоним Демюта (см. «Personalia» в «Если» № 8, 1996). Единственный источник, на который я могу сослаться, это немецкоязычная Энциклопедия фантастики под редакцией Альперса. Если кому-то доступны справочники на французском, где написано, что «Жан-Мишель Ферре» – псевдоним Мишеля Демюта, то, значит, так тому и быть.
[Закрыть].
Последний, единственный из перечисленных, кто жив и продолжает писать, не скрывает источников, из коих он черпает свои сюжеты: его наиболее известный цикл «Галактические хроники» – это, конечно же, отголосок аналогичных построений Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна, Кордвайнера Смита. Начатый в 1964 году цикл состоит из нескольких десятков рассказов и повестей, охватывает хронологию с 2020 по 4000 годы. Российский читатель знает этот сериал в основном по публикациям в журнале «Если». Думаю, любитель такого рода чтения не был разочарован: увлекательно, добротно, обстоятельно. И кое-что все же отличает историю будущего по Демюту от аналогичных американских: уважение к литературным трудам предшественников, а главное, его герои еще помнят о существовании в прошлом таких мест, как Франция, Европа…
Что касается популярной у нас супружеской пары Шарля и Натали Эннебергов (или, как их окрестили доморощенные грамотеи, Хеннебергов), то их романы делятся на просто «космические оперы» и оперы грандиозные, для пущей убойности снабженные еще и элементами героической фэнтези. Между тем Шарль Эннеберг в одиночку начинал достаточно серьезно: его роман-дебют «Рождение богов» (1954) вызывает ассоциации, скорее, с Лемом, нежели с Муркоком или Таббом. Однако в последующих романах супруги явно переключились на однообразные звездные баталии в «параллельных мирах», описанные с несуетностью средневековых рыцарских романов или сказок 1001 ночи.
Еще два автора приключенческой фантастики заслуживают внимания – это Франсис Карсак и Жерар Клейн. Их произведения достаточно активно переводились на русский язык.
Под псевдонимом Франсис Карсак скрывается ученый-геолог Франсуа Борд. Это, пожалуй, последний верный последователь Жюль Верна и Жозефа Рони-старшего. На фоне того, что создано в фантастике коллегами Карсака, его собственное творчество – уникальный случай безоглядного оптимизма. Писатель истово веровал в идеалы гуманизма, в идею равенства всех разумных существ во Вселенной, верил иногда слепо, словно не замечая примеров обратного в окружавшей его повседневности…
Творчество Жерара Клейна более замысловато – по части сюжетных ходов – и в то же время более подражательно. Переведенные у нас романы Клейна – «Звездный гамбит» (1958), «Непокорное время» (1963), «Боги войны» (1971) – насыщены деталями, хорошо знакомыми по фантастике опять же американской: звездные наемники, сражающиеся на галактической шахматной доске, межпланетная служба корректировки истории, бравые космические капитаны и злобные галактические диктаторы… Однако это все-таки примеры интеллигентной «космической оперы», чего не скажешь о десятках его соотечественников (тем более – о заокеанских прототипах).
На фоне этих умелых, плодовитых, но все-таки слишком уж подражающих американцам писателей резко выделяется фигура спорного, неровного, но, безусловно, Мастера. Я имею в виду Рене Баржавеля, так и не дождавшегося при жизни (он умер в 1985 году) ни одного перевода на русский язык.
Писатель дебютировал еще в конце войны – романом «Опустошение» (1943), не отличавшимся оригинальностью, но содержавшим вполне уловимый, хотя и закамуфлированный под научную фантастику вызов оккупантам. В 1940-х годах Баржавель то переписывал Уэллса («Неосторожный путешественник во времени»), то в духе тогдашней литературной моды рисовал грядущий Апокалипсис («Вспыльчивый дьявол»); а десятилетием позже его увлекла фантастика откровенно авантюрная,
И остался бы он в ряду вышеозначенных крепких ремесленников, не выйди в знаменательном для Франции году – 1968-м – роман «Ночь времен», один из лучших, на мой взгляд, во всей послевоенной французской фантастике. История того, как в антарктических льдах обнаружили потаенный саркофаг, а в нем – замороженные тела мужчины и женщины, последних представителей древней земной цивилизации, уничтожившей себя почти миллион лет назад, сама по себе составила бы сюжет увлекательного фантастического боевика. Однако Баржавель – французы есть французы – вводит в роман еще и политику. Оказывается, очень многим силам в нашей политической реальности пришельцы из прошлой утопии совсем ни к чему, как и их предупреждения относительно нашего легкомысленного отношения к ядерным «игрушкам»…
Зато следующий роман Баржавеля, «Великая тайна» (1973), укрепил его репутацию мастера соединять туго закрученный детективный сюжет с философскими раздумьями над «проклятыми» вопросами. В данном романе таковым является бессмертие, «вирус» которого открыт гениальным ученым-индусом. Проникшись тревогой за судьбу человечества (вот эта идея, по моему мнению, абсолютно утопическая), руководители ведущих стран мира решают сохранить открытие в тайне, пока не получат ответа на основной вопрос: как разместить на планете и прокормить человечество, из словаря которого внезапно будет вычеркнуто слово «смерть»… Писатель умело использует исторический фон: в романе повествуется о фантастической подоплеке реальных политических событий, якобы имевших место с 1955-го по год выхода романа. Среди персонажей – Хрущев и Неру, Кеннеди и Де Голль, однако Баржавель успешно преодолел соблазн ограничиться «крутым» политическим боевиком; писатель сам задумался и заставляет размышлять читателя над проблемой жгучей, если не сказать главной. Индивидуальное бессмертие, желанное с тех самых пор, как наш предок осознал, что смертен, и потенциально опасное, способное превратить перенаселенную планету в сущий ад. Но кто возьмет на себя смелость объяснить все это конкретным людям, ожидающим своего смертного часа?








