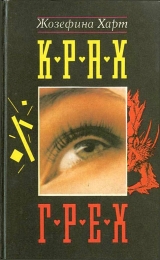
Текст книги "Крах"
Автор книги: Жозефина Харт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)

Жозефина Харт
Крах
Посвящается Морису Саатчи
1
Вот внутренний ландшафт, география души; мы пытаемся различить его очертания всю нашу жизнь.
Те, кому посчастливится найти их, как воду, бегущую среди камней, но не покидающую своего русла, обретают покой и кров.
Некоторые обретают их там, где родились. Другие, гонимые вечной жаждой, покидают родной город у моря, ища свежести в пустыне. Это люди, рожденные в холмистой деревенской местности, достигающие существенного облегчения в напряжении и одинокой суете большого города.
Для некоторых поиск – повод раствориться в другом, ребенке или матери, дедушке или брате, возлюбленном, муже, жене или непримиримом враге.
Несчастные и счастливые, баловни Фортуны и неудачники, отверженные и любимые, мы скользим по жизни, не холодея от предчувствия, не агонизируя, когда железные оковы наших душ распадаются и мы становимся наконец собой.
Я склонялся над умирающими, уже не узнававшими собственного имени, покидавшими мир, в котором они никогда не чувствовали себя дома.
Я видел мужчин, для которых смерть брата была страшней, чем смерть единственного ребенка. Видел невест, превратившихся в матерей, которые лишь однажды, в далеком детстве, излучали счастье, сидя на коленях собственного дядюшки.
А я путешествовал по жизни, приобретая любящих меня спутников: жену, сына и дочь. Я жил с ними, любимый чужестранец, в окружении безразличной мне красоты. Опытный лицемер, я мягко и осторожно сглаживал все шероховатости и углы моего существования. Я прятал неловкость и боль, катясь по инерции, и не различал пока скрытых контуров жизни, старался соответствовать ожиданиям моих близких – был неплохим мужем, добрым отцом и достойным сыном.
Умри я в пятьдесят, я был бы доктором и преуспевающим политиком, имеющим славное имя. Я бы остался человеком, который внес подобающий вклад в развитие общества и был сильно любим своей печальной женой Ингрид и детьми, Мартином и Салли.
На моих похоронах были бы те, кто, оставаясь жить дальше, сохранил какую-то память обо мне в своем настоящем. И те, кто верил, что любил меня.
Слезы этих людей свидетельствовали бы о реальности моего существования.
Это были бы похороны человека, щедрее многих одаренного судьбой. Человека, чей земной путь завершился слишком рано. Кто мог бы достичь большей славы и успеха, останься он жить дальше.
Но я пережил свое пятидесятилетие. И для тех немногих, кто знаком со мной сейчас, смерть моя не явилась бы трагедией.
2
Говорят, что детство формирует нас, что именно влияние тех лет – ключ к нашему будущему. Может ли быть, чтобы душевная гармония была так легко достижима? Неужели это всего лишь результат благополучного детства? Что делает наше младенчество счастливым? Прочная семья? Крепкое здоровье? Защищенность? Но почему бы детской безмятежности не оказаться наихудшим приготовлением к жизни? Подобно участи ягненка, предназначенного на убой?
Мое детство, юность и даже первые зрелые годы прошли под знаком непререкаемой отцовской власти.
Воля, всепоглощающая сила воли была его догмой.
«Воля. Главное достояние мужчины. Большинству недоступное. Это решение всех жизненных проблем». Я очень часто слышал эти слова.
Сочетание веры, не допускающей сомнений в своей способности управлять жизнью, и крупного, мощного тела, вмещавшего эту волю, делало отца чрезвычайно внушительным человеком.
Звали его Томом. И до сих пор, спустя годы после его смерти, я наделяю властным характером каждого встреченного мною Тома.
Небольшой бакалейный бизнес, доставшийся ему в наследство, он превратил в целую сеть обогативших его магазинов. Успех сопутствовал бы ему на любом избранном поприще. Мой отец неизбежно достигал цели, стоило ему направить на нее свою несокрушимую волю.
Он упражнял свою волю не только в бизнесе, но и в отношениях с женой и сыном. Первой его целью было стремление одержать верх над моей матерью. Ему была нужна гарантия, что иной способ жить, к которому она привыкла, никак не отразится на его планах.
Мою мать он взял приступом и женился на ней через шесть месяцев после встречи. Природа их взаимного притяжения остается для меня загадкой. Она не блистала красотой. Но в молодости, я слышал, обладала очаровательной живостью характера. Возможно, это и пленило моего отца. В моих же воспоминаниях она была лишена и следа оживления. Любила рисовать, как маленькая девочка. Ее акварели украшали стены дома моего детства. Но она бросила это занятие. Внезапно. Я так никогда и не узнал причины.
Я был только ребенком. После моего рождения они спали в разных комнатах. Возможно, мое появление на свет послужило причиной травмы. Как бы то ни было, у отца была своя комната, у матери своя. Какой была интимная жизнь этого человека? С ним не связывали никаких скандальных историй, не было даже косвенных намеков на что-либо подобное. Может быть, отдалившись друг от друга, они пытались сохранить сексуальное желание.
Мне довольно смутно припоминается мое детство. Оно окутано туманом, проникнутым безусловной отцовской властью. «Сперва реши – потом делай», – мой отец произносил эту коронную фразу по любому поводу, шла ли речь об экзаменах, о беге (в нем проявлялась моя легкоатлетическая доблесть), даже об уроках фортепиано, которые я брал, к полному его недоумению. «Если решил – делай».
Но как быть с неуверенностью, с удовлетворением от провала? Как быть с волями других, подчиненных его воле? Видимо, это никогда его не беспокоило. Не по бессердечию и жестокости, а по вполне искреннему убеждению, что он всегда прав. И что интересы каждого должны служить его собственным.
3
– Итак, ты решил стать врачом? – призвал меня к ответу отец, когда в восемнадцать лет я решил учиться медицине.
– Да.
– Ну что ж, хорошо! Держись! Но это трудный путь. Сможешь ли ты не отступить?
– Да.
– Я никогда не хотел, чтобы ты следовал по моим стопам. Я всегда говорил: «Сначала сам реши, что ты хочешь делать. Потом делай!»
– Да.
Но даже решая свою судьбу самостоятельно, я чувствовал, что служу каким-то целям. Так всегда обстоит дело с властными личностями. Как бы мы ни пытались уплыть от них, мы знаем, что вода принадлежит им.
– Что же в этом хорошего, – воскликнула моя мама. – Ты уверен, что хочешь именно этого?
– Да.
Никто не просил меня объяснить мое желание. Если бы вопрос был задан, я не смог бы внятно ответить. Это было некое расплывчатое ощущение, которое как-то взросло во мне. Быть может, если бы мне стали возражать, я сумел бы найти веские доводы и стал бы пылким энтузиастом своего дела. Возможно, этот вид страсти разгорается только в борьбе с препятствиями.
В восемнадцать я поступил в Кембридж, и начались мои медицинские занятия. Изучение мириадов телесных недомоганий и способов их облегчения как-то не сблизило меня с моими собратьями. Я, казалось, не беспокоился о них и любил их немногим более, чем если бы я занимался экономикой. Было что-то неясное во мне и в этом моем обязательстве. Я получил квалификацию и решил стать хирургом.
– Но почему? – стал возражать мой отец. – Лучше консультантом.
– Нет.
– Я не хочу видеть тебя хирургом.
– Неужели?
– Ну да ладно! Я смотрю, ты уже все решил.
Я получил практику в больнице «Сэнт Джон Вуд». Купил квартиру. Моя жизнь начала входить в русло. Свободная воля вела меня, не было ни родительского давления, ни академической борьбы. Я все решил сам. И я сделал.
Следующий шаг был очевиден.
– Ингрид – вот живая красота, – говорил отец. – А какой сильный характер! В этой девочке великая сила воли, – продолжал он одобрительно. – Стало быть, ты собираешься жениться?
– Да.
– Прекрасно. Прекрасно. Женитьба – полезная вещь, – он помолчал, – для души.
Мои амбиции были удовлетворены. Всего я добился сам. Это была благословенная жизнь. Замечательная жизнь. Но чья?
4
Моя жена была ослепительна хороша. Об этом свидетельствовали мои собственные глаза и реакция тех, кто ее видел.
В ней привлекала красота совершенных пропорций и очаровательное сочетание цвета глаз, кожи и волос. Она была вполне состоявшимся человеком, сложившимся задолго до нашей встречи. Я удачно вписался в картину ее жизни. И был счастлив этим.
Ей было двадцать, когда мы познакомились в доме моего приятеля. В ней не было ничего, что могло бы покоробить или оттолкнуть меня. Она обладала прелестной, исполненной сознания своей силы, безмятежностью. Ингрид вызвала мое восхищение, а позднее любовь и приняла ее как нечто высоко ценимое, но заслуженное.
Я опасался любви. Боялся ее некоторого безумия, способного разрушить меня, и был утешен. Я был допущен к любви. И верил, что любим взаимно.
Между нами не было тайн. Она была именно такой, как я воображал себе. Ее тело было теплым и красивым. Никогда не приближаясь ко мне сама, она никогда не отталкивала меня.
Брак – не азартная игра, как иногда его называют. Некоторым образом мы способны контролировать его течение. Наши матримониальные дела скорее подчинены разуму, чем романтичны. Вероятно, человеку, имеющему репутацию робкого, подобная попытка показалась бы безрассудно храброй? Моя женитьба на Ингрид преследовала цели, не удивлявшие никого из нас. Мы любили так, как только могли надеяться, были так осторожны, как наша природа позволяла нам.
Но нет. Дети – вот рискованное предприятие. С момента их появления резко усиливается наша беспомощность. Несмотря на все попытки формировать их в согласии с нашим опытом и знаниями, они остаются собой. С рождения становятся и центром, и острым краем нашего существования.
Их здоровье, а если повезет, и хорошая судьба воспринимается нами как результат заботы и воспитания. Их болезни, принимая серьезный оборот, разбивают счастье. Когда они выздоравливают, мы годами живем, осознавая, что могла бы значить для нас их смерть. Страсть к детям, так мало открывающим себя во время краткого пребывания с нами, для многих – великий роман жизни. Но в отличие от романтической любви мы не выбираем ребенка, который будет нам сыном или дочерью.
Появление Мартина на свет, казалось, не сопровождалось для нас никакими значимыми открытиями. Он рос таким, как мы всегда ожидали, любимым и великолепным сыном. Салли родилась двумя годами позже. И вот моя семья была в полном составе.
В свои тридцать я взирал на моих маленьких детей благодарно, любяще и растерянно. Неужели это и был смысл жизни, его сердцевина? Женщина, двое детей, дом. Я был на «седьмом небе». Я был спасен.
Мы наслаждались безоблачным счастьем, не зная неудач и разрушительных страстей. Восхитительный мир нашего дома был хорошим подарком судьбы, с которым мы втайне поздравляли себя, словно все наши высокоморальные претензии были уже удовлетворены. Вероятно, мы выучили, что жизнь подчиняется жадным стремлениям; это лишь требует ума и решительности; вот система, формула, трюк.
Возможно, существуют добрые и злые жизненные ритмы. В то время нам открылась сама красота. Моя жизнь была подобна пейзажу с зеленеющими деревьями, роскошными лужайками и зеркальной гладью озера.
Иногда я пристально вглядывался в лицо спящей жены и знал, что, разбуди я ее, мне нечего будет сказать. Да и какими могли быть эти вопросы, которые ждали ответа? Ответ был здесь, дальше по коридору, в комнате Мартина и Салли. Что могло тревожить меня? Какую правду я хотел услышать?
Время, резво несущееся сквозь мою жизнь, – победитель. Я же, беспомощный, едва удерживаю поводья.
Оплакивая тех, кто умер молодым, тех, кто ограблен временем, – мы горюем об утраченной радости. Мы сожалеем о возможностях и наслаждениях, которые нам не были доступны. Мы чувствуем уверенность, что эти юные тела знали томительный восторг, которого мы тщетно домогаемся всю жизнь. Мы верим, что невинные души, заключенные в хрупкие оболочки, могли свободно летать и знали радость, которой мы лишены.
Мы говорим, что жизнь сладка, а удовлетворение ею глубоко. Думая так, мы подобны лунатикам, чье время течет сквозь годы сменяющихся дней и ночей. Мы позволяем ему водопадом струиться мимо нас, надеясь, что поток никогда не иссякнет. Но каждый ускользающий день неповторим, и каждый человек на земле уникален; и все исчезает.
Да, но как быть с украденным временем у наших рано умерших друзей! Каким прекрасным оно могло быть! Годы идут. Проходят десятилетия. А жизнь не состоялась.
И как быть с рождениями, при которых я присутствовал? Может ли что-либо метить человеческое время более достойно? Что сказать о смертях, которые я свидетельствовал? Умелый врачеватель, я часто был для умирающих последним, кого они видели. Была ли в моих глазах доброта? Или был виден страх? Я верил, что полезен здесь. Сколько печальных драм! Не приносил ли я страх и муку? Несомненно, это не было бесцельно проведенное время.
Какой финал нам уготован каскадом бегущего времени? Неужели всему суждено быть затерянным в разливе вод? Почему я стал доктором? Чей добрый умысел привел меня на пост министра? Это была заботливая рука, но не любящая.
Те, кто счастлив, должны скрывать это и быть благодарными. Они должны надеяться, что дни гнева обойдут стороной их дом. Они обязаны защитить свое достояние и пожалеть ближнего, когда ужас грянет. Но спокойно и не теряя себя.
5
Отец Ингрид был членом парламента от партии консерваторов. Родился он в зажиточной семье среднего класса и благодаря разумному вложению денег оказался весьма состоятельным человеком.
Он верил, что основной инстинкт человеческого рода – алчность. Что партия, обещавшая наиболее выгодные экономические условия большинству и потому победившая на выборах, – не для страны.
– Вот в чем большая ошибка этих старых парней, лейбористов. Они отлично подкованы в экономике. Но смешивают ее с равным распределением благ для каждого. Никто не хочет этого. Дорогого стоит, во всяком случае, они совсем не осторожны. Большинство держится от них подальше и будет голосовать за тебя. Это так просто.
Ингрид улыбалась, а если спорила, то мягко и иронично. Но в действительности он мог быть прав. Каждый раз его переизбирали неизменным большинством голосов.
Мне было тяжело соглашаться с ним, но долгие годы я никак этого не выказывал. Лишь со временем стал менее терпеливым. Я спорил с ним все более и более напористо. К моему удивлению, ему нравилось это. Его лицо розовело и сияло удовольствием от любой критики. Он оказался гораздо более искусным оратором, чем я когда-либо предполагал. Загоняя меня в тупик, он разражался торжествующим смехом.
Моя позиция была относительно слабой. Я испытывал отвращение к социализму. Ненавидел отсутствие свобод, которого придерживались левые.
Основная философия консерваторов была для меня вполне приемлема. Но их погоня за всеобщим личным обогащением казалась мне глубоко непривлекательной. Я был вопрошающим, неудовлетворенным спорщиком, но в глубине сердца – консерватором.
Занятия медициной не помогали политической карьере. Особенно это сказывалось в прениях, но постепенно, с практикой, я совершенствовался.
– Почему бы тебе не баллотироваться в парламент? В партии найдется местечко для малого вроде тебя.
Мой тесть мог вполне свободно раздавать синекуры, поэтому так сногсшибательно прозвучала эта фраза.
– Да, да! Ты – врач! Честен, не чужд сострадания, вполне способен удерживать нас, жадных парней, на этом узком праведном пути. Мне по душе идея. Это хорошо для партии. И великолепно для тебя. Далеко пойдешь, и сам это знаешь. По совести говоря, вначале я так не думал. Ты молчал, как бревно, прости за выражение. С тех пор ты здорово пообтесался. Это было в тебе, всегда было, лежало на поверхности, сам понимаешь. Я видел это и прежде, когда ты выглядел таким сосунком. У нас было много великих говорунов, но к сорока им оказалось нечего сказать. Вот так-то. Я все это видел. Двадцать восемь лет был членом парламента, двадцать восемь лет. Я видел все.
Ингрид улыбалась, как я подумал, вполне сообщнически. Я самонадеянно представил, что мне удалось несколько смягчить консерватизм Эдварда Томпсона и отстоять свое мнение. В тот вечер исчезли все мои внутренние сомнения. Эта мысль захватила меня, я мог гордиться собой.
После долгих лет, когда мне приходилось следить за каждым своим шагом, избегая давления собственного отца, я оказался в начале совершенно нового пути, и поддержал меня в этом мой второй отец, мой тесть.
Мы с Ингрид засиделись в тот вечер за разговором, более долгим и глубоким, чем за все время нашего брака. Она была очень открыта тогда. Впервые я заметил, как для нее важен престиж ее отца. Мою жену взволновала мысль о том, что мне предстоит идти его дорогой.
Мы договорились, что я займу надежное место, только что освободившееся неподалеку оттуда, где мы жили. Здесь, где я работал врачом, влияние, которым я пользовался, было наиболее сильным. Хоть я и оказался в оппозиции к старым и умным местным бизнесменам, партийным чиновникам явно был нужен в парламенте представитель попечительной профессии. Меня быстро провели кандидатом от тори. Во время выборов им пришлось убедиться в правильности принятого решения, поскольку я был избран убедительным большинством голосов. Нормальный рабочий механизм наших с Ингрид отношений заработал вновь. Она снова замкнулась в себе. Вполне удовлетворенно. Вернулось спокойствие, которым всегда отличалась наша повседневная жизнь.
Много лет спустя я удивился обстоятельности, с которой обсуждали те события Ингрид и ее отец, еще до того откровенного разговора за обедом. Неужели им показалось, что мной так легко манипулировать? Или я был так беззащитен перед ними и перед каждым. Только потому, что считал себя никому не известным?
Я был мечтой рекламного агента. Мне сорок пять, со мной красивая, умная жена, блестящий сын в Оксфорде и дочь, посещавшая школу. Отец мой был известным бизнесменом. Тесть – одним из ведущих политиков, давно оплативший свой долг перед партией.
Я обладал довольно представительной внешностью. Не настолько красивой, как у моего предшественника, но достаточно приятной, чтобы сниматься на телевидении – этой новоявленной гладиаторской арене. Той арене, где сражающиеся до политической смерти приветствуют не Цезаря, а тех, кого они собираются предать. Это дает массам иллюзию, что в этой, казалось бы, кровавой битве до смерти политик всегда одержит победу. При демократии некоторые политики действительно всегда побеждают.
Я видел себя победителем. Для этого у меня были все основания. Я был избран и взлетел вверх по политической лестнице с легкостью, которой сопровождались все мои действия.
Я был одинаково уверен в себе и в медицине, и в политике. Но любые усилия мне ничего не стоили. Время для человека, который по-настоящему не прожил ни одной секунды, не представляет особой ценности. Недорого стоят и напряжение, приведшее к поразительным результатам, и сокрушительная энергия человека средних лет и весьма крепкого здоровья.
В политике я платил той же валютой, которой с успехом пользовался в хирургии, – честностью, той разновидностью колючей цельности, соединявшей абсолютное отсутствие интереса к личной власти с сумасшедшим высокомерием игрока, не знавшего поражений.
Я старательно избегал всех основных форм поведения, которые приняты в парламентской жизни. Верность партии, как способ выстроить собственную карьеру, попытки сорвать незаслуженный успех, зависть и страх перед лидерами, внезапно появляющимися на политическом горизонте, творцами будущего, остро нуждающимися в признании и поддержке, – все вызывало во мне глубокое отвращение.
Между тем моя способность оставаться «белой вороной» вызывала в окружающих недоверие, даже страх. Играть, но играть не по правилам, означало стать врагом.
Достичь вершины успеха представлялось мне невероятным, но возможным. Все, что мне было необходимо, – это очертить собственные границы. Возможно, их просто не существовало или пока они были скрыты. Я оставался загадкой для моих коллег – при видимой целеустремленности, полное отсутствие цели. Мои очевидные способности все еще оставались без применения, но все вокруг, да и я сам, пребывали в уверенности, что если бы мне представился шанс, успех не заставил бы ждать. Но на чем была основана эта вера, не знаю. Я не рассчитывал на счастливый случай и в этом был не похож на других.
Я не мог подобрать к себе ключ ни в какой деятельности, ни в политике, ни в медицине. Выполнял свои конституционные обязанности с той же отменной тщательностью, с какой навещал пациентов. Но это шло исключительно от ума. Ничто, казалось, не могло потрясти меня.
Люди испытывали доверие к моей опытности и основательности. Все мне удавалось. В этом не было сомнения. Я привык, при необходимости, открыто высказываться по любому поводу. Говорил то, что думал, далеко не всегда взвешивая последствия своих слов. С другой стороны, вопросы, поднимавшиеся мной, были слишком важны для партийной дисциплины. Мои идеи обладали достаточной привлекательностью для большинства левых тори.
Я никогда не оказывался лицом к лицу с серьезным нравственным выбором. Все, что я чувствовал и говорил, никогда не было крайностью и не ставило меня в оппозицию к остальным членам партии. Я готов был принять во внимание любые мнения, разве что кроме крайне правых. Моя политическая карьера складывалась идеально, я сам не мог бы спланировать ее более удачно.
В скором времени меня назначили на пост замминистра здравоохранения. Было очевидно, что я соответствовал этой должности. Мое озабоченное лицо уже мелькало на экранах телевизоров, звучал мой голос, вполне приятный, правда недостаточно выразительный. Со страниц газет и журналов я искренне и серьезно обсуждал проблемы, с которыми мне приходилось сталкиваться. Мой публичный имидж к тому времени сложился. В нем не было обаяния, скорее некоторое приближение к идеалу, который хотели видеть в политическом лидере. Мой образ существовал как бы вне меня и даже, как я заметил, с годами становился все ярче.
В избирательном списке, помещенном в воскресном парламентском листке, я был назван одним из кандидатов в премьер-министры. Ингрид чрезвычайно взволновала эта новость, а детей смутила.
Я стал необходим партии, как актер из постоянной труппы старого доброго английского театра, – надежный, знающий, но настолько далекий от магии Лоуренса Оливье или Джона Гилгуда, что казалась странной их принадлежность к одной профессии.
Искусство и страсти, преобразующие жизнь, не были моей сущностью. Но во всех ипостасях моя жизнь оставалась великолепным спектаклем.







