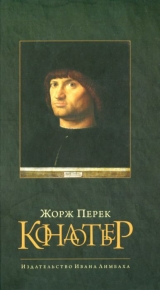
Текст книги "Кондотьер"
Автор книги: Жорж Перек
Соавторы: Клод Бюржелен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Легко сказать. Как ты заметил, что это ловушка?
– Как, наверное, все, я хотел счастья. Как и все, искал подходящее место. Я нашел подходящее место. Но я не был счастлив…
– Почему ты не был счастлив? Как проявлялось то, что ты не был счастлив?
– Откуда я знаю!
– Это неправда… Для тебя всё «ничего не значит»… Ты искажаешь свою историю… Ты передергиваешь… Шестнадцать лет, четыре года ученичества и двенадцать лет ремесла, ты живешь в мире, который для себя выбрал… И вот через шестнадцать лет ты вдруг говоришь, что все рухнуло… Как это возможно? Ведь с чего-то все началось, от чего-то все произошло. Ловушка – это, конечно, красиво, но ведь раньше ты ее не замечал, и ничто не наводило тебя на подобные мысли. Какое-то несоответствие. Если бы все происходило естественно, ты бы остался фальсификатором всю свою жизнь, как Жером… Понимаешь, что я хочу сказать?
– Конечно… Тебе бы хотелось найти отправную точку, внезапное озарение… Но ведь и это неправда… Сменялись дни, и ничего не происходило… В моем существовании не было никаких превратностей… Не было истории… Не было даже существования… Да, если бы все было логично, я никогда бы не смог признать свою слабость, никогда бы не смог почувствовать, как оступился, никогда бы ничего не заметил… Просто я хотел жить. Невзирая на них, невзирая на Руфуса и на Мадеру, быть кем-то другим, а не имитатором, плагиатором, человеком с волшебными пальцами… Что-то другое, но только не это «неважно что, неважно кто, неважно когда»…
– Что значит «хотел жить»?
– Вот именно, что ничего не значит… В этом все и дело. Наконец-то произнесено главное слово… Жить – ничего не значит, когда ты фальсификатор. Это значит жить с мертвыми, это значит быть мертвым, это значит знать мертвых, это значит быть неважно кем, Вермеером, Шарденом. Это значит прожить день, месяц, год в шкуре итальянца эпохи Возрождения, или француза Третьей республики, или немца периода Реформации, испанца, фламандца. Это значит добавить несколько мелких деталей к его жизни, совокупность более или менее связных фактов, нечто вероятное между двумя бесспорными фактами: где был Мемлинг перед тем, как приехать в Брюгге? На Рейне? Писал ли он там? Конечно. Так почему бы не найтись Богоматери и Донатору, которых он написал в Кёльне приблизительно в 1477 году? Начинаешь искать и понимаешь, что, согласно последним данным, все может склеиться; едешь на три недели в Брюгге, в госпиталь Святого Иоанна изучать Богоматерь с яблоком, святую Урсулу и tutti quanti[47]47
Tutti quanti – дословно: и всякие другие; и все остальное (ит.).
[Закрыть]; возвращаешься, и через шесть месяцев на чердаке полузаброшенного монастыря под Кёльном находят Богоматерь, которая очень похожа на Марию Морель, и Донатора, который смахивает одновременно на какого-нибудь кабана из Рейксмузеума и Мартина ван дер Что-то, бургомистра Брюгге, и еще какого-нибудь Мецената. Вот так всё и делается, но и это не важно… Зато в течение шести месяцев, днем и ночью, во сне и наяву, ты назывался Гансом Мемлингом или, если хочешь, по-французски, Мемленом… ты его замещал, ты проделал весь его путь, но наоборот… Кто такой Гаспар Винклер? Никто не знает. Двенадцать лет одно и то же. В этом не было ничего мучительного, ужасающего, это, наоборот, увлекало, возбуждало, это было здорово. Но я больше не мог… Пойми, я целыми днями перерисовывал… Мертвое время, пустое измерение, пробел в жизни любого художника, не очень определенная дата, не совсем точный факт – хоп! и вот я уже напяливал его лохмотья… Все это было ни к чему, предосторожности были излишни, чаще всего покупатели верили Руфусу, Мадере или их агентам на слово. При желании они могли бы проверить, но и это бы предусмотрено. Мы знали правила игры. Мы ничем не рисковали, у нас были книги и картотеки. Мы знали, где искать, если в этом возникнет необходимость. Как реставратор я имел право копаться в архивах и работать в музеях. Но через какое-то время я уже не мог ни в чем разобраться… И что вполне закономерно, копил в себе неуверенность… Еще больше, чем четырнадцатый гость, которого зазвали лишь для того, чтобы избежать несчастливого числа… Я годился для заполнения пустот… Но моя собственная жизнь… Я был амбициозен… пожалуй, нет… за всеми предосторожностями я все же оставался Гаспаром Винклером… Я чувствовал потребность в чем-то другом… и упрекать меня в этом нельзя…
– Потребность в чем?
– Потребность быть самим собой…
– Что тебе надо было сделать, чтобы быть самим собой?
– Не знаю… Это и стало ловушкой… Я был вне самого себя, я не принимался в расчет. Я был рукой, исполнителем. Являлся со своими словарями, карточками, кистями и баночками. Как мне хотелось, будь то днем или ночью, сорвать маску и уже не быть фальсификатором, а стать кем-то настоящим… Но это будто прилипло к моей коже, следовало за мной повсюду… Кто вы? Я – никто, я – кто угодно…
– Ты ведь хотел этого…
– Да, я этого хотел, хотел изо всех сил… Хотел раствориться, исчезнуть… Хотел быть кем угодно и в итоге стал никем, хотел скрыться за бесчисленными масками и стать недосягаемым, неприступным… И что? Я зашел слишком далеко… Для полного успеха это было слишком красиво, где-то должно было не сработать…
– Где именно?
– Я встретился с Милой. Лучше бы этого никогда не случалось… Она не искала встречи со мной, просто оказалась на моем пути, а я не свернул. Это было моей первой ошибкой… Быть фальсификатором – значит брать у других все и не давать ничего… Я ничего не дал Миле… не обратил внимания, остался безразличным. Это было естественно. Я шел в ее направлении. Она сделала шаг мне навстречу. Я прошел своей дорогой. Зачем отклоняться от курса? Она ушла. Я пожалел. А дальше? В то время я готовил сплитское сокровище. Много работал. Вот и всё.
– Это было серьезно?
– Нет. Почему серьезно? Почти естественно… совсем маленькое отклонение… Любил ли я Милу? Не знаю, никогда не задумывался. Я любил картины, альбомы по искусству. Любил целыми днями писать какого-нибудь псевдо-Бальдовинетти. Вот что я любил… Но все это ничего не значило. А я не знал, что это ничего не значит. Так уж получилось…
– И что?
– И ничего… Все продолжалось как ни в чем не бывало… Только в великолепной башне из слоновой кости, которая меня защищала, образовалась крохотная трещинка… Однажды вечером я захотел поехать к Миле… и не осмелился… За две недели до этого она бросила меня, ничего не сказав, без видимых причин, лишь потому, что я не сумел дать ей того, чего она ожидала… может быть, просто присутствия… Я не осмелился, и это меня расстроило… Я вышел из дома, пошел в кино… Такое случалось со мной очень редко… Мне стало скучно… Я ушел с середины фильма и зашел в какой-то бар. Выпил. Явно перебрал… Пошел бродить по улицам. У площади Мадлен взял девицу и привел ее к себе. Наутро решил, что вел себя глупо и лучше бы остался дома работать. С тех пор по вечерам я обычно так и делал.
– Работалось тебе хорошо?
– Превосходно… Тебя это удивляет? Ты думаешь, было бы логичнее, если бы я халтурил, ошибался, терял время, заставлял себя или вообще все забрасывал… Нет… Моя башня была еще прочна… Мне работалось слишком хорошо, я мог работать всю ночь… Вот что было логично… Компенсировать эту небольшую заминку… Войти в нормальную колею… Идти прямым курсом…
– Это и был сбой?
– Это или что-то еще? Это или что-то еще. Это в том числе. Пусть сегодня вечером будет это, раз уж я об этом заговорил… Ведь что-то должно было послужить началом… Почему бы и не Мила? А может, старость Жерома… или едва ощутимое осознание моего истинного положения, впечатление, что мною играли, что меня использовали; или простое, элементарное нагромождение подделок… маски, опять маски, слои масок… Я задыхался и не знал почему; не знал, что это меня и душило; не знал, что это давало мне жизнь и в то же время несло смерть… Именно этого я добивался? Да? Я добивался полноты жизни, мгновенной победы… Надо было жить и бороться… А бороться я не хотел… Я бился с закрытым лицом, бился под неуязвимыми доспехами, бился с тенями. Их гениальности я противопоставлял свое терпение. Конечно, я всегда побеждал. Я мошенничал. Но не знал, что мошенничаю… Рано или поздно я должен был заметить… Неважно когда, неважно где… И это, разумеется, произошло. Это произошло из-за Милы, но могло произойти из-за чего-то еще. Неважно. Это началось… А дальше – как свитер, который начинает распускаться… Башня стала рушиться, сначала крохотный обвал, потом все быстрее, все больше… Я пытался отражать удары, защищаться, восстанавливать… но все впустую…
Я вернулся во Францию в конце ноября; провел в Париже несколько дней, чтобы закупить материалы, и отправился в Дампьер. Мадера славно потрудился: часть его подвала была переделана в мастерскую. В центре комнаты находилось большое кресло с двумя низкими столиками по бокам, прекрасный мольберт из дерева и стали, огромное количество ламп. Он постелил ковры, устроил душ и даже поставил телефон, чтобы все было под рукой. Столы с плошками, книжные стеллажи по углам, еще столы, электропроигрыватель, холодильник, еще одно кресло, диван, кровать… Самая прекрасная из всех тюрем. Я просидел в ней безвыходно пятнадцать месяцев, не считая нескольких коротких поездок в Париж и Женеву. Ничем другим, кроме Кондотьера, я не занимался…
Начало было трудным. Дней десять я только готовился, распределял карточки, развешивал полученные репродукции, раскладывал кисти, расставлял банки и склянки. Все это происходило почти автоматически: думаю, я был скорее рад, как и всякий раз, когда брался за новое дело… Затем я начал шлифовать доску: скучная рутинная работа, требующая терпения и соблюдения некоторых мер предосторожности. Это заняло у меня дней двенадцать, потому что я работал очень и очень медленно. Доска оказалась почти необработанной. Это была превосходная, почти неповрежденная дубовая древесина. Почти сразу же после этого я смог начать gesso duro. Первая сложная операция. И вновь ставка на терпение, регулярное нанесение слоев гипса и клея. В начале января все было готово, и я мог приступить к настоящей работе: я начал с простой бумаги, затем с картона перешел на пробные холсты, грубо обработанные доски. Часть дня я копировал фрагменты Кондотьера и других портретов Антонелло, а потом придумывал свои собственные детали. В течение шести месяцев занимался лишь этим и не провел ни одной линии. Каждую неделю подшлифовывал доску и добавлял несколько слоев, чтобы поддерживать нужную степень свежести… С этого момента и начались сложности… Я стоял перед доской. Но иначе, чем какой угодно художник перед какой угодно доской. Ведь речь шла не о том, чтобы написать стог сена, пригородный пейзаж или закат солнца… Мне предстояло явить то, что уже было, мне предстояло создать другой язык, но полной свободы у меня не было. Грамматика и синтаксис уже существовали, а слова не имели никакого смысла, и я не имел права их использовать. Именно это я и должен был придумать: новый словарь, новые знаки… Он должен был распознаваться с первого [взгляда[48]48
В рукописи слово пропущено (примеч. французского издателя).
[Закрыть]], и все же отличаться… Очень тонкая игра…
Сначала думаешь или вроде бы думаешь, что это просто. Кто такой Антонелло да Мессина? В раннем периоде – сицилийская школа, преобладающее влияние фламандцев, побочное, но ощутимое влияние венецианской школы. Это перетаскивается из учебника в учебник. Это объясняет и первое приближение к его творчеству. А дальше? Строгость и мастерство. Сказал и решил, что этим все сказано. Но признаки этой строгости? Это не выявляется. Проявляются с трудом, медленно, вперемешку… Часами стоишь перед холстом или картоном. А перед глазами – ничего, лишь свод ограничивающих законов, которые нельзя нарушить. Сначала нужно их понять, досконально, полностью. Не допуская ни малейшей ошибки. Робко пробуешь сделать эскиз. Оцениваешь. Что-то не так. Пробуешь изменить какую-то деталь, и все вдруг разваливается. Шесть месяцев я играл в кошки-мышки со своим Кондотьером. Я предлагал ему бороды, усы, шрамы, веснушки, носы вздернутые, носы орлиные, носы приплюснутые, носы картошкой, носы греческие, доспехи, броши, короткие волосы, длинные волосы, шапочки шерстяные, шапочки меховые, шлемы, губы надутые, губы заячьи… И все не мог угодить. Я смотрел на Кондотьера. И думал: вот эта напряженная мышца – подчеркнутая тень, постепенно затеняемая щека, дуга окружности, и тень эта подчеркивает лицо, проявляет его; что-то остается незримым, а что-то словно раскалывается неким сиянием. Из этой светотени выплескивается вся мышечная мощь, бьет ключом мускульная воля. Вот что я должен был найти, не копируя. Вот что меня больше всего поражало. Например, я сравнивал Кондотьера с Мужским портретом, который находится в Вене. Там все было наоборот. Кондотьер – мужчина средних лет, даже скорее молодой – ему от тридцати до тридцати пяти лет; венскому юноше нет и двадцати. Один – решительный, другой – безвольный: вялое лицо, ослабленные черты, скошенный подбородок, маленькие глазки, огромная безбородая щека, без мышц, без напряжения. Зато одеяние светлее, контрастнее, чем лицо, видны складки и брошь. Я мог ошибиться при сравнении, но именно это смещение признаков казалось мне наиболее очевидным. Написать венского юношу было бы нетрудно, им мог бы стать первый встречный. Но в случае с Кондотьером – а я уже выбрал его – это могло быть только одно лицо. Я кружил вокруг этой установки, и мне никак не удавалось пойти дальше. Сначала меня весьма привлекала идея вырядить моего Кондотьера в доспехи. Так многое упрощалось: это позволяло играть со светом – серая кираса, серые глаза. Если у него вся картина строится на коричневом цвете – шапочка и колет, глаза, волосы, зелено-бурый фон, светло-охристая кожа, – то у меня получился бы серый Кондотьер: шлем и кираса, глаза, светлые волосы, матовая, чуть сероватая кожа, как у молодого человека кисти Боттичелли из Лувра. Но какой в этом смысл? Зачем Кондотьеру какая-то кираса, если он сам уже являет несомненную силу? Кираса была бы слишком явным указанием; тогда уж – чего проще – взять и написать его в соответствии с представлениями романтиков: пьяным ухарем типа капитана Фракасса или Козимо Медичи. Я отбросил кирасу. И втиснул его в красноватый колет; но он получился слишком похожим на оригинал… Я продолжал искать… Шесть месяцев по десять часов ежедневно. Потом мне показалось, что я нашел. Мой Кондотьер будет развернут на три четверти, как подлинный Кондотьер, как юноша из Вены, как гуманист из Флоренции; голова обнажена, колет зашнурован, шнур привязан, несколько слегка заметных складок на высоте плеча. Костюм, выбранный после целого ряда проб и ошибок, был окончательно принят лишь после того, как я сходил в Национальную библиотеку и убедился в его достоверности. Это могло сработать; детали я позаимствовал бы из разных произведений: воротник у венского юноши Антонелло, шнуровку дублета в портрете Гольбейна, общую форму головы с портрета Мемлинга. Я потерял целых две недели только на то, чтобы подыскать цвет лица Кондотьера: никак не удавалось его определить; он должен был соответствовать цвету одежды и задавать весь остальной колорит. В конце концов я выбрал тускло-охристую матовую кожу, черные волосы, темно-карие глаза, почти такие же темные полные губы, бордовый колет и темно-красный фон, чуть высветленный справа. Каждый вариант требовал новых эскизов всей композиции, вызывал сомнения, был сопряжен с остановками, возобновлениями и принятием рискованных решений. Думаю, с мерами предосторожности я переусердствовал. Было сделано все. Заранее. С такой точностью, что я уже не мог ошибиться, и малейшее прикосновение кисти оказалось бы окончательным. Именно так и следовало работать, но на этот раз возможность погрешности исчезла напрочь. Малейшая заминка – и мне пришлось бы все начинать заново, шлифовать, накладывать gesso duro. Я испугался. Это было удивительно. Ведь я никогда не боялся запороть работу. Наоборот, всегда был убежден, что справлюсь легко. Здесь же мне приходилось тратить целый день только на то, чтобы выбрать какой-то цвет, какое-то движение или какую-то тень.
Разумеется, самым трудным оказалось это пресловутое сокращение мышц. Подражать не получалось, а делать точную копию было бессмысленно. В итоге, я решил руководствоваться портретом Мемлинга: широкая сильная шея, намек на двойной подбородок, глубоко посаженные глаза, складки от крыльев носа, толстые губы. Сила исходила от шеи, от связок, от удерживаемой высоко и прямо головы, от сжатых губ. На эскизах все получалось удачно. На пробных холстах, гуашью, результат оказывался просто превосходным; сложное сочетание Мемлинга и Антонелло было подогнано безупречно: ясный взгляд, легкие линии, которые сначала не встречают преграды, затем утолщаются, уплотняются, твердеют, становятся непреклонными. Без жестокости, но и без слабости. То, что я искал. Почти то, к чему стремился…
Еще один месяц я выждал перед тем, как начал писать. Надо было приготовить плошки, кисти, тряпки. Три дня отдыхал. Писать начал, сидя в кресле: плошки и масленки под рукой, доска, подоткнутая по углам ватой и тряпками, чтобы фиксирующие стальные рейки мольберта не оставили следов, муштабель и подпорка, чтобы не дрожала рука, огромный козырек, чтобы не слепили прожекторы, и лупы на лбу. Беспрецедентные меры предосторожности. Я писал по двадцать минут и останавливался на два часа. Пот лил ручьем, я переодевался по три-четыре раза на дню. Меня не покидал страх. Почему-то у меня начисто пропала уверенность, мне не удавалось четко представить, что я собираюсь сделать, и предвидеть, какой окажется уже написанная картина; я бы не поручился, что она будет похожа на десятки более или менее законченных набросков, разбросанных по мастерской. Я не понимал, почему выбрал некоторые детали, не мог совладать с композицией, не чувствовал ее присутствие в малейшем мазке, не чувствовал ее форму. Я продвигался на ощупь, несмотря на бесчисленные предосторожности. Раньше я бы написал любую картину Возрождения за два месяца; здесь, после четырех месяцев, к середине сентября, мне еще только предстояло выписывать лицо…
Я отлучился на восемь дней; пять из них провел в лаборатории, три в Париже, в Лувре и в архиве, без какой-либо конкретной цели; вновь проверял детали, убеждался в точности воротника и колета, в книгах часами искал ненужные подтверждения. Вернулся. Поработал еще два месяца. Когда умирал Жером, работа была приостановлена еще на неделю; я ездил в Лондон и Антверпен. Потом, из-за Жерома, помчался в Женеву. Вернулся. Мне оставались еще глаза, губы, шея. И складки колета у плеча. С ними я провозился целый месяц: никогда еще я не писал так медленно. Я часами простаивал перед холстом. Картину следовало закончить месяц назад. Мадера все чаще спускался в мастерскую, молча слонялся вокруг меня и выходил, хлопая дверью, в бешенстве: все это время я неподвижно сидел в кресле, отставив муштабель, опустив кисть, уставившись на какую-нибудь деталь, и наносил в своем воображении сотню возможных мазков, пытаясь вырвать завершенный образ из этой бесформенной картины. Долгими часами, от рассвета до заката, забывая есть, пить, курить, зачарованный какой-нибудь мимолетной тенью, одержимый какой-нибудь слишком четкой линией, измученный каким-нибудь почти невидимым пятнышком… В конце года я остановился еще на два дня. Первого января приступил к губам. Первого февраля – к теням на шее. Наверное, я был слишком утомлен, слишком напряжен, слишком озабочен, чтобы выдать что-то стоящее. Двадцатого февраля я почти остановился. Пять дней подряд рассматривал Кондотьера. Ему не хватало глаз и шеи… Его еще можно было закончить… Еще можно было… Я отодвинул кресло, столы, подпорки. Мольберт одиноко стоял посреди мастерской. Как эшафот. Утром двадцать пятого февраля я принялся писать стоя, без козырька и лупы, с дюжиной кистей и палитрой в руках. За день, почти не прерываясь, закончил шею и глаза. В тот же вечер было завершено почти все, за исключением крохотных деталей. Оставалось лишь покрыть его кракелюрным лаком и провести через печь. Мне показалось, что я справился. Я не очень гордился. Не очень радовался. Я был изможден, разбит. Кончен. Никак не мог совладать с чувством, с ощущением того, что Кондотьер был не таким, каким должен быть. Будто я его совершенно запорол и не сумел это заметить, а теперь было уже слишком поздно. Я завалился спать. Проснулся среди ночи. Зажег светильник. И посмотрел на Кондотьера…
– А дальше?
– Дальше – ничего… Получилось не то… Получилось совсем не то…
– Почему?
– Не знаю… Получилось наоборот или наизнанку… Блеклый человечек, жалкий пособник…
– А раньше ты этого не замечал?
– Нет… Раньше я этого не видел… Получился какой-то крысенок… крысенок с притворными глазками… какой-то заурядный… замухрышка… доходяга-каторжанин…
– Но за несколько часов до этого тебе казалось, что ты справился?
– За несколько часов до этого – да… Что это было? Опьянение! Чувство выполненного долга… удовлетворение… гора с плеч…
– Мадера видел картину?
– Видел… На следующее утро…
– И что он сказал?
– Ничего… ничего не сказал… я лежал на кровати в одежде, придушенный галстуком, мертвецки пьяный, среди пустых бутылок, ломаных сигарет и блевотины… Я был мертвецки пьян… Он позвал Отто, тот сунул меня под душ и влил в меня литр кофе…
– Почему ты напился?
– Чтобы отпраздновать свой блестящий успех… Чтобы отпраздновать свой прекрасный триумф… Впечатляющее завершение многолетней службы… верой и правдой…
– Почему ты напился?
– А что мне еще оставалось делать? Почти полтора года я спал рядом с этими страшными соседями… Полтора года бился с последним из них… И вот крах… Полный крах… Что, по-твоему, мне было делать? Заснуть сном праведника? И, может быть, видеть прекрасные сны? Я был разбит. Всмятку. Выжат как лимон. Размазан. Кончен.
– Как ты понял, что провалил Кондотьера?
– Я это увидел…
– Ты видел дважды. В первый раз тебе показалось, что ты справился, а потом, проснувшись среди ночи, ты понял, что это неудача…
– Если он получился, то почему я не увидел это оба раза?
– Потому, что ты хотел, чтобы это был провал…
– Стретен, у тебя все слишком просто… Вижу, куда ты клонишь… Но полтора года я бился с ним…
– И что это доказывает?
– Это доказывает, что я хотел, чтобы получилось… Конечно, заманчиво, уже после, сказать, что это было подстроено специально… Но я прилагал все усилия только потому, что мне нужен был этот успех… А мой провал не что иное, как доказательство того, что я замахнулся на недостижимое…
– Не понимаю тебя…
– И что? Фальсификатор или нет: вот в чем проблема, вот в чем решение, вот в чем вопрос… Пусть мне было суждено потерпеть неудачу, но отныне единственным произведением, которое я позволил бы себе создать, могло быть лишь мое собственное. Я отбросил идею пазла, я решил играть в открытую. Я старался, да, старался оказаться рядом с Антонелло. Не столько достичь – тщательностью, терпением – такой же точности и гениальности, сколько одолеть путь без проводников, в одиночку, ориентируясь лишь на его картины, как на маяки, намеченные цели, и добраться до него, познать его усилие и его триумф. Антонелло да Мессина, а не кто угодно. Антонелло, а не Кранах. Антонелло, а не Шарден. Я должен был устранить всякую двусмысленность, добиться его безграничного торжества, бесподобной прозорливости, феноменальной уверенности. Его нечеловеческой силы. Гениальности овладевания. Потому что на протяжении стольких лет единственной целью всех моих усилий было это вознесение… Потому что в нем таились выискиваемые мной решения… Потому что там, в конце пути, я бы исполнил свое самое искреннее желание, обрел бы собственное лицо… Потому что нуждался в своем лице, своей силе, своем свете… Потому что для меня это утверждение и подтверждение себя было единственной возможностью не быть фальсификатором. Если бы я справился, то тем самым, помимо умения и техники, обрел бы собственную чувствительность, проницательность, загадку и отгадку…
– Почему ты не справился?
– Потому, что было слишком трудно… Мне нужно было мое лицо, мне нужен был свет… Мне нужно было мое лицо, мне нужен был Кондотьер… Победа без борьбы, уверенность без раздумий, сила… Я слукавил и здесь… Откуда я мог знать, что стану этой силой? Вот это я и пытался доказать… Но боялся. Да. И уже знал, что затеял безумную авантюру… Знал и все же продолжал… Чем я рисковал? Ведь так или иначе все равно терпеть неудачу. Что я терял? А дни шли… Картина пропитана потом лица моего, но это никакой не Кондотьер… Я исправлял, вновь подступал, колебался, отходил назад… Но не было никакой возможности… Никаких шансов на успех…
– Почему же ты продолжал?
– Потому, что хотел знать…
– Зачем, если все равно неудача?
– Ни зачем… С этим надо было покончить…
– Поэтому ты запил?
– Поэтому. А что? Как-то под утро я посмотрел в зеркало. Это был я. Мое лицо: год усилий, бессонных ночей; мое лицо: дубовая доска, стальной мольберт, столы, плошки, сотни кистей, тряпки, лампы. Моя история. Моя судьба. Самый прекрасный шрам судьбы. Это был я, дерганый, алчный, жестокий и жалкий, с крысиными глазками. Тот, что корчил из себя Кондотьера. Строил из себя властелина мира на пересечении всех дорог. Полагал себя недостижимым, свободным и сильным. Это был я. Страх, горечь, паника. На какой-то миг иллюзия сохранялась, и вот уже все рушится, одним махом, все валится под невыносимым взглядом тех, что на стенах, бесспорных победителей и триумфаторов. И тогда я запил как скотина, как не пил никогда, даже в тот момент, когда два года назад сходил с ума от одной только мысли, что должен ответить Женевьеве. Я пил и бродил по комнате. Пил из бутылки. Я ломал кисти, рвал репродукции, до которых мог дотянуться. И продолжал пить, пока не рухнул…
– И Мадера ничего не сказал?
– Нет… Он позвал Руфуса. Руфус приехал в тот же вечер. Я спал. На следующее утро он увез меня в Гштад, где проводил свой отпуск, чтобы я смог отдохнуть.
– Они видели Кондотьера?
– Да.
– И ничего не сказали?
– Нет.
– Почему?
– На первый взгляд никак нельзя было определить, запорот он или нет…
– Не понимаю…
– Технических ошибок не было. Я написал вылитого Антонелло. Все признаки были налицо, только это были грубые признаки. Какое-то время это срабатывало, а потом зритель понимал, что стал жертвой мистификации. Сходство было слишком простым. Слишком явным. Посмотрите, какой я Кондотьер, я ничего не боюсь! Хо-хо! Посмотрите на мои шейные мышцы! Ха-ха! А может, сходство было искусственным, слишком отдаленным. Но достаточно было взглянуть на картину, думая, что это не Антонелло, и подлог сразу бы проявился. Все остальное раскрывалось само. Понимаешь? Вот что такое неправильный выбор. Если бы картина получилась, ее могли бы рассматривать миллиметр за миллиметром, пытаясь любой ценой доказать, что это подделка, но никаких доказательств не обнаружили бы. Это было логично. Логичнее не бывает…
– Ты считаешь, что только ты можешь судить объективно?
– Вне всякого сомнения. Эту картину написал я. И я в нее долго верил. Пока это было в моих силах, я старался делать все возможное.
– Но во время твоего пребывания в Гштаде Мадера, наверное, часто рассматривал картину?
– Нет. Картина была не закончена. Оставалось еще раз прописать фон и покрыть все кракелюрным лаком. Перед отъездом я накрыл картину холстиной, потому что отдельные части не совсем подсохли и на них могла осесть пыль.
– Если бы потребовалась экспертиза, ты думаешь, она бы ее не прошла?
– Наверняка нет. Любой искусствовед или эксперт уже через полчаса обо всем догадался бы…
– Что ты собирался делать?
– Не знаю… Уже не помню… в голове проворачивал десятки успешных планов… Мне хотелось отдохнуть, куда-нибудь смыться…
– Ты рассчитывал вернуться в Дампьер?
– И да и нет… не знаю… Я ничего не рассчитывал… О, я даже не думал об этой пресловутой катастрофе… Мне было наплевать… Я спал, катался на лыжах, читал детективы у камина…
– Почему ты вернулся?
– Слишком трудно объяснить… Неприятное воспоминание… Надоело кататься на лыжах…
– Это достаточный повод?
– Как и любой другой… Когда я уезжал в Гштад, я был почти доволен. Мне хотелось увидеть снег и покататься на лыжах. Снег был какой-то некрасивый; солнца было мало… Я заскучал… И вернулся в Париж.
– Вот так, вдруг? Ночью, специальным самолетом? И все потому, что снег был какой-то некрасивый?
– Да… Все потому, что снег был какой-то некрасивый… Может показаться смешным, но это почти единственная причина… Гштад здесь ни при чем… дело в другом. Воспоминание об Альтенберге, маленьком швейцарском городке, где я провел несколько лет в начале войны… Там я заразился этой любовью к снегу… Звучит странно, да?.. Я неудачно выразился… Я хочу сказать, что определенным образом и при определенных обстоятельствах я был совершенно счастлив… в Гштаде мне было скучно… Вот и всё…
– Это ничего не значит…
– Конечно, ничего не значит, а разве желание одолеть Кондотьера что-то значило? Все это ничего не значило… Но именно этим я и жил…
– Что ты собирался делать в Париже?
– Позвонить Мадере. Сказать ему, что не вернусь в Дампьер, что Кондотьер запорот, а мне на это наплевать. И что я посылаю его куда подальше…
– Ты так и сделал?
– Нет…
– Почему?
– Я позвонил Женевьеве…
– Почему Женевьеве?
– Потому же, почему уехал из Гштада… по той же самой причине, которая заставляла меня писать Кондотьера… Без каких-либо явных причин… Просто потому, что мне так хотелось…
– Хотелось катастрофы?
– Наверняка. Ну и что? Откуда ты знаешь? Почему катастрофы? Это могло сработать…
– Женевьева могла ответить?
– Почему нет, если я мог ей звонить? Что необычного в том, чтобы снять трубку? Экое чудо – просто взять и ответить!
– Если бы она ответила, это было бы чудом?
– Да… И да и нет… В этом тоже не было бы никакого смысла… Она не ответила, потому что поняла, что звонил я…
– Возможно, ее не было дома?
– В три часа ночи? Нет… Она была дома… Она поняла…
– Сколько времени ты не виделся с ней?
– Полтора года… С того коктейля у Руфуса…
– Почему ты уверен, что она была дома?
– Это было в феврале, в три часа ночи… У нее не было никакой причины менять работу и переезжать, значит, она была дома…
– В любом случае это неважно… Зачем ты звонил ей?
– Чтобы, как ты говоришь, вызвать катастрофу… Чтобы она витала надо мной, была рядом, присутствовала, неумолимая, тираническая и вселяющая уверенность, поскольку несла неминуемую погибель…
– Ты хотел убить Мадеру?
– Нет… Я не хотел никого убивать…
– В чем же заключалась эта катастрофа?
– Трудно сказать… В том, что все продолжалось как раньше, как ни в чем ни бывало, как будто ничего не случилось… В вечном возобновлении, в тысячекратном повторении одного и того же жеста, в том же никчемном терпении, в том же ненужном усилии… В моей истории, записанной раз и навсегда, замкнутой на себе самой, где единственным выходом была бы моя смерть, через десять, двадцать, тридцать лет. Необходимость продолжать до конца, без какого-либо смысла, без какой-либо необходимости…








