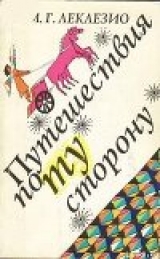
Текст книги "Путешествия по ту сторону"
Автор книги: Жан-Мари Гюстав Леклезио
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Найя Найя проскальзывает в Северный Треугольник, и тут появляется огромный Овен, вокруг которого вращаешься целые столетия, а после снова черное пространство, вплоть до Пегаса, Альгениб и Меркаб, расположенные на одной кривой, тоже прекрасны. Найя Найя пересекает ромб Дельфина, а за ним Геркулес. Перед полукружием Короны, блистающей шестью своими ледяными мирами, Найя Найя останавливается.
Но тут ее притягивает новая звезда. Найя Найя быстро ныряет вперед, в пустоту, пересекает что-то вроде круга, и в конце пути к Волопасу ее ждет последний небесный свет, самая, наверно, прекрасная из всех, уединенная, надменная, мерцающая в полном мраке звезда, от которой невозможно отвести взор; это Арктур, так далеко отстоящий от Сириуса, Андромеды, Бетельгейзе, божественная звезда, никогда не открывающая своих тайн. Он не подпускает к себе. Бессмысленно вместе со световыми лучами мчаться к нему со скоростью взгляда, он неизменно остается далеким и недоступным. Арктур сверкает со всей силой своей боли, своего одиночества. Никому не дано прервать его изгнания. Арктур неотрывно смотрит на мать, и взгляд его не слабеет. Найе Найе очень хотелось бы перемолвиться с ним словом, отвлечь его от навязчивой мысли, загородить собой Большую Медведицу. Но это невозможно, ночь слишком широка, и свет Арктура продолжает свой тяжкий путь презрения и боли, путь до противоположного края вселенной. И Найя Найя уходит, оставляя Арктур в его изгнании. Удаляясь, она порой оборачивается, чтобы посмотреть на прекрасную звезду, на яркий и высокомерный Арктур; он не хочет разговаривать, не хочет быть с другими – это одинокое светило, которому не интересны приключения других солнц и которое целиком замыкается в своей ненависти. Взгляд Арктура направлен на Большую Медведицу, и именно к ней держит путь Найя Найя. Она следит за Плугом, чьи выстроившиеся в ряд огни горят в ночи, подобно маякам. Как велик Каллисто! Найя Найя скользит вдоль его чрева меж желтых звезд. Две из них, Мизар и Алькор, горят ярче других, но это не беспощадный свет Арктура, а приятное, умиротворяющее мер– [195] цание. Найя Найя неторопливо дрейфует среди солнц Медведицы. Здесь, в окружении звезд, так хорошо. Везде горят огни, некоторые так близко, что греют лицо, другие бледно мерцают вдали. Со звездами нельзя чувствовать себя одиноко. Они танцуют по-своему, вращаясь, сжимаясь, отбрасывая брызги лучей. За Медведицей Найя Найя замечает далекие, похожие на корабельные огни, светящие во мраке ночи, – Вега, Рысь, Волосы Вероники, Регул и гигантская Капелла. Это странствие – вдали от миров, вдали от твердой земли и полюсов – бесконечно. Здесь светила никогда не заходят и горизонты открыты взору. Странствуя в ночи, ты сам становишься ее частью. Ты видишь свет, но сконцентрированный в виде шариков, которые напоминают капли воды. Тут есть непонятные полосы, неподвижные языки пламени, которые не гаснут в течение веков, есть черные дыры, непрозрачные участки, звездные скопления, потоки темноты. После Алькора Найя Найя начинает вращаться, словно опускаясь в воронку. Она пересекает созвездия Цефея и Дракона, разглядывая все голубоватые, белые, желтые, красные шары. Ей то холодно, то жарко, ее тело словно прочесывает небеса. Она спускается ниже, ниже и вдруг замирает на месте. Ее сердце еле-еле бьется, может, раз в несколько тысяч дней. Вместо сердца у нее – последняя звезда, которая делает человека таким же неподвижным и спокойным, как и все мироздание, звезда не очень красивая, она не такая яркая и не таких колоссальных размеров, как Бетельгейзе или Е Возничего. Она не такая ужасная, как Алголь, не такая прекрасная, как Вега, не такая таинственная, как Арктур, но и не странная, как Спика, не ослепительная, как Канопус, не двойственная, как Капелла. Просто эта звезда в центре твоего существа, она бьется вместо сердца, твое неподвижное тело окружает ее, меж тем как в ночи тобою бережно овладевает почти что вечный сон и твои глаза закрываются. Найя Найя дышит медленно, ведь внутри нее уже, по существу, не воздух, а безграничное пространство черной ночи, которое разрушает границы тела и распыляет сознание. Теперь уже тысячи взоров, одни холодные, цвета ржавчины, другие голубые, белые, жгучие, упираются в твою плоть, нанося несмываемые татуировки, единственно настоящие, таящие скрытый смысл рисунки, которые никогда не сотрутся. Тебе холодно одной на земле, а ночь долга. Мужайся! Мужайся, и ты достигнешь звезд.
[196]
[197]
«Меня зовут Гарматан. Я обитаю в пустыне, вдалеке от человеческих селений. Никому не дано знать, где я, когда сплю. Месяцами я неподвижен, сосредоточен в себе самом, я всего лишь масса знойного воздуха в глубине безоблачного неба. Солнце наполняет меня, и с каждым днем я все больше и больше раздуваюсь. Я такой горячий, что даже птицы не в состоянии лететь сквозь меня. Там, где я нахожусь, земля твердеет, словно стекло. Все спокойно, придавлено книзу, безмолвно. Кругом лишь застывшее песчаное море, светлое небо да солнце. Низкорослые растения пустыни ссыхаются, прокаливаются насквозь. Так продолжается многие месяцы. Я не покидаю своего песчаного жилища, жду. Чего я жду? Может быть, зова, голоса, который освободит меня, произнеся мое имя. Я долго не сдвигаюсь с места, долго нахожусь в напряжении. Складками невидимого воздуха, словно прижатыми друг к другу металлическими пластинками, застыли мои стиснутые члены, раздробленное тело, лицо, обращенное к обжигающей земле. А тем временем вдали от пустыни, на побережье над морем собираются облака пара, никто не дышит, все замерли, даже птицы не отваживаются летать. И тогда, наверное, начинают произносить мое имя, сначала шепотом, потом все громче и громче, вот так: Гарматан, Гарматан! Такая влажность, такая жара на болотистых лиманах, такая тяжесть и плотность в воздухе, что жизнь больше не в состоянии продолжаться. Как перед землетрясением, я ощущаю глухие удары, которые отзываются в прибрежных скалах и пещерах, черное гнетущее небо исполосовано молниями. Я сам, мое тело словно из сухого камня, и по коже у меня скатываются крошечные песчинки. Я так долго, так много дней пребываю в ожидании, меж тем как солнце [198] то поднимается по безоблачному небу, то опускается к горизонту. Дни похожи один на другой, я их не чувствую, не считаю, но во мне закипает страшный гнев. Я согнут в дугу посреди пустыни, мои члены ноют, тело изнывает от боли, все словно посыпанная солью рана, взгляд жжет сомкнутые веки. Когда же я, наконец, распрямлюсь, покажу свою силу? Прорву скорлупу и хлыну наружу? Ринусь вперед огненным столбом? Уже целую вечность я сдерживаю свою мощь. Они там у себя, во влажном тепле болот, в окружении мангровых деревьев, не знают жизни. Они ползают улитками, растекаются мыслью, мучаются сомнениями. Их деревья похожи на хрящи, а сами они заключены в темницу, где серая стена моря с его тухлыми запахами, свинцовая крыша неба, стелющийся туман. Они не знают солнца. У них свет ползет со всех сторон сразу, он просачивается из углов, течет длинными ленивыми потоками.
Я очень много времени нахожусь в пустыне, и во мне долгими месяцами накапливается сухое тепло. Я такой жгучий, как будто у меня внутри кузнечные мехи. Пылающие угли, горячие камни, металлы, раскаленные сначала докрасна, потом добела, которые капают, буравя землю, Гладкий песок порой похож на большое зеркало, в котором отражается жара. Всюду искры, вихрь искр, кружащийся вокруг остроконечных камней.
Я раздался вширь, я в напряжении и готов к прыжку. Я жду лишь зова, приказа или того мгновения, когда у горизонта раскроются ворота, две металлические створки, которые сдерживают мое тело. Я слышу, как звучит в пустыне мое имя: Гарматан, Гарматан, Гарматан, – и словно кровь закипает у меня в жилах. Там, на другом краю пустыни, дремлют во влажном оцепенении обессилевшие города. Они ждут, призывают меня сквозь сон. Они хотят, чтобы я пришел. Там уже не осталось воздуха, только пар и облака. По улицам, где нет тени, среди застоявшихся газов медленно катят машины. Мужчины сидят, прислонившись спиной к стене, прикрыв глаза, и с трудом дышат. Женщины качаются в гамаках, и по их лбам, шеям, под мышками безостановочно течет пот. Все происходит как в глубоком сне, который увлекает человека вниз головой на дно колодца. Каждый, вырыв себе такой горячий колодец, падает, падает к центру земли по вертикальным галереям, которые тут же за ним закрываются.
Из своего прямоугольного дома в пустыне я вижу эти [199] колодцы, которые люди пробивают в земле своей тяжестью, ощущаю людскую усталость. Я слышу, как издалека доносится мое имя, как оно отзывается эхом в металлическом небе: "Гарматан! Гарматан! Приди, Гарматан!" И тогда я понимаю, что настал мой час. Не очень-то легко сдвинуться с места после того, как месяцами находишься в согнутом состоянии. Отодвинув в сторону давящие на меня плиты, я принимаюсь как бы выкручиваться, словно стряхнувшая сон змея. Я немного приподнимаюсь над землей, и тучи песка смерчем взметаются вверх. Вздымаются высоко в небо и тут же падают невесомыми каскадами стены пыли. Поначалу царит тишина. Встав на ноги, я вырастаю над пустыней на тысячеметровую высоту. Передо мной до самого горизонта стелются желто-рыжие дали. Все тут принадлежит мне. Голубеет небо. Надо пересечь огромные пространства плоской горячей земли, свободно лежащей под лучами солнца. Силы мне не занимать. Вызывая головокружение, мелькают мысли. Я вытягиваю руки или крылья, которые из-за пыли становятся видимыми. Всей своей мощью я несусь вперед через песчаную равнину. Тишину прорывает звук, звук моего голоса, который, исходя из всего моего тела, распространяется в пространстве. Глухой шум, носовой гул, он вибрирует, расстилается по земле и, поднимая клубы пыли, уносится вперед. Так я двигаюсь по пустыне, я, Гарматан. Одинокий гигант, возносящий руки к голубому небу, я иду прямо, иду и кружусь, тихо напевая свои песни.
Мой голос поднимает тучи песка высотой с горы, они мчатся передо мной, ниспадают на землю и вновь отскакивают вверх, подобно большим бушующим волнам красного цвета. Моя мысль – это скользящий по пустыне горячий воздух, мое же тело огромно, оно – и движущаяся граница, которая отбрасывает с дороги препятствия, выворачивает дряхлые обожженные кусты и скребет рассохшуюся каменистую почву. Ничто не в силах передо мной устоять. Будь я человеком, верблюдом, лошадью, будь я южноамериканским ястребом или стаей саранчи, можно было бы вырыть ров, возвести крепостные стены или натянуть сеть через все небо. Но я как бы не существую. У меня нет лица, нет тела. Я воздух, вода, свет. Я продвигаюсь медленно, стелясь по земле, или скачками и в несколько минут покрываю расстояние до самого горизонта. Пустыня жжет, и это жжение придает мне силы. От раскаленных дюн с гулом исходит энергия, которая питает мое движущееся тело. Мно– [200] жество песчинок взвиваются высоко в небо, вырисовывая в воздухе пики, конусы, ветви и листву. Песчаные деревья с изменчивой кроной скользят по земле, леса из желтой пыли блуждают по пустыне, кружатся в вихре, гнутся и вновь встают в полный рост. Они тянутся, словно змеи, так быстро, что их движение трудно уловить. Впереди меня движутся предвестники моей мощи. Тихим шепотом, одной своей заунывной песнью я заставляю кружиться, подниматься вверх эти сухие тучи, которые зарождаются на земле при каждом моем шаге, как если бы по пустынному плоскогорью мчалась, пожирая пространство, конница. Путь мой прям, но я не знаю, куда он ведет. Я хочу достичь другого конца пустыни, пролететь над безводным миром, охмелевший от жары и скорости. Иногда мне встречаются широкие трещины в земле, высохшие долины. Тогда в воздух на несколько секунд поднимаются песчаные тучи, когда же они за моей спиной оседают на землю, не видно уже ни трещин, ни долин.
Порой я останавливаюсь и танцую посреди пустыни. Солнце немилосердно жжет мне затылок и плечи. Скрестив руки, я верчусь и вращаюсь, как пропеллер. Тогда, образуя большую легкую пирамиду, в воздух взлетает красный песок. Я топаю ногами, и моя песня кружится без остановки. Это тихое гудение заставляет вибрировать каждую песчинку. Так я разговариваю: громадами знойного воздуха, которые вздымаются вверх, прорезая слишком голубое небо.
Земля гладкая и идет под уклон, я скатываюсь вниз. Я спешу туда, где я нужен, к устам, которые меня призывают. Издалека, проносясь через кирпично-жестяные города, доносится мое имя: «Гарматан, Гарматан!», и, опьяненный, свободный наконец, раздавшийся из-за жары, я иду прямо вперед в окружении своей песчаной армии.
Теперь небо уже не такое голубое. Песок взвился очень высоко, словно над жерлом вулкана, и висит в воздухе. На грязно-красном небе время от времени появляется солнце, белый диск, странствующий отступая. Тут пустыня кончается. Теперь идут равнины, потом рощи, лес. Меж холмов текут реки с грязной водой. Невдалеке и город. Я пролетаю над деревнями с их иссушенной землей, похожими на термитники, и люди бегут в укрытия, пронзительно выкрикивая мое имя: «Гарматан! Гарматан!» Гнутся деревья, ломаются их черные ветви. Пригоршнями песка я забрасываю стены, двери, кузова старых автобусов. Шелушится вся [201] в трещинках краска, засыпаются песком ручьи, заваливаются колодцы.
При этом я, по сути дела, еще не покинул пустыни. Такой большой и невидимый, может одновременно находиться и посреди песчаного моря, и у городских ворот. По-настоящему это моя песнь, моя заунывная песнь глотает километры. Я надвигаюсь со всех сторон сразу, сшитый частицами камней, которые плывут по воздуху. Как если бы воздуха больше не было и все обратилось в легкую горную породу, в прах, – в скалу, скребущую землю, в раскаленную скалу, которая поглощает воду и стирает туман.
Я больше, крупнее всех. Я тот, кто наполнен солнечным теплом, кто, за долгие месяцы впитав в себя весь свет, движется теперь вперед, вырывая ворота, опрокидывая перегородки сна. Я свободен, тысячерукий, тысяченогий, тыся– челикий и тысячеглазый Гарматан. Впрочем, чтобы видеть, мне не нужны глаза, я раскидываю по сторонам песчинки, и они служат мне антеннами и щупальцами.
Я вхожу в город, и все тут же окрашивается в красный цвет. Женщины в спешке затворяют окна, заваливают двери. Но я все равно проникаю внутрь. Песок проходит через щели, под навесы, он огибает препятствия, и в закрытых комнатах возникает вдруг необычное свечение. Это свечение Гарматана. Кружась, оно просачивается повсюду вместе со своими крылатыми тучами, оно проникает во все отверстия, обволакивает вещи. Для него нет стекол, стен, одежды. Это мое свечение, мой голос, моя жизнь царят повсюду, пробуждая все ото сна. Песок проникает в ноздри и рот, носится по подвалам, окрашивает стены зданий, стопорит работу автомобильных моторов. При моем появлении горожане распрямляются и в опьянении бегут по улицам. Прищурившись, прикрыв рот платками, они пляшут и странными приглушенными голосами выкрикивают мое имя: «Гарматан! Гарматан^ В воздухе сверканье из-за множества мельчайших камешков, вырывающих искры с крыш домов, с деревьев и железных столбов. У женщин потрескивают волосы, и вода походит на лаву. В воздухе нет больше испарений, все высохло, как в пустыне, откуда я явился. Комары, раздавленные жарой, издыхают. Мгновенно иссякают фонтаны, и в реке посреди города еле течет плотная кроваво-красная вода.
Я сразу везде, во всех жилищах. На стенах необычный красноватый отблеск, и по городу из конца в конец носятся песчинки. В воздухе сверкают электрические разряды, то сла– [202] бые, от которых по коже пробегают мурашки, то страшные, мощные, заставляющие людей подскакивать. Когда я прихожу, всем не до сна. Начинаются бесконечные хождения взад– вперед, оживает мысль, одно за другим рождаются слова. Люди мчатся по городским улицам, выкрикивая мое имя: « Гарматан Кругом валит песок. Он падает с красного неба, скрипя на жестяных крышах, или скользит по земле вперед, подобно морским волнам.
Город теперь высушен, он – часть пустыни. Голые стены лишены красок. Песок полирует металлы, истирает шкуры животных, заставляет течь слезы из глаз. Он просачивается в автомобильные моторы и даже внутрь человеческого тела. Он везде: в деревьях, в подземных коммуникациях, мякоти плодов, бутылках с содовой, он даже застревает в лифчиках и ложится желтыми горками на постели. Никто не в силах от меня укрыться. Я весь в красной пыли и излучаю тепло. Я обжигаю лица, обжигаю ручьи и всюду мечу свои молнии. У меня нет центра. Нет сердцевины. Я располагаюсь по всей земной поверхности и тихо напеваю свою заунывную песню. Я даже проникаю в сны и заставляю время кружиться на месте. Мое тело так велико, что никто не знает его пределов. Оно легкое и неплотное, как дым, как туман, – красная пыль, которая закрашивает все другие краски.
По равнине к северу мчатся по рельсам поезда, я обволакиваю вагоны и несусь с такой же скоростью. Я вихрем кружусь на террасах домов, спускаюсь по лестницам и через двери и окна вновь вылезаю на улицу. За какие-то мгновения я срываю с деревьев листья, которые тут же съедает красный песок. В каждой песчинке словно есть крошечное зеркальце, испускающее свет, так что земля освещена со всех сторон. Когда я прохожу, темные пещеры и гаражи озаряются таинственными розовыми отблесками, как от горящих углей.
При мне не бывает ни дня, ни ночи. Все озаряется белыми молниями, которые пронизывают небо, и каждый раз песчаные тучи, словно моргая, расступаются. Случается, что на городских улицах царит мохнатый сумрак и дома превращаются в большие фосфоресцирующие глыбы, зажженные лампы мигают, как фары, а в запертых комнатах словно раскалены жаровни. У женщин пунцовые лица, на которых блестят два светлых глаза цвета морской волны. Черные очки покрываются медной пылью. Нельзя больше судить о времени по солнцу. Десять часов, одиннадцать, три часа дня или уже близится ночь? Песок попал в стенные часы, они то [203] спешат, то отстают, и большие стрелки судорожно скачут по циферблату. Это как хмельная история без начала и конца.
Они все хмелеют, когда я здесь. Я дую, и мое дыхание вращает какие-то винтики у них в головах. Мысли сталкиваются друг с другом, дребезжат слова. Сухая жара, сопровождаемая непрерывным сиянием, вытягивает свои когтистые лапы. Люди приоткрывают рты, и вместо слов с их губ срываются тучи красного песка. На языках пыль, и все существа, деревья, даже камни испытывают страшную жажду, которую не утолить никакой водой.
Я дарю людям свой хмель, тепло пустынь, бесконечную череду дней, когда солнце разит своими лучами землю, дарю холодные ночи, когда трескаются камни, – все это вместе как бы металлическая печь; я бросаю вперед это огромное сооружение, сотворенное мною в воздухе, бросаю, как корабль, который надвигается на город. Дома, животные, люди – все в моей власти. Я посылаю волны, которые заставляют сокращаться мышцы, и, обезумев от радости, все пускаются в пляс. Ведь они обрели свободу! На них больше не давят ни небо, ни море, ни облака. Есть лишь поток жаркого воздуха, насыщенного светом и жизнью, где кружатся в вихре мельчайшие камешки. Все это искрится, течет, скользит и оседает на поверхности. Я Гарматан. Со мной никто не бывает в одиночестве. Мои проворные песчинки всюду скачут и пляшут, скатываются по животам, мешаются в пищу, через рот, нос, уши попадают внутрь. Вся планета красная. Песчаные языки пламени поднимаются к стратосфере, откуда опускаются в течение долгих месяцев. Всякая гниль рассыпается, и никакой воды не хватит, чтобы вымыться. Песок шлифует, полирует городские стены. Дышится легко, как будто с плеч свалился камень. Вдыхаешь и выдыхаешь пылающий воздух, а кровь – словно горящая лава. Глаза сверкают в глазных впадинах, как звезды, из которых улетучился газ. Всюду следы молний, электрические тропинки. На глиняных стенах домов, на бетонных крепостных стенах – шрамы. В домах как в кузнечных цехах. Люди пляшут, не сходя с места, в окружении песчинок, которые время от времени подхватывает смерч, и они исчезают в непрозрачном воздухе. Там, где некогда были стоки, образуются соляные дорожки.
Все время звучит моя песнь, звучит как улей, как непрерывная высокая нота. Это вовсе не колыбельная. Моя песнь делает людей похожими на твердый острый камень с [204] четкими очертаниями, она вытравляет фантазии и сны. Вещи возвращают себе свой истинный облик, будь то параллелепипеды зданий, хромированные металлические изделия, белое гладкое стекло, плитки, ножи, поблескивающие на свету острые лезвия. Не осталось ничего туманного, грязного, липкого. Все само по себе, все независимое, далекое и в то же время осязаемое. Постоянно во всей своей красе возникает из небытия, подобно белым остовам, истинная материя.
Может, когда-нибудь я распространюсь по всей земле. Может, когда-нибудь я займу все пространство. Может, когда-нибудь останется лишь одно существо, Гарматан, которое покроет собой все материки. Я так долго буду дуть на океаны, что они превратятся в каменные плоскогорья, я буду так долго жечь, подобно вулканам, испускающим огонь из своего жерла, что снега растают, растают паковые и арктические льды. Да, я вытяну свое невидимое тело по всей земле и выпарю из лесов всю влагу, деревья будут со свистом скручиваться, так что в конце концов останутся лишь ряды обгорелых стволов, а в небо поднимутся серые тучи. Долины завалит песок всех цветов: шафранный, розовый, зеленый, белый. Вся земля обратится в пляж. Города будут погребены под песком, сохранятся только большие белые старые раковины, ненужные железяки, каркасы домов, кости, стеклянные шарики, листы бумаги. Не будет уже ни мужчин, ни женщин, ни детей. Уцелеют лишь окруженные песками неподвижные скалы, порфирные, кальцитовые, марганцевые глыбы и застывшие в вечном ожидании розовые кварцевые вершины. Тогда я кончу дуть, кончу странствовать. Я обоснуюсь посреди каменной равнины, небо станет синим, но это будет не бледная дымчатая синева, а самая настоящая, густая, как если бы вы внезапно перенеслись на восьмитысячную высоту. И тогда на этом небосводе в первый раз появится солнце, которое уже не сойдет с места. Это солнце неподвижное, большая звезда с расходящимися во все стороны лучами, которая мечет свой свет на каждый камень, да так сильно, так долго, что отразившийся луч в целости и сохранности, не потускнев, достигает конца вселенной.
Я тот, кто взыскует правду. Хмельной от воздуха и света, я расширяю владения пустыни. Мое имя – Гарматан».
[205]
Иногда так промерзнешь, что готов запалить пожар – и не один. Мы на скалистом плато над городом. Свистя над камнями и терновыми кустами, дует сильный ветер. Кругом горы. Солнце, бледное, далекое, промытое ветром, висит не очень высоко в небе. Мы все сидим на земле, прислонившись к камням. От нечего делать кое-кто курит, а Джин Шипучка передает по кругу большую бутылку с минеральной водой. Сюда нас занесло случайно, после того как в «опеле» Камоа мы двинулись наугад по дороге. Да мае Шина завернулась в одеяло. Теклаве зевает. Мы глядим под ноги – на булыжники с острыми углами, частички красной сухой травы, низкорослые растения цвета окиси меди. Мы выпиваем немного минеральной воды, делаем пару-другую затяжек, потом просто глядим прямо перед собой. Мы на земле, на этом плоскогорье, под небом, на ветру. Говорим не бог весть что, не ждем бог весть чего. Бывают дни, когда ты словно погружаешься в зимнюю спячку, сидишь, съежившись, не думая о времени. Луиза развлекается тем, что бросает в рыхлую землю перочинный ножик. Ножик, несколько раз перевернувшись, дрожа втыкается в землю. Мы наблюдаем за ней так, словно она занята чем-то важным. Хотя кто знает, может, и в этом занятии есть какой-то смысл. Камоа передвигает веточки, укладывая их в виде креста, в виде букв X и Z, потом ломает на очень маленькие кусочки и кидает их как придется, словно бабки. Мы смотрим, как они улеглись, будто рассчитываем наконец прочитать свое будущее. Впереди столько дней, столько мест нас ждут, да и здесь, на плато, мы словно поднимаемся в кабине лифта в ожидании, когда двери откроются все равно на каком этаже. Возможно, это холод заставляет нас наблюдать за всякими пустяками.
[206]
Найя Найя встает и подходит к нам, она собирается рассказать одну историю, и мы очень рады, потому что, когда слушаешь истории, перестаешь думать о холоде, голоде, времени.
Мы рассаживаемся большим кругом на камнях. Найя Найя задумывается. Она смотрит на нас, переводя взгляд с одного на другого, ее необычные черные глаза слегка косят, а ветер сдувает на лицо ее длинные волосы.
Проходит несколько секунд, и она тоже садится, правда слегка от нас отвернувшись. Теперь она ни на кого из нас не смотрит. Попыхивая большущей сигаретой, она смотрит в сторону лысых гор. Мы немного встревожены. А если она раздумает рассказывать нам истории? Если она решила уйти отсюда, оставить нас одних блуждать по горам? Рассказчики и оракулы иногда так и делают. В один прекрасный день они отворачиваются от вас, и вот вы покинуты и не можете больше узнать свою судьбу.
– Жил-был... – начала Найя Найя.
Луиза и Лион сидят, прижавшись друг к другу. Сурсум Корда делает вид, что ему все нипочем, но, если приглядеться к нему хорошенько, сразу станет ясно, что он больше кого бы то ни было нуждается в истории.
– Жил-был один человек с очень большой черной бородой. Борода была очень красивой и очень длинной, и, чтобы ее не попортить, он все время опускал бороду в пластмассовый чехол, особенно когда шел прогуляться на улицу. Ему немного завидовали из-за красивой черной бороды. Находились даже такие злые люди, которым очень хотелось ее состричь. У них самих бородки были тощие, рыжие или желтые, и они с завистью глядели на человека, который прогуливался с такой прекрасной, такой большой и черной бородой. Некоторые говорили, что этого не может быть, что борода фальшивая, например из найлона, и он просто наклеивает ее себе на подбородок. Но говорили они так из зависти. Люди быстро начинают завидовать, и тогда они несут невесть что, лишь бы сделать вам больно.
Из-за ветра Найя Найя говорила довольно громко и, не торопясь, четко выговаривала слова; после каждой фразы она останавливалась перевести дух. Слова быстро уносит холод, и их забываешь. Но истории Найи Найи нужны не для запоминания, а для того, чтобы слышать ее голос и согреваться.
– Однажды этот славный человек решил отправиться на фабрику электронных часов. Тщательно расчесав свою боро– [207] ду, он опустил ее в пластмассовый чехол и вышел на улицу. На фабрику электронных часов он пришел уже поздно, часов в пять-шесть. Директор попивал кофе в своем отделанном под дуб кабинете.
– Восхитительно! – вставил Камоа.
– Превосходно! – поддержал его Аллигатор Баркс.
– Наш бородач постучал в дверь директора.
– Тук-тук! – сказала Джин Шипучка.
– «Войдите!» Бородач вошел. Из вежливости он вынул бороду из чехла. Директор, будь у него на голове шляпа, снял бы ее, а так, чтобы поприветствовать гостя, ему пришлось встать. Вставая, он пролил немного кофе на свой пиджак. Очень расстроенный случившимся, бородач одолжил директору платок, чтобы тот почистил пиджак.
«Чем могу быть полезен?» – спросил директор, с завистью глядя на прекрасную черную бороду посетителя.
«Я пришел просто так, посмотреть», – ответил бородач.
Директор повел его по цехам. Там были самые разные электронные часы: маленькие, такие маленькие, что нужна была лупа, чтобы увидеть, который час, и большие, квадратные, совсем плоские. Восхищаясь часами, бородач прогуливался по цехам. Самые маленькие часы делали муравьи. Они цепью передавали колесики и пружинки, так что их крошечные лапки мелькали перед глазами. Но часы были такие маленькие, что муравьям приходилось надевать очки, иначе они не видели, что делали. Разумеется, который час, определить было нельзя. Одни часы показывали без четверти шесть, другие – двенадцать, третьи – час. Бородач направился в фабричные подвалы. Там было что-то вроде манежа для улитки и трех черепах.
«Что здесь такое?» – спросил бородач.
«Здесь точное время, – объяснил директор. – Тут проверяют все часы, что там, наверху. Когда улитка проползает по листику сельдерея, включается специальное устройство, которое роняет орехи в медную кастрюлю, – так мы узнаем время. Для пущей надежности у нас тут есть водяные, солнечные и песочные часы».
Если ветер дует сильнее, мы прижимаемся друг к другу. Наверно, мы не очень-то и слушаем. Мы вообще не знаем, надо ли слушать, когда Найя Найя рассказывает. Нам нравится не сам рассказ, а звук ее голоса здесь, в горах. Так машинально мы бы снимали кожуру с апельсина или чиркали [208] что-нибудь на большом листе белой бумаги. Всегда нужно более или менее отстраняться от того, что делаешь.
Бородач долго гладил свою прекрасную черную бороду. Директор косился на него и думал: «Какая у него прекрасная борода!» Рабочие и работницы в цехах работали под началом мастера, здоровенной такой совы. В углу бородач заметил ящерицу-мухоловку и спросил, что она тут делает. Директор ответил: «Следит за песчинками. Вы ведь слышали, что песчинки могут засорять механизм? Так вот, как только на фабрику попадает песчинка, ящерица гонится за ней и проглатывает». Бородач подумал, что это, наверно, не очень хорошо для ее желудка, но вслух заметить это не отважился. Он лишь в задумчивости погладил свою бороду, и директор снова подумал: «Какая прекрасная борода!»
Найя Найя замолкла. Она опять посмотрела в сторону гор, словно следя за полетом коршуна. Тогда рассказ продолжил Аллигатор Барке:
– Директору фабрики электронных часов пришла в голову идея. Он уже давно искал хороший способ измерять время, ведь, говоря честно, улитка и черепахи, роняющие орехи, – средство не больно эффективное. Вот он и подумал, что сумеет извлечь пользу из бородача (того звали Теофрастом) и его прекрасной бороды. Директор даже сказал себе, что сможет назвать свое изобретение бородометром и, чем черт не шутит, получить медаль на предстоящей выставке Венецианской Академии. К черной бороде надо привязать груз и все вместе соединить с маленькой стрелкой, которая движется по мере роста бороды. Сказано – сделано. И вот мсье Теофраст превращен в прибор для измерения времени. «На моей фабрике это самая интересная находка», – думал директор, поглаживая свои, надо признаться, очень густые усы. Но мсье Теофраст был недоволен, потому что ему приходилось все дни проводить в кресле да еще с грузом, который оттягивал его превосходную бороду. Все же ему не было так уж плохо, ведь еды ему давали вдоволь, особенно рыбы, и он мог спокойно читать свою газету. И тут, к счастью...








