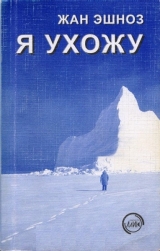
Текст книги "Я ухожу"
Автор книги: Жан Эшноз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
23
Исчезновение сокровищ явилось для Феррера тяжкой утратой. Финансирование экспедиции на Крайний Север – а он вложил в нее массу денег! – завершилось полным крахом и дефицитом средств. Как назло, в это время конъюнктура была хуже некуда, наступил мертвый сезон, в галерее ничего не продавалось, и, разумеется, именно теперь на Феррера накинулись все кому не лень – заимодавцы, чтобы напомнить о своем существовании, художники, чтобы он произвел с ними расчет, банкиры, чтобы выразить сомнения в его платежеспособности. Затем, к концу лета, как и ежегодно, Ферреру грозили потоки всяческих требований налогов, взносов и отчислений, угрозы фискальной кары, продление договора об аренде помещения, заказные письма из муниципалитета и прочее, и прочее. Феррер начинал чувствовать себя, как загнанный зверь.
Но прежде всего следовало заявить о пропаже. Обнаружив взлом, Феррер позвонил в комиссариат IX округа, и через час к нему прибыл вконец замотанный офицер уголовной полиции. Он констатировал пропажу, зарегистрировал жалобу потерпевшего и спросил название его страховой компании. «Видите ли, – ответил Феррер, – дело в том, что эти вещи не были еще застрахованы. Я как раз собирался это сделать, но…» – «Вы что, полный идиот?» – грубо прервал его полицейский, Он облил Феррера презрением, заверил, что шансы найти украденное практически равны нулю. Разъяснил, что преступлении такого рода раскрываются весьма редко, ибо контрабанда произведений искусства организована превосходно, – поиски могут длиться годами. Конечно, полиция сделает все от нее зависящее, но надежды на успех почти нет. «Я пришлю вам кого-нибудь из сыщиков, – закончил полицейский, – может, он и найдет какие ни на есть следы. А вы пока ничего здесь не трогайте».
Сыщик явился спустя несколько часов. Он представился не сразу, а сперва побродил по галерее, изучая экспонаты. Это был маленький близорукий человечек с белокурыми, тонкими, как пух, волосами и не сходящей с лица улыбкой; он словно бы и не торопился приступить к работе. Феррер принял было его за потенциального покупателя и подошел с вопросом: «Месье интересуется современным искусством?» В ответ тот предъявил ему свое удостоверение – офицер уголовной полиции Поль Сюпен. «Наверное, интересная у вас работа», – заметил Феррер. «Да ведь я, знаете ли, всего лишь лабораторная крыса, – ответил тот. – Сижу за микроскопом, а вокруг ничего не вижу. Но, в общем-то, вы правы, все это очень интересно». Войдя в «ателье», он открыл чемоданчик, где лежал классический набор сыщика – фотоаппарат, склянки с прозрачными растворами, порошки и кисточки, резиновые перчатки. Феррер наблюдал за ним до конца процедуры. Он был совершенно убит, ему необходимо было встряхнуться и прийти в себя, а жара все набирала обороты.
Лето тянулось нескончаемо долго, как будто зной сделал время резиновым; казалось, раскаленные молекулы воздуха, трущиеся друг о дружку, тормозят его ход. Большинство активного населения столицы разъехалось в отпуска. Париж опустел, и в нем стало легче передвигаться, но зато труднее дышать: застывшая атмосфера была насыщена токсичными газами, как бар перед закрытием – табачным дымом. Городские власти пользовались запустением, чтобы ремонтировать дороги, и всюду, куда ни глянь, рычали отбойные молотки, вертелись бетономешалки, двигались катки, дымились на солнце пирамиды свежего асфальта. Феррер не обращал на это ни малейшего внимания – у него хватало других забот, он колесил по Парижу на такси от банка к банку, пытаясь – впрочем, без особого успеха – занять денег и уже подумывая, не заложить ли ему галерею. Вот в таком-то состоянии он и прибыл однажды к одиннадцати часам утра в сумасшедшую жару, на улицу 4-го Сентября.
Улица 4-го Сентября очень широка, очень коротка и откровенно пахнет деньгами. Она застроена однотипными домами эпохи Наполеона III, где размещаются банки, международные и национальные, а также страховые компании, посреднические и адвокатские конторы, службы временной занятости, редакции финансовых журналов, бюро обмена валюты, кабинеты экспертов, агентов по торговле недвижимостью и жилищных синдикатов, лавки нумизматов и жалкие остатки «Лионского кредита». Единственное кафе на углу носит название «Аджио». Здесь разместились также польская авиакомпания, ксерокс, турагентства, салоны красоты, чемпион мира по стрижке и мемориальная доска некоего бойца Сопротивления, погибшего за Францию в возрасте девятнадцати лет («Вспомните!»)
Кроме всего прочего, на улице 4-го Сентября имеются тысячи квадратных метров офисов – уже отремонтированных и сдающихся или еще недостроенных. Здесь под пристальным оком электронного наблюдения потрошат старинные дома, сохраняя их фасады, колонны, кариатиды и лепные головы над подъездами; внутренность же переоборудуют в соответствии с требованиями современных рабочих помещений – просторных, с большими окнами двойного остекления, с хорошим обзором – дабы они способствовали дальнейшему накоплению капиталов; как и повсюду летом в Париже, здесь суетятся строители в касках – изучают чертежи, жуют бутерброды, переговариваются по рации.
Это был уже шестой банк, который Феррер посетил за последние два дня, чтобы сделать заем, и опять он вышел с пустыми руками, с влажными руками, оставлявшими темные отпечатки на документах, коими он запасся для своего дела. Но дело не выгорело; лифт привез Феррера на первый этаж и выпустил в огромный пустой холл, обставленный диванчиками и низкими столиками. Пересекая это безлюдное пространство, Феррер почувствовал, что у него нет ни желания, ни сил идти домой, во всяком случае, сразу же, и решил присесть на диванчик, чтобы передохнуть. Устал ли он вконец, потерял ли надежду, отчаялся ли? И в чем это выражается физически? Ну, например, в том, что он не снимает пиджак, хотя стоит адская жара; в том, что он пристально разглядывает пыль на своем рукаве, не делая ни малейшей попытки стряхнуть ее; что не отводит прядь волос, упавшую ему на глаза, но, главное, абсолютно не реагирует на женщину, проходящую в эту минуту через холл.
А принимая во внимание внешность женщины, это более чем странно. По логике вещей, Феррер, каким мы его знаем, просто не мог не выказать к ней интереса. Это была высокая стройная молодая особа, сложенная, как античная статуя, с изящно очерченным ртом, светло-зелеными миндалевидными глазами и медно-рыжими вьющимися волосами. Она носила туфли на высоких каблуках и черный ансамбль свободного покроя, низко вырезанный на спине, с блестящими галунами на плечах и бедрах.
Когда она проходила мимо Феррера, любой другой мужчина (да и сам он в нормальном состоянии) счел бы этот наряд годным лишь на то, чтобы немедленно совлечь его с красавицы – да что там «совлечь», просто сорвать! А голубая папка, которую она держала подмышкой, и авторучка, задумчиво прижатая к губкам, казались всего лишь мелкими аксессуарами, чистой проформой: дама выглядела героиней крутого эротического фильма во время пролога, где актеры мелют всякую чепуху, пока не дошло до дела и атмосфера не накалилась. Однако удивляло другое: она была совершенно не накрашена. Феррер как раз успел констатировать эту деталь – чисто машинально, придав ей не больше значения, чем убранству холла, и вдруг его охватила такая дикая слабость, словно его разом и напрочь лишили воздуха.
Ему почудилось, будто на его голову, плечи и грудь внезапно обрушился груз в полтонны весом. Он ощутил во рту едкий металлический вкус сухой пыли и, судорожно захлебнувшись ею, начал чихать, икать, давиться рвотой. Тщетно пытался он двинуться, крикнуть, сделать хоть что-нибудь: руки его как будто были скованы невидимыми наручниками, горло – удушьем, а рассудок – ужасом неминуемой близкой смерти. Потом острая боль пронзила ему грудь, все тело, от ключиц до паха, от пупка до плеч, особенно безжалостно впившись в руку и ногу слева, и он увидел, что падает с диванчика, а пол несется ему навстречу – очень быстро и в то же время невыносимо медленно, как бывает в страшном сне. Он рухнул наземь, чувствуя, что не в силах шевельнуться; потеряв равновесие, он через миг потерял и сознание, неизвестно, надолго ли, но совершенно точно после того, как вспомнил о предупреждении Фельдмана насчет воздействия крайних температур на коронарные сосуды.
Впрочем, он довольно быстро пришел в себя, хотя и не мог еще произнести ни слова; забытье напоминало не черный экран выключенного телевизора, нет, – скорее сознание его действовало на манер камеры, выпавшей из рук убитого оператора: она продолжает снимать то, что находится перед ее объективом – угол комнаты, паркет, отставший плинтус, часть батареи, засохшую каплю клея на ковре. Он решил приподняться, но тут же тяжело рухнул обратно на пол. Вероятно, кроме дамы в черном, к нему сбежались еще какие-то люди, так как он смутно сознавал, что над ним склонились, что с него стаскивают пиджак, переворачивают на спину, ищут ближайший телефон, а вскоре подоспела и Служба спасения.
Красивые молодые люди, мускулистые, невозмутимые и внушающие полное доверие, были одеты в зеленовато-голубую форму с кожаными прибамбасами и альпинистскими карабинами на поясах. Они бережно уложили Феррера на носилки и точными движениями вдвинули носилки в фургон, на котором приехали. Теперь Феррер чувствовал себя в безопасности. Он еще не уразумел, что все это весьма напоминает февральское происшествие, только в худшем варианте, и собрался было заговорить, но ему вежливенько приказали помалкивать до самой больницы. Что он и сделал. А затем опять провалился в беспамятство.
24
Когда Феррер вновь открыл глаза, то увидел вокруг себя сплошную белизну, как в добрые старые времена своей северной экспедиции. Он покоился на одноместной регулируемой кровати с жестким матрасом, туго запеленутый в простыни и совершенно один в маленькой комнатке; единственным цветовым пятном среди всей этой белизны была отдаленная изумрудная крона дерева, чей абрис четко вырисовывался на небе в квадратной оконной раме. Все же остальное – простыни, покрывало, стены комнаты и небо – было одинаково белым. Отдаленное дерево – дерзкая зеленая нота в этом белом безмолвии – могло быть одним из тридцати пяти тысяч платанов, семи тысяч лип или тринадцати тысяч пятисот каштанов, произрастающих в городе Париже. Впрочем, оно с тем же успехом могло относиться и к тем неприкаянным представителям растительного мира, которые встречаются на последних городских пустырях и зовутся незнамо как, да и вообще сомнительно, есть ли у них имя, – может, это просто гигантские сорняки-мутанты. Хотя дерево находилось явно далеко, Феррер все же попытался определить его породу, но даже это легкое усилие привело его в изнеможение, и он закрыл глаза.
Когда он снова открыл их – не то пять минут спустя, не то на следующий день, – декорации были прежними, но на сей раз Феррер поостерегся изучать древесные породы. Трудно сказать, вынуждал ли он себя ни о чем не думать или просто был не в состоянии заниматься мыслительной деятельностью. Но он тут же ощутил, а потом и смутно различил некое маленькое чужеродное тело, прицепленное к его носу и заставлявшее его слегка косить; он решил потрогать и изучить этот предмет, однако правая рука не слушалась. Присмотревшись, он выяснил, что эта самая рука привязана к кровати и в нее воткнута толстенная игла для переливания крови, закрепленная на коже широким прозрачным пластырем. Теперь Феррер начал понимать, что происходит, и лишь для проформы ощупал левой рукой проводок, воткнутый ему в ноздри: это был кислородный аппарат. В тот же миг открылась дверь, пропустив в палату молодую женщину – также в белом, зато чернокожую; взглянув на Феррера, она вышла и обратилась к кому-то в коридоре – вероятно, к санитарке, – с просьбой сообщить доктору Саррадону, что номер 43 проснулся.
Оставшись в одиночестве, Феррер возобновил свои робкие попытки идентифицировать дерево вдали, но снова не добился успеха, хотя и не заснул после: а это тоже успех. Тем не менее, он крайне осторожно, лишь чуточку повернув голову, оглядел все, что стояло у его изголовья, а стояли там всевозможные аппараты на жидких кристаллах, экраны и счетчики, фиксирующие работу его сердца: дрожащие, непрерывно меняющиеся цифры, бегущие слева направо синусоиды, и одинаковые и изменчивые, как морские волны. Там же стоял телефон и висела кислородная маска. Феррер осмотрел все это и окончательно смирился со своим несчастьем. За окном день клонился к вечеру, преображая белизну палаты в песочно-серую хмарь, а зелень дальнего дерева сперва в цвет старой бронзы, а затем в цвет старого вагона. Наконец дверь отворилась, и вошел доктор Саррадон собственной персоной, носивший черную, чрезвычайно густую бороду, бутылочно-зеленый халат и до смешного маленькую шапочку того же оттенка: таким образом, зеленый цвет сохранил свои позиции.
Занимаясь осмотром пациента, Саррадон сообщил, что после того как больного срочно доставили в больницу, ему пришлось сделать множественное шунтирование под наркозом; операция прошла великолепно. И в самом деле: когда сестра откинула простыни и начала менять ему повязки, Феррер обнаружил длиннющие швы вдоль левой руки и левой ноги, а также посреди грудной клетки. Швы были красивые – первоклассная работа! Они напоминали тонкую оборочку английского кружева времен Ренессанса, или шов на женском чулке – с изнанки, или строчку, написанную мелким ровным почерком.
– Порядок! – констатировал врач, кончив осмотр. – Заживает неплохо, – добавил он, просматривая температурные листки, висевшие в ногах кровати, пока сестра облачала Феррера в пижаму, воняющую жавелевой водой. По словам Саррадона, ему придется еще два-три денька провести в отделении интенсивной терапии, после чего он будет переведен в обычную палату. Откуда сможет выйти через пару недель. Посещения разрешены. Тем временем за окном стемнело.
На следующее утро Феррер и в самом деле почувствовал себя немного лучше и начал раздумывать, кому бы из знакомых сообщить о своем положении. Он сразу же отмел кандидатуру Сюзанны, которая уже полгода не давала о себе знать и вполне могла не откликнуться на его призыв. Предпочел также не беспокоить родных: они давно уже превратились в разрозненный отдаленный архипелаг, мало-помалу затопляемый волнами жизни. По правде говоря, больше у него особенно никого и не было; Феррер решил, что нужно хотя бы позвонить днем в галерею. Правда, Элизабет уже привыкла к его неожиданным кратким отлучкам и теперь сама отпирала галерею и улаживала текущие дела, но ей все же не мешало бы знать, где он находится. Впрочем, это не к спеху. И вообще следовало бы закрыть галерею до его выздоровления – все равно мертвый сезон. Да, завтра он скажет ей об этом. Феррер уже собрался было соснуть, как вдруг сестра неожиданно объявила, что к нему пришли. Феррер машинально попробовал привстать на своем ложе, но убедился, что не способен на это, слишком слаб.
И тут вошла молодая женщина, узнать которую ему было тем более трудно, что со времени их первой встречи на улице 4-го Сентября она успела переодеться и теперь носила топик в желто-голубую полоску и юбку более интенсивного голубого цвета, с разрезом чуть ли не до талии. А еще – туфли на плоской подошве. Одна из бретелек топика упрямо норовила соскользнуть вниз. Однако женщина была все так же мало накрашена. После нескольких секунд неловкости Феррер наконец признал ее. Он чувствовал себя крайне непрезентабельным в больничной пижаме и машинальным жестом попытался хотя бы пригладить волосы, местами склеенные липким раствором во время энцефалографии, сделанной, видимо, после его доставки в больницу.
Несмотря на падающую бретельку, высокий разрез юбки и общий вид молодой женщины, явно способный вызвать определенного рода интерес, Феррер сразу же инстинктивно почувствовал, что между ними ничего не будет. И так же, как он созерцал, едва поднимая веки и борясь со слабостью, медсестер, чисто теоретически размышляя, есть ли под их халатами еще что-нибудь текстильное, так и эта посетительница волновала его не больше, чем, скажем, монахиня-визитандинка; кстати, в этом отсутствии макияжа и впрямь было что-то монашеское. А может, он невольно осознал, что она слишком хороша для него, такое тоже бывало, но нет, скорее всего, просто она не в его вкусе.
Незнакомка объявила, что посидит пять-десять минут, не более, что она всего лишь хотела узнать, как он себя чувствует, а адрес узнала от парней из Службы спасения. «Ну вот, мои дела, как видите, неплохи», – ответил Феррер с бледной улыбкой, за неимением лучшего вяло указывая на капельницу и кислородную маску. Затем они побеседовали о разных пустяках; женщина явно была несловоохотлива и все жалась к двери, словно каждую минуту собиралась выйти. Перед уходом она спросила, не желает ли он, чтобы она навестила его еще раз. Он согласился, но крайне неохотно; он не понимал, что ей нужно, этой девице, зачем она утруждает себя визитами к нему.
Все три дня, что Феррер проведет в отделении интенсивной терапии, молодая женщина будет навещать его, всегда днем, в одно и то же время, проводя в палате не более четверти часа. В первый день она расположится в массивном потертом кресле из пластика, которое придвинет к постели. Затем, встав, она задержится еще на минутку у окна, теперь открытого и по-прежнему обрамляющего далекое дерево, откуда вдруг звонко щебетнет птица, взбудоражив изумрудную листву. На второй и третий дни женщина сядет в ногах кровати, и впрямь слишком туго заправленной; все время, что она просидит там, Феррер не посмеет шевельнуться и будет лежать недвижно, боязливо поджав пальцы ног под жесткой, как брезент, простыней.
Но на третий день, перед тем как посетительница уйдет, он все-таки спросит ее имя. Элен. Ага, Элен, ну хорошо. Совсем неплохое имя. Чем же она занимается в жизни? И женщина слегка запнется перед тем как ответить.
25
Тем временем Баумгартнер пытается запарковать свою машину перед большим отелем на берегу моря, в местечке под названием Мимизан-Пляж, на северо-западе Атлантических Пиренеев, на границе территории, которую он за последние недели исколесил вдоль и поперек. Отель не очень-то шикарный, но в разгар сезона трудновато найти что-нибудь приличное, – даже и эта гостиница уже полна под завязку, и его просторная стоянка пестрит иностранными номерами; Баумгартнер хвалит себя за то, что догадался забронировать номер.
Итак, он медленно едет по дорожкам стоянки, то и дело встречая пары и целые семьи в коротких пестрых одежках, спешащие к морю. Солнце нещадно палит прямой наводкой, асфальт плавится под ногами, и дети, идущие босиком, подпрыгивают и визжат. Свободных мест на стоянке нет, ни одна машина не отъезжает и еще долго не отъедет, Баумгартнер мог бы и занервничать, но он никуда не спешит, напротив, – поиски парковки разрешают ему убить время. При этом он старательно избегает мест с пиктограммами, изображающими инвалидное кресло. Не то чтобы Баумгартнер был так уж привержен гражданскому долгу или питал сочувствие к инвалидам, нет; скорее им движет инстинктивный страх каким-то образом заразиться от них этим несчастьем и самому оказаться в положении калеки.
Пристроив наконец свой «фиат», Баумгартнер вытаскивает из багажника чемодан и направляется к гостинице. Ее фасад, вероятно, только что перекрасили: кое-где по углам еще видны свежие подтеки, а в холле царит острый крепкий запах известки – так пахнет свернувшееся молоко. Да и вокруг здания можно увидеть следы недавней стройки – грязная целлофановая пленка в контейнерах, стоящих по углам автостоянки, доски с кляксами цемента и прочий мусор. Портье, которого словно тоже затронул ремонт, украсив его лоб созвездием красных пятен, лихорадочно скребет правое плечо, отыскивая в книге бронь Баумгартнера.
Номер темноват и неуютен, мебель – шаткая и колченогая – выглядит ненастоящей, как театральный реквизит, продавленная кровать напоминает гамак, а занавеси не совпадают по размеру с окнами. Над диванчиком, жестким даже на вид, красуется мерзкая литография с изображением нескольких цинний, но Баумгартнера все это не интересует: он идет прямо к телефону, бросая свой багаж на ходу, как попало, снимает трубку и набирает номер. Вероятно, линия занята, ибо он с недовольной гримасой вешает трубку, скидывает пиджак и бродит вокруг чемодана, не открывая его.
Через несколько минут он идет в ванную, чтобы помыть руки; любое прикосновение к кранам вызывает громоподобную пляску Святого Витта всей водопроводной системы отеля. На обратном пути Баумгартнер скользит и оступается на мокром кафеле. В номере он первым делом раздвигает портьеры и, выглянув наружу, констатирует, что окно выходит в нечто вроде колодца, душного и темного колодца, смехотворно узкого и, вдобавок, закупоренного сверху грязным стеклом. Это уж слишком; Баумгартнер, снова успевший вспотеть, берется за телефон, звонит портье и требует другую комнату. Портье, все еще продолжая чесаться, указывает ему единственный свободный номер этажом выше, однако никто из обленившегося персонала гостиницы и не думает заниматься багажом клиента, и ему приходится самому тащить свой чемодан по лестнице на новое место жительства.
Этажом выше сцена повторяется один к одному: Баумгартнер вновь пытается дозвониться, но линия по-прежнему занята. Он опять готов занервничать, но вовремя успокаивается, открывает чемодан и раскладывает свои пожитки в темном шкафу и еловом комодике. Затем осматривает новую комнату, в точности повторяющую убранство прежней, разве что циннии на литографии сменились крокусами. Зато окно теперь выходит на угол автостоянки, так что в номер кое-как проникает солнце; вдобавок, Баумгартнер сможет теперь наблюдать за своей машиной.








