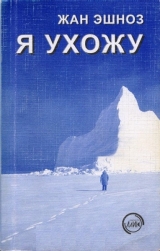
Текст книги "Я ухожу"
Автор книги: Жан Эшноз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
29
В продолжение тех же двух недель Элен заходила, притом довольно часто, раз в два-три дня, в галерею Феррера. Она являлась сюда, как и в больницу, то утром, то днем, не задерживаясь больше, чем на час, и Феррер, как в больнице, встречал ее вежливо, но сдержанно, с отменной учтивостью и старательными улыбками, словно имел дело с нервной обидчивой родственницей.
Даже его длинный рассказ о недавних бедах не помог их сближению. Элен выслушала его более чем спокойно: ни восторгов перед северными подвигами Феррера, ни сочувствия (или хотя бы насмешки) по поводу грустного финала этой эпопеи. Она не повторила своего предложения помогать Ферреру в галерее, но явно не из-за его нынешней бедности. В общем, их отношения развивались довольно-таки туго; им постоянно приходилось искать темы для беседы, не всегда находя их и то и дело впадая в длительное молчание. Не думайте, что молчание так уж тягостно, – иногда оно бывает вполне приятным. Сопровождаемое нужным взглядом или улыбкой, оно может дать прекрасные и самые неожиданные результаты – пробудить бурные чувства, обещать зыбкие, но светлые перспективы, подарить изысканнейшие нюансы отношений, сподвигнуть на решительные действия. Увы! – это был не тот случай: данное молчание выливалось в неловкие, вязкие, натужные паузы, тяжелые, как глина, липнущая к подметкам. Словом, истинное мучение. Элен стала наведываться в галерею все реже и реже; затем ее визиты почти прекратились.
Вначале Феррер, конечно же, радовался отсутствию Элен и, конечно же, довольно скоро начал им тяготиться, чего никак не ожидал от себя; он с удивлением обнаружил, что скучает по ней, и частенько – якобы невзначай – выглядывал на улицу: ведь она не оставила ни своего адреса, ни телефона, по той простой причине, что он, дурак, не догадался попросить ее об этом. И вот уже наступает утро понедельника, а понедельник, как известно, день тяжелый: сорванные сделки, хмурая погода, мутный воздух и грязные тротуары, словом, все не ладится, и податься некуда, и на душе гнусно, как в воскресенье, у которого есть хотя бы то оправдание, что это выходной. Разрозненные стайки пешеходов, торопившихся к единственному дежурному универсаму, перебегали улицу в самых неподходящих местах, и настроение у Феррера было такое же мерзопакостное, как тошнючий цвет вывески универсама или подъемных кранов на соседней стройке. Поэтому он весьма круто обошелся со Спонтини, который явился в одиннадцать утра, дабы возобновить торговлю по поводу процентов.
Едва тот успел заговорить, как Феррер прервал его: «Послушай, раз так, я буду откровенен. Ты совершенно обленился и топчешься на месте, вот так-то. Между нами говоря, все, что ты делаешь в последнее время, мне совершенно не интересно». – «Что это значит?» – обеспокоился Спонтини. «Это значит, что ты существуешь отнюдь не потому, что тебе удалось загнать свои творения двум центрам искусств и трем любителям, – отвечал Феррер. – Это значит, что для меня ты – ноль без палочки. Вот когда у тебя появятся регулярные покупатели за границей, можно будет говорить о том, что карьера твоя состоялась. И еще это значит, что если ты не доволен, то можешь закрыть дверь с той стороны».
Выходя из упомянутой двери, Спонтини столкнулся на пороге с каким-то субъектом лет тридцати, в джинсах и куртке, то есть в костюме, который художники в наши дни не носят, а коллекционеры – тем более; скорее он походил на молодого офицера полиции и, кстати, таковым и являлся. «Надеюсь, вы меня помните, – сказал Сюпен. – Я из уголовной полиции. Пришел по поводу вашего заявления».
Если не входить в технические подробности, ситуация, по словам Сюпена, сводилась к двум новостям – хорошей и плохой. «Я начну с плохой, – сказал Сюпен. – Электронные исследования отпечатков, взятых в галерее, ничего интересного не дали». Хорошая же новость состояла в том, что полиция случайно обнаружила труп, видимо, сначала замороженный, а потом размороженный и неважно сохранившийся, и нашла у него в карманах, помимо бумажных платков, использованных, скомканных и засохших, как ненужный обмылок, клочок бумаги с номером машины. Исследовав этот номер, полиция заключила, что «фиат», которому он принадлежит, имеет некоторое отношение к грабежу у Феррера. Машину разыскивают. Такова нынешняя ситуация.
У Феррера мгновенно улучшилось настроение. Вдобавок, к концу дня, перед самым закрытием галереи, к нему пришел молодой скульптор по имени Корде. Он представил Ферреру планы, наброски, макеты и смету по изготовлению своих скульптур. К несчастью, для этого ему не хватало самой малости – денег. «Да это прекрасно! – воскликнул Феррер. – Просто прекрасно! Мне очень нравится. Давайте-ка устроим вам выставку». – «Не может быть!» – изумился тот. «Ну да, выставку, почему бы и нет! А если все сойдет удачно, то и вторую». – «Значит, можно подписывать контракт?» – разбежался было Корде. «Спокойно, спокойно, – осадил его Феррер. – Контракты так просто не подписываются. Зайдите-ка послезавтра».
30
Как известно, Шенгенские соглашения, вошедшие в силу в 1995 году, установили возможность свободного пересечения границ для граждан стран – участниц договора. Отмена контроля внутри Шенгенского пространства и введение усиленных проверок на внешних его рубежах позволили богачам со всеми удобствами ездить к другим богачам и одновременно стали барьером для простых людей, уподобив их нищим эмигрантам, отчего они пуще прежнего осознали свое бедственное положение. Разумеется, никто не отменял таможенный досмотр, который возбраняет какому-нибудь чужаку безнаказанно ввозить и вывозить все, что угодно, однако и эти могут теперь ездить туда-сюда, не дожидаясь часами на границе отказа в штампе. Именно к такому переезду и готовится нынче Баумгартнер.
Он досконально обследовал юго-запад Франции, со всеми его экомузеями, достопримечательностями, панорамами, обзорами, и этот сектор страны, расположенный в левом нижнем уголке карты, больше не представлял для него никакой тайны. Последнее время он держался как можно ближе к южной границе, не удаляясь от нее более чем на час езды, словно нелегальный пассажир на борту дырявого пакетбота, предусмотрительно скрывающийся возле спасательной шлюпки или пожарного шланга.
Теперь Баумгартнер уже не сомневался, что пора уносить ноги: достаточно было того, что последние три дня ему ежедневно мозолил глаза один и тот же мотоциклист в красном комбинезоне и красном же шлеме. Впервые он приметил этого типа издали, в зеркальце заднего вида, на департаментском шоссе, вьющемся среди гор; мотоциклист то исчезал, то вновь появлялся из-за очередного крутого поворота. Второй раз он засек его у пункта дорожной платы, рядом с двумя полицейскими в черном, на мотоциклах; похоже, это был тот самый, он стоял, опершись на свою машину, и жевал бутерброд, не снимая шлема, что как будто не мешало активной работе его челюстей. Третий раз Баумгартнер столкнулся с ним на национальном шоссе, возле телефонной будки Службы спасения: похоже, у него забарахлил мотоцикл. Проезжая мимо, Баумгартнер постарался как можно сильнее обдать его грязью из ближайшей глубокой лужи и злорадно захихикал, когда тот вздрогнул под фонтаном мутной воды. Правда, он с некоторым разочарованием отметил, что мотоциклист не погрозил ему вслед кулаком.
Впрочем, красный мотоциклист внес хоть какое-то разнообразие в скитальческую безотрадную жизнь под покровом молчания и тайны, которую Баумгартнер вел в эти недели. Присутствие чужака и внушаемая им тревога слегка рассеяли гнет уединения и мертвую тишь гостиничных номеров, где каждый жест отдавался гулким эхом. Единственной связью Баумгартнера с внешним миром, утешавшей его в одиночестве, были ежедневные телефонные звонки в Париж; именно в последней такой беседе он и сообщил о своем отъезде в Испанию. «Осень уже на носу, – сказал он, – и вечера стали холодноваты. Дожди льют, не переставая. Там мне будет лучше».
Оттуда, где он находится, то есть, из Сен-Жан-де-Люз, в Испанию можно проехать двумя путями. Либо по шоссе номер 63, где граница состоит из арок и колонн, выстроенных в ряд и завешанных всевозможными панно и эмблемами, где пожелтевший дорожный пунктир, наложенный некогда термическим способом, давно и безнадежно облупился, где все окошечки закрыты за ненадобностью, а шлагбаумы, наоборот, подняты днем и ночью, где трое сонных пограничников в выцветших мундирах стоят спиной к движению, сами не зная, что им тут делать. Либо по национальному шоссе номер 10 – именно его-то Баумгартнер и выбирает.
Шоссе номер 10 ведет к Бехобии, граница там проложена по мосту через реку Бидассоа. Огромные грузовики стоят перед последним французским домом, где размещается банк, а таможня нынче представляет собою разоренный и заброшенный каземат с уныло обвисшими шторами на окнах. Жалкие остатки грязных стекол кое-как скрывают внутреннее запустение; впрочем, скоро барак снесут: мадридские власти наконец вняли жалобам местной коммуны на катастрофическое состояние пограничного пункта, и экскаваторы, можно сказать, уже роют землю копытом в ожидании постановления об имущественном и экокомическом упадке данного района и приказа разнести все это к чертовой матери.
Но уже и сейчас местность выглядит, как после взрыва. Большинство домов с осевшими стенами утонули в сорняках; трава и деревья растут даже на проваленных крышах. В недостроенных домах окна завешены тряпьем или черноватой пленкой. Здесь пахнет гнилью и стройкой, а небо окрашено в тона ржавчины или экскрементов, хотя его трудно даже разглядеть из-за сплошной стены дождя. Несколько местных заводиков, размалеванных лозунгами, окруженных мусорными кучами и пустыми строительными лесами, выглядят запущенными еще издали. Автомобили на другом берегу реки, брошенные как попало, ждут своих водителей, сошедших, чтобы купить беспошлинные выпивку и курево. Но стоит выехать на шоссе, как оно начинает мельтешить красными огнями, и транспортный поток то и дело захлебывается в пробках, выплевывая машины судорожно, мизерными порциями, как чахоточный больной остатки легких.
Баумгартнер следует общему примеру: выходит из машины и, натянув на голову воротник пальто, бежит к лавкам с дешевым товаром. В одной из них продаются черные нейлоновые дождевые шляпы, подбитые шотландкой; это очень кстати, и Баумгартнер начинает их мерить одну за другой. Пятьдесят восьмой размер ему мал, шестидесятый слишком велик, а потому он без колебаний берет пятьдесят девятый, который, по логике вещей, должен быть впору, но который после примерки перед зеркальцем в машине оказывается совершенно не впору, однако делать нечего, и «фиат» беспрепятственно пересекает границу. Баумгартнер облегченно вздыхает.
Хорошо известно, что после перехода границы человеческое тело совершенно преображается: взгляд теряет остроту и напряженность, дыхание становится легче, звуки слышатся отчетливее, ароматы ощущаются интенсивнее, даже солнце и то глядит иначе. Исподволь подточенные ржавчиной дорожные указатели сообщают непривычные данные о виражах, уменьшении скорости или неровностях шоссе; некоторые из надписей труднопонятны, и Баумгартнер чувствует, как превращается в кого-то другого, вернее, и остается прежним и становится иным, как будто в старое тело перелили новую кровь. Вдобавок, с момента пересечения границы подул легкий бриз, какой не водится во Франции.
В трех километрах от разоренного пограничного пункта он оказывается в новой пробке. Левую сторону шоссе перегородил фургон с надписью ПОЛИЦИЯ, люди в черных мундирах фильтруют поток машин, а дальше, через каждые пятьдесят метров, стоят другие, в камуфляже, с автоматами на груди, не сводя глаз с дороги. Баумгартнера пропускают, однако еще через три километра, когда он едет с умеренной скоростью, его перегоняет фургон «рено» цвета, морской воды. Но вместо того чтобы оторваться от «фиата», фургон катит рядом с ним, потом из-за опущенного стекла показывается рука в рукаве того же синеватого цвета, заканчивающаяся длинной бледной кистью с тонкими пальцами, которая медленно колышется сверху вниз и слева направо, словно дирижируя, а на самом деле указывая на обочину, куда Баумгартнер спокойно, но решительно вынужден свернуть.
Выполняя сей цивилизованный маневр и стараясь при этом не вспотеть от страха, Баумгартнер включает знак поворота, мягко тормозит и останавливается. Фургон проезжает еще метров десять, и из него выходят двое. Это испанские таможенники, улыбающиеся, тщательно выбритые, идеально – словно только что из парикмахерской – причесанные, в отглаженных мундирах; они приближаются к Баумгартнеру танцующим шагом, на их устах еще не отзвучала песенка. Один говорит по-французски почти без акцента, второй молчит. «Передвижная таможня, месье, – говорит тот, который говорит. – Небольшая формальность; будьте любезны предъявить документы, ваши и на машину, и откройте, пожалуйста, багажник».
Не прошло и минуты, как содержимое багажника уже изучено тем, который молчит; сумка, одежда и туалетные принадлежности не вызывают у него интереса. Тот, который молчит, чрезвычайно бережно закрывает багажник; тем временем второй, держа в руке удостоверение личности Баумгартнера, скользит балетным шагом к фургону, откуда возвращается три минуты спустя, несомненно после того, как соединился по телефону с терминалом. «Все в порядке, месье, – говорит он, – примите наши извинения и искреннюю благодарность за содействие, которое делает нам честь и еще сильнее укрепляет нашу безграничную уверенность в пользе и разумности миссии, к счастью, доверенной нам, миссии, коей мы готовы посвятить всю свою жизнь безраздельно, без оглядки даже на семенные обязанности и прочие препятствия („Да“, – вставляет Баумгартнер), чья важность и каждодневные тяготы еще больше воодушевляют, способствуя рождению энтузиазма, ведущего нас на борьбу с язвой, зовущейся нарушением принципов таможенного досмотра („О, да“, – вставляет Баумгартнер), но которая одновременно разрешает мне пожелать вам, кроме здоровья и благоденствия, от имени моего народа в целом и таможенной службы в частности, счастливого пути». «Спасибо, спасибо», – бормочет ошарашенный Баумгартнер, дает с перепугу задний ход, тормозит и наконец отъезжает.
Итак, он едет дальше, и осень в самом деле уже настигла его, и настигла всерьез, – в этом легко убедиться, взглянув на небо, где параллельно национальному шоссе летит журавлиная стая. Да, журавли мигрируют, это их время года для традиционного перелета по маршруту Потсдам-Нуакшот, через Гибралтар, почти беспосадочного и часто совпадающего с направлением шоссе на земле. Они остановятся в пути лишь единожды, практически в середине маршрута, на бесконечной прямой дороге из Альхесираса в Малагу, уставленной пилонами, на чьих верхушках какой-то мудрый местный начальник позаботился устроить большие, в размер журавлей, гнезда. Они немного передохнут там, покричат своими тоскующими голосами, перекусят местными крысами и гадюками, а может быть – кто знает! – и какой-нибудь падалью, а тем временем двое красавчиков-таможенников в своем фургоне, переглядываясь, прыскают со смеху. «Me parece, tio, – говорит тот, кто говорит, тому, кто молчит, – que hemos dado tiem-po al Tiempo [8]8
Друг, мне кажется, мы задали темп Времени (исп.)
[Закрыть]». И оба корчатся от смеха, а бриз все свежеет и свежеет.
Спустя минут двадцать, незадолго до полудня, Баумгартнер въезжает в курортный городок. Он ставит «фиат» в центре, на подземной стоянке, снимает номер в отеле «Лондон и Англия», на берегу бухты, и выходит прогуляться – так, ненадолго, без определенной цели – по широким светлым улицам центрального квартала, изобилующего магазинами одежды, шикарной и не очень. Он владеет испанским вполне достаточно, чтобы примерить брюки в магазинчике, но недостаточно, чтобы объяснить, почему они ему не нравятся. Затем он идет в старый город, чьи улицы кишат невероятным количеством баров. Войдя в один из них, Баумгартнер указывает на разные выставленные в витрине закуски – вареные, жареные, с соусом – и быстро съедает их прямо у стойки, не садясь, после чего возвращается в отель приморским бульваром.
Две недели спустя становится чрезвычайно холодно для начала октября. Отдыхающие гуляют на приморском бульваре в куртках и пальто, мехах и шарфах; детские коляски, которые матери везут на курьерской скорости, набиты перинками и одеяльцами. Из окна своего номера в «Лондоне и Англии» Баумгартнер замечает женщину роскошного тюленьего сложения, облаченную в черный сплошной купальник и входящую в океанские волны, один цвет которых – серовато-зеленый – вызывает дрожь и озноб. Дама-тюлениха стоит у берега в гордом одиночестве, под мрачным свинцовым небом, не сулящим ничего хорошего; люди на бульваре останавливаются и глазеют на нее. Она входит в ледяную воду сперва до лодыжек, потом до колен, потом до живота и, наконец, до талии; на этом этапе купальщица осеняет себя крестом и, вытянув руки вперед, пускается вплавь; Баумгартнер завидует ей. «Что в ней есть такого, чего не хватает мне? Может быть, умение плавать? Я вот не умею. Креститься умею, а плавать – нет».
31
«Ну что, подписываем контракт?» – лихорадочно вопрошает Корде на следующее утро. «Контракт… контракт… – мнется Феррер, значительно менее воодушевленный, чем накануне. – Не так сразу. Я хочу сказать, не стоит спешить. Для начала договоримся, что я сам займусь изготовлением вещей по твоим эскизам, да-да, это я возьму на себя. Если их удастся продать, то прибыль отойдет мне. Затем нужно будет прикинуть, нравится ли это публике, можно ли организовать тебе выставку в другом месте, за границей. Например, в Бельгии или в Германии, что-нибудь в этом роде. Если дело не выгорит и твои вещи останутся во Франции, мы попробуем пристроить их в разные культурные центры. Далее, постараемся предложить одну из них на продажу в РФИ или НФИ [9]9
РФИ – Региональный фонд искусств. НФИ – Национальный фонд искусств.
[Закрыть], покажем ее кое-где еще, чтобы раскрутить тебя. Ну-с, а затем – Нью-Йорк!»
«Нью-Йорк!» – восторженным эхом откликается Корде. «Да, Нью-Йорк, – подтверждает Феррер. – Я всегда раскручиваю художников по такой схеме. И если все это будет иметь успех, то можно подумать и о контракте. А пока извини, я на минутку!»
У входа в галерею, перед свежим экспонатом в виде гигантского асбестового бюстгальтера – творения мужа любовницы Шварца, который и порекомендовал его Ферреру, – застыл в раздумьях уже знакомый нам офицер уголовной полиции Сюпен. Он выглядел таким молодым, этот Сюпен, он по-прежнему щеголял в своих традиционных одежках юного сыщика, которые презирал от всей души, но – что поделаешь! – форма должна отвечать содержанию. Он явно был счастлив возможности лишний раз посетить галерею Феррера – «такое культурное местечко, прямо для меня создано!»
«Хочу вам сообщить, – сказал Сюпен, – что автомобиль „фиат“, кажется, засекли на испанской границе. Передвижная таможня произвела обычный досмотр, так, наудачу. Они старались задержать водителя, насколько могли, но в таких случаях таможня бессильна. Нас тут же поставили в известность – к счастью, мы хорошо ладим с тамошними парнями. Я, естественно, сделаю все, чтобы установить местонахождение этого субъекта с помощью испанских коллег, но гарантировать успеха не могу. Если найду что-нибудь, позвоню вам либо еще сегодня, либо завтра. А теперь скажите-ка, так, на всякий случай, почем у вас этот большой лифчик, вон там, у двери?»
Когда Сюпен, потрясенный ценой «лифчика», неверными шагами выбрался из галереи, Феррер, даром что прозвучавшая информация сулила благоприятное развитие дела, впал в черную меланхолию. Он торопливо отделался от Корде, не будучи даже уверен, что собирается выполнить все свои недавние посулы, и ограничившись вялым «ну, посмотрим». Ему пришлось сделать над собой гигантское усилие, чтобы нахлынувшая депрессия не отравила все вокруг, особенно его деловые качества и артистические воззрения. Окинув взглядом свои экспонаты, он внезапно проникся к ним глубочайшим отвращением и поспешил закрыть галерею раньше обычного. Он отпустил Элизабет, самолично запер стеклянную входную дверь и железную штору, после чего направился, втянув голову в плечи от ледяного ветра, к метро «Сен-Лазар». Пересел на станции «Опера», вышел на «Шатлэ», откуда по мосту через Сену два шага до Дворца Правосудия. Нужно сказать, что профессиональные и финансовые трудности были не единственной причиной уныния Феррера, его согбенной спины и мрачного лица: настало 10 октября, а развод никогда еще никого особо не радовал.
Разумеется, в этом он не одинок, хотя тут нет ничего утешительного: зал ожидания буквально набит парами, завершающими совместную жизнь. Некоторые из супругов, пусть и на грани развода, вполне мирно общались между собой и спокойно беседовали со своими адвокатами. Дело Феррера было назначено на одиннадцать тридцать, но вот уже одиннадцать сорок, а Сюзанна еще не явилась. «Вечно она опаздывает!» – раздраженно сказал себе Феррер; впрочем, судьи по бракоразводным делам тоже не было на месте. Неудобные пластмассовые стулья, стоявшие по всему периметру зала, окружали низкий стол, заваленный потрепанной печатной продукцией самого разного толка – юридическими брошюрами, журналами по искусству и медицине, еженедельниками, освещающими жизнь знаменитостей. Феррер взял один из этих последних и принялся листать его: традиционные фотографии звезд кино, литературы, телевидения, спорта, политики и даже кулинарии. Разворот в середине журнала предлагал снимок суперзвезды с новым партнером; позади нежной пары маячила смутная, но вполне узнаваемая фигура Баумгартнера. Ферреру предстояло увидеть это фото через четыре секунды, три секунды, две секунды, одну секунду, но Сюзанна выбрала для своего прихода именно этот миг, и Феррер без всякого сожаления закрыл журнал.
Судья оказался типичной женщиной-судьей с седеющими волосами, одновременно и спокойной и натянутой: спокойной оттого, что привыкла выступать в роли судьи, а натянутой оттого, что так и не свыклась с этой привычкой. Она явно старалась держаться холодно и высокомерно, но Феррер легко мог представить ее себе в домашних условиях внимательной, предупредительной и даже, может быть, любезной; да, она очень походила на добрую мать семейства, хотя наверняка держала это семейство в ежовых рукавицах. Не исключено, что ее муж служил секретарем суда и занимался дома хозяйством, когда она опаздывала к ужину, за которым супруги обсуждали статьи гражданского кодекса. Поскольку судья приняла их вместе, Феррер решил, что ее вопросы – чистая формальность, и отреагировал на них с минимальными нервными затратами.
Сюзанна также держалась крайне сдержанно и отвечала ровно так, как нужно, не вдаваясь в излишние подробности. «Нет-нет», – сказал Феррер, когда судья для проформы осведомилась, есть ли у них дети. «Значит, ваше решение твердо? – спросила судья, обратившись к Сюзанне, вслед за чем взглянула на Феррера. – Месье, по-моему, уверен меньше, чем мадам». – «Нет-нет, я уверен, – ответил Феррер, – никаких проблем». Затем судья приступила к индивидуальному опросу супругов, начав с жены. Дожидаясь своей очереди, Феррер взял со стола уже другой журнал, и, когда Сюзанна вышла, обратил на нее вопросительный взгляд, оставшийся без ответа. Он встал и направился в комнату судьи, споткнувшись по дороге о стул. «Вы твердо уверены, что желаете развестись?» – спросила судья. «Да-да», – ответил Феррер. «Хорошо», – сказала дама, захлопнув папку с делом; на том все и кончилось.
Выйдя от судьи, Феррер вознамерился было пригласить Сюзанну пообедать вместе или хотя бы выпить по стаканчику в ближайшем баре, например, в кафе Дворца, но она не дала ему раскрыть рот. Феррер вздрогнул, ожидая самого худшего – унизительных оскорблений, требований, ультиматумов, словом, всего, чего успешно избежал в прошлом январе, но он ошибся. Жестом призвав Феррера к молчанию, Сюзанна открыла сумку, вынула дубликат ключей от галереи, оставшихся в Исси, и, вручив их ему без единого слова, удалилась в сторону моста Сен-Мишель, к югу. Простояв столбом целых пять секунд, Феррер зашагал в сторону моста Менял, к северу.
В конце дня Феррер запер галерею – как всегда, в девятнадцать часов. Близился вечер, солнце давно не озаряло эту часть земли, оставив после себя лишь серо-голубое, идеально чистое небо, на котором крошечный самолетик, отражавший прощальные лучи не видимого отсюда светила, вычерчивал ярко-розовый след. Феррер постоял с минутку, разглядывая улицу, прежде чем уйти. Торговцы один за другим опускали, как и он, железные шторы. Рабочие со стройки напротив также разошлись, предусмотрительно развернув стрелы своих желтых кранов в подветренную сторону. На фасаде соседнего высокого здания чуть ли не каждое второе окно было украшено параболической антенной; когда солнце стояло в зените, эти тарелки наверняка мешали ему проникать в квартиры и принимали вместо него телевизионные изображения, заменяющие жильцам вид из окна.
Феррер уже было собрался уходить, как вдруг вдали замаячил женский, смутно знакомый силуэт; прошла однако целая минута, прежде чем он обнаружил, что это Элен. Уже не впервые Феррер с трудом узнавал ее: даже в больнице, когда она входила в палату (а он прекрасно знал, что, кроме нее, прийти некому), ему каждый раз нужно было делать над собой усилие, чтобы восстановить в памяти ее черты, а еще вернее, разглядеть их заново, как будто они постоянно менялись. А черты эти были, вне всякого сомнения, и красивы и гармоничны, и Феррер с удовольствием любовался бы ими, так сказать, в отрыве от их обладательницы, отношения с которой никак не назовешь стабильными и адекватными. Между ним и Элен существовало что-то вроде неустойчивого равновесия, и зыбкого и постоянного; в общем, всякий раз, как Феррер встречал эту женщину, он видел ее в новом свете.
И вот женщина эта пришла – по ее словам, совершенно случайно и непредвиденно, не сообщив заранее; Феррер пригласил ее выпить чего-нибудь и вновь открыл галерею. Зайдя в «ателье» и доставая из холодильника шампанское, он решил изучить наконец со всем возможным тщанием лицо Элен, как зубрят новое правило, чтобы запомнить его на всю жизнь и избавиться от мучительного чувства неуверенности. Однако его усилия оказались тщетными, тем более что сегодня Элен впервые пришла накрашенной, и это обстоятельство все изменило и усложнило. Ибо макияж, украшая сенсорные органы, одновременно и маскирует их; заметьте себе, это относится особенно к органам многофункциональным. Возьмем, к примеру, рот, который дышит, говорит, ест, пьет, улыбается, шепчет, целует, сосет, лижет, кусает, дует, вздыхает, кричит, курит, кривится, поет, свистит, икает, плюет, рыгает, извергает рвоту, хрипит и так далее, – его накрашивают, и это самое меньшее, чем можно удостоить орган со столькими благородными функциями. Красят также окрестности глаз, которые смотрят, выражают чувства, плачут и смыкаются для сна, каковые функции также весьма благородны. Красят еще и ногти – передовой отряд рук, выполняющих огромное количество самых разнообразных и не менее благородных операций.
Однако не принято раскрашивать органы, наделенные всего одной-двумя функциями, – например ухо, которое только слышит, украшают всего одной сережкой. Или нос, который дышит и ощущает запахи (когда его не закладывает от насморка) и который, подобно уху, можно украсить сережкой, драгоценным камешком или жемчужинкой, а то и настоящей костью, что делают в некоторых экзотических краях, тогда как на наших широтах его просто-напросто пудрят. Нужно сказать, что Элен не снизошла до всех вышеуказанных аксессуаров, ограничившись красной губной помадой рубинового оттенка, тушью для ресниц и тенями для век, вызывающими в памяти землю Сиены. И все же, по мнению Феррера, в данный момент открывающего шампанское, скромный макияж Элен грозил значительно осложнить дело.
Но нет, оно не успело осложниться, ибо как раз в этот миг зазвонил телефон: «Говорит Сюпен, я звоню раньше, чем обещал; кажется, я кое-что обнаружил». Схватив первый попавшийся карандаш, Феррер крайне внимательно выслушал сообщение, записав несколько слов на обороте старого конверта, и пылко поблагодарил офицера уголовной полиции. «Не за что, – ответил Сюпен, – мне просто повезло. Я вам уже говорил, что мы дружим с испанскими таможенниками, и у меня там есть один замечательный парень, мотополицейский, который взялся присматривать за этим типом сверх, так сказать, службы. Так что все эти разговорчики насчет вражды полиций – ерунда, сами видите». Положив трубку, Феррер лихорадочно наполнил бокалы, едва не перелив через край. «Мне придется срочно уехать, – сказал он Элен. – А пока давайте-ка наконец выпьем за что-нибудь вдвоем, вы и я!»








