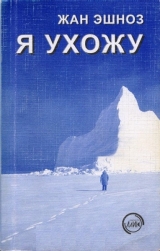
Текст книги "Я ухожу"
Автор книги: Жан Эшноз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
8
И он как раз собрался наступить, когда Феррер приоткрыл глаза: иллюминатор слабо мерцал голубовато-серым пятном на темной переборке. Лежа на узенькой койке, нелегко было развернуться лицом к противоположной стене; когда Феррер наконец проделал это, он обнаружил, что в его распоряжении имеется полоска матраса шириной сантиметров тридцать, не больше – только-только удержаться, лежа на боку; хорошо хоть, сегодня ему было куда теплее, чем в другие утра. Он попытался утвердиться в этой позе, осторожно извиваясь на месте, что почти невозможно, – напрасные старания! Он увеличил амплитуду телесных колебаний в надежде отвоевать себе чуточку больше этого теплого пространства, как вдруг резкий толчок со стороны стенки отбросил его назад, и Феррер загремел с койки на пол.
Он грохнулся всей тяжестью на правый бок, испугался, что вывихнул руку, и вздрогнул: пол оказался холодным, как лед, тем более что на Феррере не было ничего, кроме часов. Он кое-как встал на четвереньки, а затем на ноги и, почесывая шерстистую грудь, окинул взглядом койку.
Итак, настало время больших перемен. Непредвиденное случилось. На койке – наконец-то в одиночестве и оттого блаженно вздыхая, – мирно вкушает сон медсестра Брижит; она отвернулась лицом к стене и сладко похрапывает. Ее загар выглядит нынче более ярким и насыщенным, чем прежде, – ближе к оранжевому. Дело в том, что накануне она заснула (опять-таки!) под ультрафиолетовой лампой и слегка подгорела. Феррер пожимает плечами, снова вздрагивает и, глянув на часы (шесть двадцать утра), натягивает белье.
Ему как-то не по себе; по правде сказать, он обеспокоен. На последней консультации у Фельдмана кардиолог остерег его от предельных температур: сильная жара или сильный холод, а также резкие перепады между первым и вторым крайне вредны сердечникам. «Ты ведешь нездоровый образ жизни для своего состояния, – сказал Фельдман. – Бросить курить – это еще не все, тебе нужен целый комплекс мер для поправки здоровья». Вот почему Феррер утаил от врача, что отправляется на Крайний Север. Просто заметил вскользь, что ему предстоит деловая поездка. «Ладно, езжай, но через три недели, самое большее через месяц жду тебя здесь, – сказал Фельдман. – Сделаю тебе эхограммку и застращаю всякими ужасами, чтобы ты перестал валять дурака». Вспомнив эти слова, Феррер машинально прижимает руку к сердцу, желая проверить, не бьется ли оно слишком часто, или слишком редко, или слишком неровно, но нет, сердце бьется нормально, вполне нормально.
Теперь ему уже не так холодно, в белье он выглядит более субтильным, скукоженные мужские атрибуты едва оттопыривают тонкий трикотаж. Скуки ради он бросает взгляд в иллюминатор. Бледное пятно на небе выдает местоположение далекого солнца, которое по временам отсвечивает на крыльях морских ласточек, носящихся в поднебесье. В его скупом свете Феррер смутно различает грязно-серые, искрошенные скалы острова Саутгемптон, которые судно, видимо, огибает слева, собираясь взять фарватер, ведущий к Уэджер Бей; Феррер стаскивает с себя белье снова ныряет в койку.
Но это легче сказать, чем сделать. Медсестра Брижит, великолепно и вполне пропорционально сложенная, занимает, тем не менее, почти все ложе, оставляя место разве что для чужой руки. И потеснить ее никак не удается. Собравшись с духом, Феррер решает поступить иначе – со всей возможной деликатностью улегшись на медсестре сверху. Однако Брижит разражается недовольными стонами. Она отвергает этот вариант, брыкаясь так ретиво, что на минуту Ферреру кажется: все, пропало дело! Однако мало-помалу, к его радости, медсестра наконец расслабляется. И дело идет, хотя идти оно может только в весьма суженных границах, ибо размеры койки допускают строго ограниченное число комбинаций, а именно: один партнер на другом, правда, при этом они еще меняются местами и даже направлениями, что уже неплохо. Спешить им некуда – все-таки нынче воскресенье, – и они стараются вовсю, они увлекаются так, что выходят из каюты только в десять часов.
А было и впрямь воскресенье, настоящее воскресенье; это чувствовалось даже в воздухе, в небе, где несколько разрозненных стаек бакланов парили еще более лениво, чем обычно. По пути на мостик Феррер встретил матросов, выходивших из корабельной часовни, а среди них радиста, не скрывавшего горечи поражения. Но Феррер был уже недалеко от цели своего путешествия, и через пару часов радист счастливо отделался от соперника, который, достигнув пункта назначения, распрощался с капитаном и его штабом на мостике, вернулся в каюту и собрал багаж.
Ледокол доставил Феррера в Уэджер Бей и сразу же отчалил. В тот день над морем лежал непроницаемо густой, тяжелый, низкий, как потолок, туман, скрывший окрестные горы и даже мачты судна, но в то же время источавший какой-то странный живой свет. Стоя на причале, Феррер глядел вслед «Смородиннику»; корабль таял в этом мареве, его грузные формы превращались в очертания, а те, в свою очередь, в смутные пунктиры, которые в конце концов бесследно исчезли вдали.
Ферреру не очень хотелось задерживаться в Уэджер Бей – поселке, представлявшем собой кучку сборных бараков из грязного шифера, с крошечными оконцами, где за пыльными стеклами едва теплились огоньки. Между этими строениями, сгруппированными вокруг мачты, шли зигзагами узкие темные проулки, сплошь в наледях, сугробах и сосульках; перекрестки были завалены железным ломом, цементными глыбами и ломкими обрывками целлофана. Флаг, заледеневший правильным четырехугольником, как белье на морозе, содрогался и трещал на верхушке мачты, чья тень доползала до узкой вертолетной площадки.
С этой-то площадки Феррер и улетел рейсом на Порт Радиум вертолетом Сааб-340 Ситилайнер, расчитанным на шестерых пассажиров, но имевшим на борту, кроме него, только инженера из города Эврике. Спустя пятьдесят минут Феррер встретился в Порт Радиуме, похожем на Уэджер Бей, как нелюбимый брат-близнец, со своими проводниками. Это были местные жители, зовущиеся Ангутреток и Напазикодлаки, облаченные в стеганые пуховики на синтипоне, в «дышащее» капиленовое белье, в фосфоресцирующие комбинезоны и рукавицы с подогревом. Уроженцы округа, ближайшего к Тукгойяктуку, они отличались теми же параметрами, что и их земляки – приземистые, толстенькие, коротконогие, с маленькими изящными ручками и круглыми безбородыми лицами смугло-желтого цвета, с широкими скулами, прямыми черными волосами и ослепительными зубами. Познакомившись с Феррером, они тотчас представили ему своих ездовых собак.
Собаки, в тот момент дремавшие в загончике вокруг вожака, грязные, лохматые, с засаленной черно-желтой шерстью, отличались крайне мерзким нравом. Они не любили хозяев (которые, надо сказать, платили им тем же и никогда не ласкали), но притом явно не переносили и друг друга: во взглядах, которыми они обменивались, сквозили только зависть и жадность. Феррер довольно скоро понял, что ни один из этих псов, даже отдельно взятый, не склонен к контактам. Услышав свою кличку, он едва поворачивал голову и, убедившись, что ему не перепадет ничего съестного, отворачивался. Когда его понукали к работе, он и вовсе не реагировал, и его угрюмый взгляд исподлобья говорил: при чем здесь я, обращайтесь к вожаку! Вожак же, проникнутый важностью своей миссии, также начинал ломаться, обращая к людям то гневный взгляд работника на грани стресса, то рассеянный взор секретарши, занятой маникюром.
Экспедиция тронулась в путь в тот же день, и вот она уже далеко. Люди запаслись универсальными карабинами Севедж-116, биноклями 15/45 со стабилизатором изображения, ножами и кнутами. У Напасеекадлака рукоятка ножа сделана из «ооси-ка» – кости из моржового полового члена; этот гибкий, упругий, пористый материал незаменим, особенно когда дело доходит до хорошей драки. Нож Ангутретока менее традиционен, это White hunter-II Puma, с рукояткой из кратона.
На выходе из Порта Радиум экспедиция углубилась в тесное ущелье. По обе стороны тропы со скал свисала ледяная бахрома, напоминающая остатки пены в осушенной пивной кружке. Упряжки шли довольно быстро, хотя путников немилосердно трясло на ухабах. Сначала Феррер пытался перекинуться парой слов с проводниками, особенно с Ангутретоком, немного говорившим по-английски (Напазикодлак объяснялся с ним одними улыбками). Однако слова даже не успевали прозвучать: едва слетев с губ, они тут же застывали в воздухе, и лишь быстро протянув руку, можно было собрать рассыпавшиеся звуки, которые затем тихонько таяли и бесследно уходили сквозь пальцы.
На путников тут же ринулись в атаку комары; к счастью, их было нетрудно убивать: на этих широтах живность почти незнакома с человеком и не боится его, вот почему комары элементарно давали прихлопнуть себя ладонью, даже не пытаясь ускользнуть. Это, однако, не мешало остальным вконец изводить людей, налетая на них целыми тучами на кубический метр и жаля прямо через одежду, особенно, в плечи и колени, там, где материя натянута туже. Вздумай кто-нибудь фотографировать, они мгновенно затмили бы объектив аппарата, но у Феррера аппарата не было, – не для того он сюда прибыл. Путники позатыкали все отверстия в своих головных уборах и продвигались вперед, яростно колотя себя по бокам. Однажды они заметили белого медведя, но он был слишком далеко, чтобы представлять опасность.
Зато собаки создавали массу всяческих проблем. Например, однажды утром Феррера выбросило из нарт на крутом снежном склоне, и упряжка, лишившись седока, беспорядочно помчалась куда глаза глядят, причем псы рвались в разные стороны. В конце концов нарты опрокинулись и легли поперек дороги, собаки запутались в упряжи, поневоле остановились и тотчас начали грызться между собой. Тем временем Феррер приходил в себя на месте падения, растирая ушибленный бок. Ангутреток помог ему встать и начал утихомиривать собак, однако кнут только испортил дело: после первого же удара один из псов укусил второго, тот – третьего, а тот – двух соседних, и все это вылилось в грандиозную свалку. С большим трудом людям удалось восстановить порядок. Затем они снова тронулись в путь. Северное лето уже вступало в свои права. Ночью было светло, как днем.
9
Первым в Париже на исходе февраля предстояло исчезнуть из виду самому Ферреру.
Конец января ознаменовался для него массой всяких дел. Поскольку Делаэ все так же настойчиво привлекал к «Нешилику» внимание Феррера, этот последний решил всерьез заняться данным вопросом. Он изучил некоторые экспонаты музейных и частных коллекций, посоветовался с экспертами, путешественниками и хранителями и в конце концов начал понемногу разбираться в искусстве Севера, а главное, в его рыночной ценности. Было ясно, что если когда-нибудь удастся завладеть сокровищами «Нешилика», они, вне всякого сомнения, принесут немалые деньги. Феррер даже купил в одной из галерей Марэ две статуэтки, которые теперь подолгу рассматривал вечерами, – спящую женщину из округа Повунгнитук и божка из Пангниртунга. И хотя формы эти были чужды его вкусу, он мало-помалу проникся пониманием их духа, стилистики и замысла авторов.
Тем не менее в настоящий момент эта северная экспедиция представлялась весьма гипотетической. Делаэ, несмотря на все свои усилия, никак не мог получить информацию о точном местонахождении пропавшего судна. В ожидании новых сведений Феррер обдумывал будущую операцию в общих чертах. Однако в эти зимние дни у него возникло немало других забот. Проект первой ретроспективы Мартынова (после того как художник отказался выставляться в Депозитной кассе), потоп в мастерской Эстерельяса, безвозвратно загубивший все его сахарные инсталляции, неудачная попытка самоубийства Гурделя и другие происшествия потребовали от Феррера непривычного взрыва активности. Сам того не заметив, он оказался вовлеченным в вихрь неотложных дел, которые никому не мог перепоручить. Это было настолько непривычно, что он даже не успел осознать, какой опасностью чреваты подобные нагрузки день за днем.
День за днем – или ночь за ночью, ибо однажды, когда Феррер спал, случилось удивительное физиологическое явление: все жизненные функции его истощенного организма как бы отключились вместе с ним. Правда, спячка эта продолжалась самое большее два-три часа, но в течение этого времени все биологические процессы – биение сердца, циркуляция воздуха в легких, может быть, даже обновление клеток – замедлили свой ход и свелись почти что к состоянию комы, мало отличимой от смерти в глазах профана. Однако сам Феррер ничего такого не заметил, не ощутил ровно никаких неудобств, разве что ему почудилось, будто он видел сон, – вполне вероятно, что так оно и было. И сон, видимо, вполне приятный – во всяком случае, Феррер проснулся в довольно веселом расположении духа.
Итак, он проснулся – позже обычного и ничего дурного не заподозрив. Ему и в голову не пришло, что он стал жертвой медицинского явления, называемого атриовентрикулярная блокада – А.В.Б. Покажись он специалистам, те сперва решили бы, что речь идет об А.В.Б. типа Мобиц-II, а затем, поразмыслив немного и посовещавшись, в конце концов склонились бы к варианту блокады второй степени типа Лючиани-Венкенбаха.
Но как бы там ни было, а Виктории, по его пробуждении, в спальне не оказалось. Похоже, она и вовсе не ночевала дома. В этом не было ничего удивительного: иногда девушка проводила ночь у какой-нибудь подружки, как правило, у некой Луизы – по крайней мере так она утверждала в своей обычной уклончиво-скрытной манере, а Феррер был не так уж сильно к ней привязан, чтобы стараться выяснить правду. Однако, встав с постели, он прежде всего решил проверить, не спит ли Виктория в другой комнате, куда часто уходила под тем предлогом, что он храпит, да он и вправду храпел, с этим не поспоришь. Словом, он заглянул в комнатку в глубине квартиры. Нет, никого. Ладно! Однако довольно скоро он констатировал отсутствие ее туалетных принадлежностей в ванной, затем одежды в платяном шкафу, а затем и ее самой во все последующие дни, из чего ему волей-неволей пришлось заключить, что она исчезла навсегда.
Феррер всюду разыскивал ее, насколько позволяло ему время. Но если у Виктории и имелись какие-нибудь родственники (или претендующие на звание таковых), у которых можно было бы навести справки, Феррера она с ними так и не познакомила. Что же касается ее привычных мест развлечений, то их было всего три – бар «Циклон», бар «Солнце» и, особенно, бар «Центральный», куда частенько наведывался и Делаэ; впрочем, теперь его трудно было там застать: он якобы с головой ушел в проект «Нешилик». Когда-то давно Феррер пару раз встретил Викторию в компании молодой женщины, ее ровесницы, пресловутой Луизы, которая, кажется, служила в Национальном обществе железных дорог (НОЖД) по временному контракту. Он зашел в упомянутые бары, он повидался с Луизой, он ровно ничего не узнал.
Итак, ему вновь пришлось жить одному. Но это нехорошо для него. Особенно утром, когда его будит эрекция, то есть, почти каждое утро, как почти каждого мужчину, прежде чем он начнет слоняться между спальней, кухней и ванной. К счастью, в результате подобных блужданий эрекция наполовину слабеет, однако угнетенный, почти обескураженный энергией этого отростка, перпендикулярного небезупречной вертикали его спинного хребта, он в конце концов садится и начинает изучать почту. Эта операция не приносит ему особой радости и, как правило, кончается очередным быстрым заполнением мусорной корзинки, зато mutatis mutandis, а то и volens nolens [2]2
Mutatis mutandis (лат.) – изменив то, что надо изменить.
Volens nolens (лат.) – хочешь не хочешь; поневоле.
[Закрыть], возвращает его сексуальный аппарат к обычным размерам.
Да, это очень нехорошо для него, так дальше жить нельзя. Но что прикажете делать, когда пустота образуется столь внезапно?! Хотя присутствие Виктории было недолгим, оно все же оказалось вполне достаточным, чтобы отдалить от Феррера других женщин. Сам-то он простодушно полагал, что они терпеливо ждут, когда он освободится. А их, оказывается, как ветром сдуло; они и не подумали ждать, страдать по нему и стали жить своей жизнью. Итак, не в силах терпеть одиночество, он принимается за поиски партнерши. Но всем известно, что тот, кто ищет, не найдет; лучше сделать вид, будто тебе никто не нужен, и вести себя так, словно ничего не случилось.
Можно также ждать случайной встречи, – главное, не показывать, что ждешь. Ибо, говорят, именно так рождаются великие открытия: взять хоть неожиданную реакцию двух веществ, совершенно случайно положенных рядом на лабораторный стол. Конечно, нужно еще, чтобы кто-то положил туда эти самые вещества, даже без всякого намерения соединить их. И еще нужно, чтобы они оба оказались там одновременно и чтобы им нашлось, говоря человеческим языком, что сказать друг другу, притом, что положивший их рядом знать ничего не знает. Это химия, это вам не шутки. Тщетно ученые изощряются, придумывая тысячи комбинаций разных молекул и пытаясь их соединить, – получается полный пшик. Тщетно они выписывают со всего света самые экзотические реактивы – получается все тот же пшик. И вдруг в один прекрасный день, кто-то сделал неловкое движение, столкнул два вещества, долгие месяцы лежавшие на столе врозь, нечаянно брызнул на них третьим веществом или опрокинул пробирку в кристаллизатор и – нате пожалуйста! – происходит реакция, которой люди безуспешно добивались многие годы. Или же, к примеру, кто-то забыл посеянные культуры в ящике, а потом открыл его и – нате пожалуйста! – там пенициллин.
И вот именно таким методом, после долгих поисков, которые Феррер вел концентрическими кругами, все более удаляясь от Амстердамской улицы, он наконец обрел предмет своих вожделений в лице соседки по лестничной площадке. Ее звали Беранжера Эйсенман. Самое удивительное и неожиданное было именно то, что она жила рядом. Разумеется, не следует забывать, что такое соседство имеет не только преимущества, в нем есть и хорошие стороны и не очень, и мы охотно углубились бы в исследование сути этой проблемы, если бы нам позволяло время. Но, увы, оно не позволяет, ибо нас призывают другие, более насущные события, а именно: внезапное сообщение о трагическом уходе Делаэ.
10
Неприятные инциденты с собаками все учащались. Так, например, в один из дней экспедиция наткнулась на мертвого мамонта, с незапамятных времен покоившегося в прозрачной призме из двух ледяных глыб, где он законсервировался лучше, чем фараон в своей пирамиде: холод так же надежно бальзамирует, как и убивает. Невзирая на крики, ругательства и хлысты обоих проводников, собаки жадно набросились на мастодонта, и воздух огласился свирепым урчанием и треском костей. Наконец псы сожрали дотла, прямо неразмороженной, часть туши животного, которую смогли вырвать из ледяного саркофага, и залегли на отдых, вынудив людей ждать, когда они соизволят вновь отправиться в путь. Да, с собаками им явно не повезло. Жаль, что нельзя было отказаться от их услуг. Итак, экспедиция продолжала идти вперед в негаснущем свете полярного лета, который затмевали тучи комаров.
Напоминаем, что в это время года здесь стоит вечный день, а солнце никогда не заходит. Нужно посмотреть на часы, чтобы узнать, не пришло ли время отдыха, а для того чтобы заснуть, приходится завязывать себе глаза после того, как выметешь крылом чайки мусор из палатки. Что касается комаров, их личинки бурно созревали в бесчисленных лужах, и эта комариная молодь атаковала путников с удвоенной энергией. Теперь кровососы шли на приступ не десятками, но сотнями на кубометр воздуха, налетая плотными эскадрильями, проникая в нос, рот, уши и глаза, пока вы шагали по плотному насту. Ферреру пришлось последовать совету Ангутретока, прямо противоположному рекомендациям представителя врачебного корпуса Фельдмана, и вновь закурить, хотя подзабытый запах табака в этом холодном воздухе вызывал у него тошноту. Но это было единственным средством отделаться от комариного воинства, и люди дымили в разгар нападений, как паровозы, держа во рту по три сигареты разом.
Итак, они продвигались вперед по едва заметной дороге, размеченной через каждые два-три километра каменными пирамидками-кернами; эти груды камней, сложенные первопроходцами здешних мест, дабы отметить их маршрут, служили путевыми знаками, но могли также содержать внутри разные предметы, свидетельствующие о былой деятельности людей – старые инструменты, или документы, или даже захоронения. Однажды они наткнулись там на череп, из орбит которого торчали хилые стебельки полярного мха.
Так они и шли от керна к керну, при весьма посредственной видимости, которую портили не одни только комары, – туманы также вносили в это дело свою лепту. Мало того, что они затмевали прозрачный воздух и скрывали от глаз предметы, они еще и грубо искажали их размеры. В противоположность зеркальцу заднего вида, где все вещи кажутся дальше, чем на самом деле, здесь, в этой белой необъятности, чудилось, будто какая-нибудь темная каменная пирамидка торчит прямо у вас под носом, тогда как до нее оставался еще целый час санного пути.
Происшествие с мамонтом положило конец терпению проводников. На первой же остановке после Порта Радиум они сменили всех собак на три взятых напрокат снегохода, к которым прицепили легкие нарты. И теперь члены экспедиции катили вперед на этих машинах, то и дело нарушавших густое полярное безмолвие странными трескучими взрывами, напоминавшими о Велосолексе. Оставляя позади себя на грязном льду масляные пятна и мазутные колеи, снегоходы шныряли между льдинами, проделывая иногда самые затейливые петли, чтобы обогнуть ледяные торосы, где не встречалось ни единого деревца, ни единой травинки, ровно ничего. Да, за последние пятьдесят миллионов лет здесь произошло немало изменений. Раньше в этих краях росли тополя, буки и даже виноград и секвойи, но теперь с этим покончено раз и навсегда. Спасибо, еще позавчера, ближе к югу, они приметили по пути какие-то лишайники, затем кустик, похожий на вереск, и нечто вроде белого гриба, но с тех пор им больше не встретилось ничего, никакой растительности; только снег и лед до самого горизонта, сколько хватало взгляда.
Поэтому они питались одними только индивидуальными, научно сбалансированными, специально разработанными на сей случай пайками. Однако им удалось разнообразить это меню несколькими рыбками, называемыми здесь angmagssaets, которых они зажарили на костре. Как-то раз рядом с ними обрушилась в море огромная ледяная глыба, и вода выплеснула на сушу этих крошечных, размером с сардинку, рыбешек; прежде всего пришлось разгонять чаек, которые тут же спикировали на добычу, угрожая людям острыми клювами. В другой раз Напазикодлак загарпунил тюленя. А в тюлене, и это общеизвестно, все идет в дело, как в хорошей свинье: мясо жарится и тушится, кровь, напоминающая вкусом яичный белок, превращается во вполне приличную кровяную колбасу, жир служит для освещения и согревания, из кожи делают превосходные палатки, из костей – иголки, а из сухожилий – нитки для шитья; даже из кишок умудряются изготавливать красивые прозрачные пластинки для окон. Что же до тюленьей души, то она пребывает отныне на острие гарпуна охотника. Итак, Ангутреток приготовил тюленью печень с белыми грибами на жаровне, возле которой Напазикодлак положил свой гарпун, чтобы душа убитого животного не замерзла. И пока они сидели за трапезой, Аигутреток учил Феррера некоторым из тех ста пятидесяти слов, которыми обозначают на иглулитском наречии все виды снега – слежавшийся снег, скрипучий снег, свежий и мягкий снег, рыхлый снег под настом, волнистый снег, мелкий порошкообразный снег, влажный и плотный снег и, наконец, снег, поднятый ветром.
Чем дальше они продвигались на север, тем становилось холоднее, что было вполне естественно. На каждом волоске лица Феррера – на бровях и ресницах, на бороде и усах, вокруг ноздрей – застыла ледяная бахрома. Он и его проводники шли, глядя сквозь черные очки на кратеры, образованные упавшими метеоритами, откуда в древности местные жители добывали железо для своих гарпунов и дротиков. Однажды они заметили вдали другого белого медведя, который в одиночестве сидел на льдине, возле полыньи, подстерегая тюленя. Поглощенный своим занятием, медведь не видел людей, но Ангутреток на всякий случай разъяснил Ферреру, как следует вести себя при встрече с таким зверем. Бежать нельзя – медведь бегает быстрее человека. Лучше всего отвлечь его внимание, бросив в сторону какой-нибудь яркий предмет. И, наконец, если стычка все-таки неизбежна и спасения нет, последнее средство: вспомнить, что все белые медведи – левши, так что, защищаясь, нужно бить именно с этой, более слабой стороны. Утешение весьма иллюзорное, но все же, все же…








