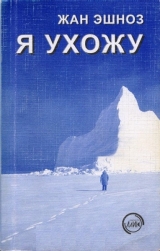
Текст книги "Я ухожу"
Автор книги: Жан Эшноз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
5
Что ему удавалось гораздо хуже, шестью месяцами раньше, так это дела в галерее. Ибо в тот период, о котором я повествую, рынок искусства выглядел отнюдь не блестяще, так же, кстати, как не блестяще выглядела и электрокардиограмма самого Феррера. Он и раньше перенес несколько сердечных приступов и даже легонький инфаркт, впрочем, без особых последствий, разве что ему пришлось отказаться от курения, – в этом вопросе кардиолог Фельдман был неумолим. И если прежняя жизнь Феррера, размеченная сигаретами «Мальборо», напоминала подъем на веревке с узлами, то отныне ему, лишенному табака, приходилось, можно сказать, взбираться вверх по бесконечному, совершенно гладкому канату.
За последние годы Феррер собрал вокруг себя небольшую группку художников, которых регулярно посещал, нерегулярно наставлял и уж совершенно определенно раздражал. Среди них не было скульпторов, ввиду его прошлого, зато имелись живописцы – Беклер, Спонтини, Гурдель и, главное, Мартынов, который в то время резко пошел вверх, работая исключительно в желтой гамме; ну и еще несколько других. Например, Элисео Шварц, специалист по предельным температурам и изобретатель мехов в виде замкнутой цепи («А почему бы не добавить сюда парочку клапанов?» – подсказывал Феррер), затем Шарль Эстерельяс, занимавшийся инсталляциями в виде холмиков из сахарной глазури или талька («Тебе не кажется, что здесь чуточку не хватает цвета? – осторожно спрашивал Феррер. – Или нет?»), далее, Мари-Николь Гимар, сделавшая предметом своего искусства увеличенные изображения укусов насекомых («А что если тебе заняться еще и укусами гусениц? – вдохновенно предлагал Феррер. – Или змей?»), и, наконец, Ражпутек Фракнатц, работавший исключительно в области сна («Только, ради Бога, полегче со снотворными!» – умолял его Феррер). Но, во-первых, по нынешним временам мало кто покупал работы этих художников, а, во-вторых, сами они, особенно, внезапно проснувшийся Ражпутек, ясно дали понять Ферреру всю неуместность его визитов.
Словом, что ни говори, а торговля картинами заглохла. Где оно, то прекрасное время, когда телефоны звонили без умолку, факс захлебывался от заказов, а галереи всего мира жадно требовали новостей о художниках, мнения художников, биографии и фотографии художников, каталоги и проекты выставок художников?! Где те несколько лет бурного подъема, когда без всяких проблем можно было опекать всех этих людей искусства, находить для них стипендии в Берлине, фонды во Флориде, должности преподавателей живописи в Страсбурге или Нанси?! Увы, от всего этого не осталось и следа; мода на искусство прошла, источник денег иссяк.
Убедившись, что ему не сподвигнуть коллекционеров на покупку вышеуказанных шедевров и что в моду входит этническое искусство, Феррер с некоторого времени начал сворачивать привычную деятельность. Он незаметно оставил в покое специалистов пластического жанра и, продолжая, конечно, опекать своих живописцев, особенно, Гурделя и Мартынова, из коих первый был на подъеме, а второй в явном упадке, решил направить главные свои усилия на более традиционные виды искусства – искусство племен бамбара, банту, равнинных индейцев и прочее в том же роде. Для верного вложения денег ему требовался опытный консультант, и он нашел его в лице некоего Делаэ, который заодно три дня в неделю дежурил вместо него после обеда в галерее.
В отличие от профессиональных достоинств, внешность Делаэ явно говорила не в его пользу. Представьте себе человека, целиком составленного из кривых. Сутулая, колесом, спина, вялое рыхлое лицо, кошмарные бесформенные усы, скрывающие всю верхнюю губу и лезущие в рот (а некоторые вздыбленные волоски забираются и в ноздри); усы эти так длинны и нелепы, что выглядят фальшивыми, наклеенными. Все жесты Делаэ мягки, округлы, извилисты, так же, как манера держаться и говорить; его очки с изогнутыми оглоблями вечно сползают то на один бок, то на другой, – словом, полное отсутствие прямолинейности. «Держитесь же прямо, Делаэ!» – говорил ему иногда раздраженный Феррер. Но тот не реагировал – что ж, тем хуже.
В первые месяцы после ухода из домика в Исси Феррер наслаждался своим новым укладом жизни. Располагая полотенцем, чашкой и половиной стенного шкафа у Лоранс, он сперва проводил в квартирке на улице Аркад все ночи до одной. Затем, мало-помалу, эта верность стала давать трещины: Феррер начал пропускать каждую вторую, каждую третью, а скоро и каждую четвертую ночь, проводя их в своей галерее – сначала в полном одиночестве, потом в относительном, и все это вплоть до того дня, когда Лоране заявила: «А теперь давай-ка складывай свои манатки и вали отсюда, хватит с меня!»
«Хватит так хватит», – отвечает Феррер, думая при этом: «А мне наплевать!» Однако после холодной одинокой ночи, проведенной на задах галереи, он встает пораньше и наведывается в ближайшее квартирное агентство. Ютиться в этой жалкой конуре – нет, так жить дальше невозможно. Ему предлагают осмотреть совсем другое помещение на Амстердамской улице. Вот увидите, говорит агент, это типично османновский стиль: лепные потолки, наборный паркет, двойной холл, двойная гостиная, двойные застекленные двери, мраморные камины с высокими зеркалами, широченные коридоры, комната для прислуги и плата за три месяца вперед. «Хорошо, согласен, – говорит Феррер. – Беру!»
Итак, он обустраивается на новом месте: это ведь вопрос нескольких дней – купить кое-какую мебель, проверить газ и водопровод. И вот наконец однажды вечерком, уютно пристроившись в новом, еще не обкатанном кресле, со стаканчиком в руке, он рассеянно поглядывает в телевизор, как вдруг звонят в дверь: это Делаэ, нежданный гость. «Я только на минутку, – говорит он, – я хотел обсудить с вами один вопрос, я не помешал?» В принципе, малый рост и рыхлая фигура не позволяют Делаэ скрывать что-либо или кого-либо у себя за спиной, однако на сей раз там, сзади, в полумраке лестничной площадки, Ферреру чудится чье-то присутствие. Он привстает на цыпочки. «Ах, да, – говорит Делаэ, – простите, со мной одна знакомая, она у нас интроверт. Можно войти?»
Всем известно, что бывают люди с ботанической внешностью. Некоторые из них напоминают листву, другие – деревья или цветы: подсолнух, тростник, баобаб. Делаэ, всегда скверно одетый, похож на те бесцветные безымянные городские растения, что пробиваются между булыжниками на каком-нибудь заброшенном складском дворе или в трещинах полуразрушенного фасада. Чахлые, тусклые, жалкие, но цепкие, они играют, они знают, что могут играть лишь самую скромную ролишку в этой жизни, но держатся за нее изо всех сил.
Если анатомия Делаэ, его поведение и бессвязная речь походят на эти упорные сорняки, то «знакомая», его сопровождающая, относится к совершенно иному ботаническому типу. Это прекрасное и немое (на первый взгляд) растение по имени Виктория кажется скорее диким, нежели садовым, скорее датурой, чем мимозой, скорее колючкой, чем цветком, одним словом, вид у нее не слишком-то приветливый. Но, невзирая на это, Феррер тотчас чует, что ему не суждено потерять ее из виду: «Разумеется, – говорит он, – входите!» Затем, рассеянно, вполслуха внимая бессвязному монологу Делаэ, он прилагает все силы, чтобы эдак невзначай произвести наилучшее впечатление на гостью и, возможно, чаще встречаться с нею глазами. Увы, он, видимо, старается напрасно, а, впрочем, кто знает?! Тем временем рассказ Делаэ, только в лучшем изложении, мог бы представить немалый интерес.
По его словам, 11 сентября 1957 года на самом севере Канады небольшая торговая шхуна «Нешилик» оказалась затертой льдами у берегов округа Маккензи; точное местонахождение ее по сей день неизвестно. «Нешилик» шел из Кембридж Бей в Туктойяктук и вмерз в лед, имея на борту груз лисьих, медвежьих и тюленьих шкур, а также немалое количество произведений местного национального искусства, считавшихся большими раритетами. Напоровшись на риф, судно тотчас оказалось в плену льдов. Члены экипажа покинули шхуну и пешком, отморозив руки и ноги, с величайшими трудностями добрались до ближайшей базы, где многим из них пришлось ампутировать конечности. И, хотя брошенный груз имел огромную коммерческую ценность, торговая компания Гудзоновой бухты так и не решилась предпринять поиски затерянного в ледяной пустыне судна.
Делаэ изложил Ферреру все эти факты, о которых его якобы информировали третьи лица. Ему даже намекнули, что при желании можно раздобыть более точную информацию о координатах «Нешилика». Все это пока было зыбко и неопределенно, но если постараться, дело может принести огромную прибыль. В принципе, каждая операция по розыску предметов этнического или античного искусства делится на четыре-пять этапов. Обычно такую вещь находит какой-нибудь скромный местный житель; затем она попадает в руки тамошнего заправилы этого рода бизнеса, а от него к посреднику-специалисту в данной области; владелец галереи и коллекционер составляют два последних звена в этой цепи. Разумеется, все перечисленные лица в процессе операции обогащаются, и чем дальше, тем больше, поскольку на каждой стадии предмет искусства по меньшей мере удваивается в цене. Так вот, если операция с «Нешиликом» окажется возможной, они станут действовать самостоятельно, без вмешательства посредников, и, таким образом, сэкономят и время и деньги.
По правде сказать, в тот вечер Феррер почти не обратил внимания на этот рассказ – слишком уж заинтересовала его эта Виктория; мог ли он вообразить, что через неделю она поселится в его квартире?! Скажи ему кто-нибудь об этом, он пришел бы в восторг, хотя притом наверняка испытал бы и некоторое беспокойство. Но скажи ему кто-нибудь, что из трех человек, собравшихся у него этим вечером, все трое, и он в том числе, исчезнут, каждый на свой манер, еще до конца месяца, он бы обеспокоился еще сильнее.
6
В тот день, когда судно пересекает Полярный круг, на борту обычно устраивается праздник. Феррера предупредили об этом намеками и шуточками, не сулившими ничего хорошего, но вынуждавшими их объект заранее смириться с неизбежной церемонией посвящения. Однако он пренебрег этой угрозой, посчитав, что сей ритуал проводится только на экваторе, в тропиках, и оказался неправ: такое событие отмечают в равной мере и на севере.
Вот почему в то знаменательное утро троица переодетых чертями матросов с гиканьем ворвалась в его каюту и, завязав жертве глаза, поволокла ее через весь корабль в спортзал, увешанный, по случаю торжества, черными драпировками. Там с него сняли повязку, и он узрел Нептуна, сидящего в центре, на возвышении, со свитой, куда входили капитан и несколько офицеров. Морской царь (его роль исполнял старший стюард) был обряжен в корону, мантию и ласты для ныряния; в руке он держал трезубец, а рядом сидела любительница грызть ногти, изображавшая Амфитриду. Бог морей, грозно вращая глазами, приказал Ферреру простереться у его ног, повторить за ним какие-то дурацкие заклинания, измерить спортзал двойным дециметром, достать зубами связку ключей из миски с кетчупом и проделать еще энное количество глупостей. Пока Феррер исполнял все это, ему казалось, что Нептун шепотом собачится с Амфитридой. Затем капитан разразился короткой приветственной речью и вручил Ферреру диплом о переходе Полярного круга.
Вскоре после означенного перехода в море появились первые айсберги. Их видели издалека, только издалека: корабли не слишком-то любят приближаться к этим ледяным горам. Иногда встречались айсберги-одиночки, а иногда и целые армады недвижных гигантов; некоторые из них были идеально гладкие, блестящие, другие – корявые, почерневшие или желтые от моренных наносов. Своими контурами они напоминали то зверей, то геометрические фигуры, а размерами были сравнимы то с Вандомской площадью, а то и с Марсовым полем. Но все-таки они выглядели куда скромнее и дряхлее своих антарктических собратьев, которые величественно плывут по морю ровными сверкающими громадами. Эти же были какие-то угловатые, бесформенные, перекошенные, словно непрерывно вертелись туда-сюда в дурном сне.
По ночам, когда Ферреру тоже не спалось, он вставал и шел коротать время на мостике, в компании вахтенных. Просторный и пустынный, как вокзал на заре, мостик был застеклен по всему периметру. Под сонным присмотром вахтенного офицера двое рулевых, сменявшихся каждые четыре часа, неотлучно стояли перед пультами, не спуская глаз с лотов, радаров и пеленгаторов. Феррер тоже созерцал море, освещаемое мощными прожекторами, хотя смотреть там, честно говоря, было не на что – одна только бесконечная ровная белизна во мраке, иными словами, настолько мало, что даже иногда слишком. От скуки он изучал навигационные системы, карты и метеосводки. Вахтенные быстро обучили его манипуляциям с приемником, и он убивал время, ловя радиосигналы на всех частотах; это занимало не менее четверти часа – все лучше, чем ничего.
Единственным событием за это время была остановка судна среди льдов, сделанная по техническим причинам. С борта спустили веревочный трап, и Феррер сошел по его скользким обледенелым перекладинам на лед, чтобы прогуляться. Вокруг по-прежнему стояла мертвая тишь, нарушаемая только мягким шорохом его шагов по снегу, дыханием ветра да редким криком буревестника. Удалившись от судна, в нарушение запрета, на приличное расстояние, Феррер увидел целую колонию моржей, мирно дремавших бок о бок на плавучей льдине. Посреди гаремов возлежали, точно султаны, старые самцы, лысые, усатые, все в шрамах былых сражений. Время от времени одна из моржих приоткрывала глаз, обмахивалась плавниками и снова погружалась в сон. Феррер вернулся на борт.
Затем жизнь снова пошла своим неторопливым монотонным ходом. Было только одно средство развеять скуку, а именно – нарезать время, как режут колбасу. Делить его на дни (до конца плавания столько-то Д., минус семь, минус шесть, минус пять…), а также на часы (что-то я проголодался; до обеда столько-то Ч., минус два, минус один…), на минуты (я выпил кофе, значит, до похода в туалет минус 8 М., минус 7…), и даже на секунды (я обхожу мостик по периметру, это занимает приблизительно 30 С.; между намерением и осмыслением сделанного проходит целая минута). Короче, достаточно, как в тюрьме, вести счет времени, размечать его всеми своими занятиями – едой, видеофильмами, кроссвордами или комиксами, – дабы победить скуку в зародыше. Хотя можно также и ровно ничего не делать, а провести полдня за чтением, валяясь на койке в майке и вчерашних трусах, лениво откладывая на потом мытье и одевание. Поскольку лед отбрасывает в каюту свою безжалостно слепящую, точно хирургическая лампа, белизну, не радуя ни единой тенью, приходится в ожидании сумерек завешивать иллюминатор полотенцем.
Впрочем, кое-какие развлечения на судне бывают: регулярный обход кают главным механиком и ответственным за пожарную безопасность, учебные тревоги, тренировки по срочной эвакуации, хронометраж при надевании автономного спасательного костюма с подогревом. Можно также почаще наведываться к медсестре Брижит, флиртовать с ней, пока усатый радист трудится у себя в рубке, отпускать комплименты по поводу ее высокой квалификации, или привлекательной внешности, или загара, совершенно необъяснимого в этих широтах. И тогда он узнает, что, во избежание депрессий или худших болезней, типичных для этих бессолнечных краев, женскому персоналу, согласно коллективному договору, предоставлено право загорать в ультрафиолетовых лучах по четыре часа в неделю.
Остается воскресенье, вечное, нескончаемое воскресенье, чье ватное безмолвие усугубляет разреженность звуков, предметов, самих мгновений: белизна искажает пространство, а холод замедляет бег времени. Есть от чего погрузиться в сладкую спячку в уютном чреве ледокола, отказавшись от любых движений; со дня перехода Полярного круга спортзал уже прочно забыт, и все мысли вертятся только вокруг часов приема пищи.
7
Острые зрачки на зеленой фосфоресцирующей, как глазок старого радиоприемника, радужной оболочке; холодная (но все лучше, чем никакая) улыбка, – такой Виктория пришла и расположилась в квартире на Амстердамской улице.
Она пришла туда почти без вещей – всего лишь маленький чемоданчик да сумка, которые она бросила в передней так, словно оставляла их на часок в камере хранения. То же самое и в ванной: зубная щетка, крошечный несессер с тремя складными маникюрными инструментиками и тремя образцами косметики, вот и все.
Большую часть дня Виктория проводила в кресле за чтением, сидя перед телевизором с выключенным звуком. Говорила она мало, а о себе и вовсе скупо, неизменно отвечая на вопросы встречными вопросами. Казалось, она всегда была начеку, даже если ей не грозила никакая внешняя опасность, хотя ее настороженный взгляд сам по себе мог вызвать у окружающих агрессивные намерения. Когда Феррер принимал гостей, Виктория всегда держалась, как приглашенная; ему чудилось что вот пробьет полночь, и она уйдет вместе с другими, но нет, она оставалась, она оставалась.
Одним из следствий присутствия Виктории в квартире Феррера стали более частые визиты Делаэ, все такого же запущенного и расхлябанного. Однажды вечером, когда он явился на Амстердамскую улицу одетым уж вовсе неприлично – в бесформенной парке, чьи обвислые полы хлопали по зеленым спортивным штанам, – Феррер счел своим долгом отреагировать, выбрав для этого момент ухода гостя. Задержав его на площадке («Не обижайтесь, Делаэ!»), он разъяснил, что торговец произведениями искусства обязан заботиться о своей внешности и одеваться пристойно. Делаэ глядел на него непонимающим взором.
«Ну поставьте себя на место коллекционера! – втолковывал ему шепотом Феррер, зажигая свет на лестнице. – Он пришел купить у вас картину, этот человек. Он колеблется. Для такого клиента приобрести картину – целое событие; вы же знаете, как он боится потратить зря свои денежки, упустить какого-нибудь нового Ван Гога, купить дрянь и выслушать, что думает по этому поводу его жена. Он так боится всего этого, что даже на картины не смотрит. Он видит только вас, торговца, в вашей одежде торговца. И, значит, по вашей одежке он будет судить о самой картине, понятно вам? Если вы одеты, как последний нищий, стало быть, и картина ваша гроша ломаного не стоит. А вот если ваш костюм безупречен, то и картина шикарна, и это хорошо для всех и, в первую очередь, для нас, ясно?»
«Да-да, – отвечал Делаэ, – кажется, я понял». – «Ну вот и чудесно, – сказал Феррер, – итак, до завтра!» – «Как ты думаешь, он и вправду понял?» – спросил он, вернувшись в квартиру, но не слишком надеясь на ответ; и в самом деле, Виктория уже отправилась спать. Погасив одну за другой все лампы, Феррер тоже вошел в темную комнату, а на следующий день, после обеда, явился в галерею в твидовом костюме каштанового цвета, полосатой сине-голубой рубашке и вязаном золотисто-коричневом галстуке. Делаэ, сидевший там с утра, был плохо выбрит и щеголял во вчерашнем своем наряде, еще более помятом, чем накануне. (Можно подумать, он в нем и спал, вы только гляньте на эту рубашку!).
«Мне кажется, дела с „Нешиликом“ продвигаются», – сообщил Делаэ. «Дела… с чем?» – удивился Феррер. «С тем самым кораблем, – ответил Делаэ, – ну помните шхуну с инуитскими раритетами? Мне удалось найти верных информаторов». – «Ах, да», – рассеянно откликнулся Феррер, прислушиваясь к дребезжанию дверного колокольчика. «Внимание, – шепнул он, – к нам гости. Сам Репара!»
Этого господина – Репара – они знают давно. Он заколачивает безумные деньги на сделках, которые ему безумно скучны, – да и с чего веселиться, имея на руках всемирную монополию «Смартекса»?! Единственные отрадные мгновения его жизни – покупка предметов искусства. Притом он любит, чтобы ему давали советы, разъясняли тенденции, представляли художников. Однажды в воскресенье Феррер повез его в мастерскую некоего художника по металлу, близ Монтрейльских ворот, и Репара, покидавший свой VII округ лишь для того, чтобы перелететь Атлантический океан в личном реактивном самолете, пришел в дикий восторг, проехавшись по XI. «Ах, какая архитектура, какое экзотическое население! Просто невероятно! С каким удовольствием я бы ездил сюда с вами каждое воскресенье! Потрясающе!» Да, этот денек для Репара прошел не зря. Однако раскачивается он всегда долгонько. Вот и теперь он нерешительно бродит перед большим, ярко-желтым и довольно дорогим акриловым шедевром Мартынова, – то подойдет, то отступит, то опять придвинется и т. д. «Смотрите, как я его сейчас обработаю, – шепнул Феррер Делаэ. – Пойду поспорю с ним, клиенты это обожают!»
«Итак, – спросил он, подходя к картине, – я вижу, вам приглянулся этот Мартынов?» – «В нем что-то есть, – отвечал Репара. – Что-то эдакое… Он мне кажется… как бы это сказать…». – «Я вас понимаю, – сказал Феррер. – Я вас отлично понимаю. Но, честно говоря, это не лучшая его работа в данной серии (вы же знаете, что это его серия), а, кроме того, она явно не закончена. Я уж не говорю (но это между нами!), что Мартынов нынче дороговат». – «Верно, верно, – подхватил Репара, – я и сам вижу, что с этим желтым что-то не так». – «Конечно, – продолжал Феррер, – картина недурна, слов нет. Но для своего уровня дороговата. На вашем месте я бы лучше поинтересовался этим». И он указал ему нечто, составленное из четырех алюминиевых квадратов, выкрашенных в светло-зеленый цвет; сооружение притулилось в углу галереи. «Вот интересная вещь. Скоро сильно поднимется в цене, а пока еще вполне доступна. И потом, смотрите, какая она светлая, ясная, разве нет? Она понятна. Она радует глаз!»
«Ну… не знаю… – сказал глава „Смартекса“. – То есть, я лично ничего особенного в ней не вижу». – «На первый взгляд, она действительно не производит впечатления, – согласился Феррер. – Но, по крайней мере, когда вы вернетесь домой и увидите это у себя на стене, на вашу душу снизойдет покой. Тут есть нечто умиротворяющее». – «Ладно, я подумаю, – пробормотал Репара, отступая к двери. – Зайду к вам на днях с женой». «И зайдет, подтвердил Феррер, обращаясь к Делаэ, – вот увидите, зайдет – и наверняка купит Мартынова. С клиентом нужно иногда поспорить. Это создает у него уверенность, что он сам разбирается в искусстве. Ага, вот и еще один гость!»
Сорок восемь лет, крошечная эспаньолка на подбородке, бархатная блуза и улыбка – так выглядел Гурдель, художник, с которым Феррер работал вот уже десять лет. Он держал под мышкой картину, старательно упакованную в крафт, он пришел за новостями.
«Дела неважнецкие, – устало сказал ему Феррер. – Помнишь Байяна, который взял одну твою картину? Так вот, он мне ее вернул, эту картину, он ее больше не хочет, мне пришлось ее забрать. Потом был еще такой Курджан, он тоже собирался купить что-нибудь из твоего. Ну так вот, он раздумал, он предпочел картину какого-то американца. А за твою пару больших холстов, выставленных на продажу, дали сущие гроши; в общем, далеко не блестяще». – «Ладно, – сказал Гурдель, улыбаясь уже не так ослепительно и разворачивая картину, – я принес тебе вот это».
«Откровенно говоря, здесь есть доля и твоей вины, – продолжал Феррер, даже не взглянув на холст. – Ты сам испортил дело, когда перешел от абстракции к изобразительности; мне пришлось полностью менять стратегию продажи твоих полотен. Сам знаешь, какие возникают проблемы, когда художник то и дело меняет манеру; люди ждут от него привычных вывертов, а ты их разочаровываешь. Пойми, у нас ведь все кругом объярлычено, мне гораздо легче продвигать художника, который не делает резких движений, иначе это катастрофа. Рынок искусства – вещь хрупкая. Да что я тебе говорю, ты и сам все понимаешь. Словом, эту я у тебя не возьму, дай мне сначала сбыть все остальное».
Следует пауза; затем Гурдель кое-как заворачивает свою картину, кивком прощается с Феррером и выходит. На пороге он сталкивается с Мартыновым. Мартынов – молодой парень с наивно-хитроватым взглядом; художники обмениваются парой слов. «Этот паразит хочет дать мне коленкой под зад», – сообщает Гурдель. – «Никогда не поверю! – утешает его Мартынов. – Он знает, чего ты стоишь, он в тебя верит. Все-таки он кое-что смыслит в искусстве!» – «Нет! – горько отвечает Гурдель перед тем, как раствориться в бледном мареве дня. – Никто больше не смыслит в искусстве. В нем понимали разве что папы да короли, и то еле-еле. А с тех пор – никто!»
«Ну что, видел Гурделя?» – спрашивает Феррер. «Да, только что встретил, – отвечает Мартынов. – Похоже, дела у него скверные». – «В полном упадке, – подтверждает Феррер. – Он совершенно не продается, от него осталось одно имя, чистый символ. Зато у тебя в последнее время дела идут на лад. Только что ушел один тип, он наверняка купит большой желтый. Ну-с, а что ты сейчас поделываешь?» – «Ну что, – отвечает Мартынов, – вот хочу дать два-три холста из моей вертикальной серии на коллективную выставку». – «Погоди-ка, – вскидывается Феррер, – это еще что за штуки?!» – «Да ничего особенного, – говорит Мартынов. – Всего лишь выставка в Депозитной кассе». – «Что я слышу! – восклицает Феррер. – Ты собираешься устроить коллективную выставку в Депозитной кассе?» – «А что такого? – удивляется Мартынов. – Чем тебе не угодила Депозитная касса?» – «Я лично считаю, что это смешно – выставляться в Депозитной кассе! – заявляет Феррер. – Просто смешно! Да еще вдобавок вместе с другими. Ты себя не ценишь, вот что я тебе скажу. А, впрочем, делай, как знаешь!»
Все это, естественно, не располагало к веселью, и Феррер весьма мрачно выслушал от Делаэ небольшую лекцию о северном искусстве – о школах Ипьютака, Туле, Хориса, Бирника, Денбая, о палеокитобойных культурах, сменявших одна другую в период с 2500 до 1 000 года до нашей эры. Когда Делаэ пускался в сравнения материалов, влияний и стилей, Феррер слушал его вполуха и проявлял интерес только к цифрам: в самом деле – если эта история с затерянной во льдах шхуной подтвердится, дело явно стоит того, чтобы предпринять путешествие. Увы, за неимением более точных сведений, она пока не подтверждалась. Но стоял конец января, и в любом случае, как заметил Делаэ, даже при наличии нужной информации, климатические условия не позволяли двинуться в путь раньше начала весны, когда на этих высоких широтах начинается полярный день.








