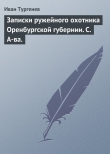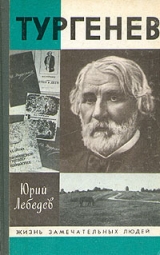
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц)
Шеллинг и Гегель дали русской молодежи 1830-х годов оптимистический взгляд на жизнь природы и общества, веру в разумную целесообразность исторического процесса, устремленного к конечному торжеству правды, добра и красоты, к «мировой гармонии». Вселенная воспринималась Шеллингом как живое и одухотворяющееся существо, которое развивается и растет по целесообразным законам роста и развития. Эти законы не формируются в процессе развития, а предшествуют ему. Как в зерне содержится будущее растение, так и в мировой душе заключен предвечно идеальный «проект» будущего гармонического устройства мира. Целое, по Шеллингу, существует раньше своих частей: в основе любого развития, любого раздвоения лежит первоначальное единство, тождество. Развитие же является осуществлением во времени того, что содержится в зерне мироздания.
Мировой душе необходимо развитие, она должна победить хаотическую стихию, существующую в ее первооснове. Рост организма вселенной во времени и пространстве – это напряженная борьба космического начала с хаотическим, которая завершится достижением абсолютной гармонии бытия.
Грядущее торжество этой гармонии предвосхищается в произведениях гениальных людей, являющихся, как правило, художниками или философами. Гений, по Шеллингу, обладает особой интеллектуальной интуицией, позволяющей ему одухотворять объективную реальность, прозревая в ней идеальную душу мира. Поэтому искусство (а по Гегелю – философия) – высшая форма проявления творческих сил природы. В гениальном художественном произведении воплощается будущий идеальный мир, к которому устремляется вселенная в своем развитии, достигается будущее торжество космических сил над хаотическими. Абсолют, по утверждению Шеллинга, в такой же мере рождает вселенную, в какой творит ее как художник. Поэтому гениальный поэт, писатель, человек искусства в акте творчества сливается с высшим творцом вселенной, является проводником его воли, превращается в «орган мирового духа». Гений как сознающее себя в абсолюте существо становится активным участником исторического процесса, в котором зло побеждается добром.
Особую роль в этом мировом процессе одухотворения вселенной наряду с искусством играет, по Шеллингу, любовь. Любовь – это универсальное чувство, просветляющее мир, это дар божества, идеальной души, абсолюта. Любовью связывается в гармоническое единство идеальная основа бытия и реальное существование. Любовь к женщине – одно из могущественных проявлений всеобщего мирового закона любви, творящего мироздание. Поэтому люди тургеневского поколения буквально обожествляли это чувство, видели в нем великий дар. Любящий человек окружался ореолом, выделялся из толпы смертных. С ним уже и обращались как с человеком особенным, отмеченным печатью божества.
Но именно в силу высокой одухотворенности и чрезмерного интеллектуализма такая любовь не выдерживала испытания реальностью, разбивалась о жизненную прозу. Рыцари любви 1830–40-х годов чаще всего оказывались «рыцарями на час». Тургенев испытает эту жизненную драму на собственном опыте, она найдет отражение в большинстве его повестей и романов.
Философия окрыляла русского человека 30-х годов, человека эпохи безвременья, эпохи николаевской реакции, осложненной господством в стране беззаконных крепостнических порядков, обветшалость которых чувствовалась тогда уже многими. Но как долго может этот порядок жить и процветать? Временами казалось, что он может существовать бесконечно. Однако немецкая классическая философия учила видеть в истории скрытый смысл и воспринимать ее ход как закономерное развитие от состояния, в котором нет свободы, а сознание людей помрачено злом, к состоянию гармонии, к царству правды-истины, добра и красоты.
Откровения Шеллинга вели к философии Гегеля, который обогатил учение своего предшественника последовательной и четко сформулированной идеей диалектического развития (тезис – антитезис – синтезис, закон отрицания отрицания, «снятия» противоречий на более высокой ступени развития), «алгеброй революции», по определению А. И. Герцена. История в свете воззрений Гегеля перестала казаться бессмысленным смещением случайных, бессвязных фактов. Она предстала как закономерный процесс развития, совершающийся по строго определенным диалектическим законам. Русских юношей эпохи николаевского безвременья приводили в восторг следующие положения гегелевской философии:
«Всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении вперед состоит его природа. Иногда кажется, что он остановился, что он утрачивает свое стремление к самопознанию. Но это только так кажется. На самом деле в нем совершается тогда глубокая внутренняя работа, незаметная до тех пор, пока не обнаружатся достигнутые ею результаты, пока не разлетится в прах кора устаревших взглядов, и сам он, вновь помолодевший, не двинется вперед семимильными шагами».
Так в отвлеченной форме гегелевской идеалистической философии развивалась мысль о революционной роли реакционных периодов в жизни человеческого общества, мысль, которая в сознании молодого человека 1830–40-х годов прямо проецировалась на современное состояние русской жизни эпохи николаевского царствования.
«Стремление молодых людей – моих сверстников – за границу, – говорил Иван Сергеевич, – напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его земля<...> велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос... но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал – полоса помещичья, крепостная, – не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования – отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог».
Зимой 1834 года, уехав в Спасское на каникулы, Тургенев еще раз столкнулся с вопиющим произволом со стороны матери. Жила в имении девушка по имени Луша, сверстница Ивана Сергеевича. Еще в детские годы он привязался к этой живой и смышленой девочке, играл с ней в свободное от учебы время, научил чтению и письму. И вот теперь он узнал, что «крепостную девку Лушку» Варвара Петровна продала соседней помещице, прозванной мужиками за ее жестокость Медведицей. Поводом к этому решению послужило заступничество Лупи за одного дворового. И хотя Варвара Петровна считала Лушу лучшей своей кружевницей, стерпеть ее «смутьянство» она не могла.
Тургенев застал еще девушку в имении; он стал упрашивать мать отказаться от ее решения, вернуть назад уже полученную от Медведицы крупную сумму. Но ни мольбы, ни уговоры не подействовали. Тогда юноша впервые показал матери свой характер, твердо заявив, что не допустит этой продажи. Он спрятал Лушу в крестьянской избе и приказал охранять ее.
Между тем соседка-помещица возмутилась «самоуправством» молодого барина и направила жалобу властям о том, что «молодой помещик и его девка бунтуют крестьян». В Спасское явился капитан-исправник и с вооруженными дубинами понятыми отправился к дому, где укрывалась Луша. Тургенев вышел на крыльцо с заряженным ружьем и, прицелившись в капитан-исправника, припугнул его таким грозным окриком, что и блюститель «закона» и понятые разбежались.
Было возбуждено уголовное дело «О буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева», которое тянулось долгие годы, вплоть до отмены крепостного права.
Такой крутой поворот событий не на шутку испугал Варвару Петровну, и, поскольку сына она любила, она старалась с тех пор вести себя при нем сдержанно и не давать воли самодурским капризам. От своего решения продать Лушу она отказалась и заплатила Медведице крупную неустойку.
Но такие решительные поступки в жизни Ивана Сергеевича являлись исключением и напоминали собою жест отчаяния, а не твердое волевое решение. По характеру своему он оставался человеком мягким и уступчивым. Он мог перечить матушке лишь в самых почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением.
Последнее лето перед поездкой за границу Иван Сергеевич провел в Спасском. Он приехал домой веселым, жизнерадостным юношей, часто в доме раздавался его заразительный смех. Шутки Тургенева вызывали взрывы хохота в кругу спасской молодежи, неизменно окружавшей остроумного и живого собеседника. Часто на потеху публике он пускал в ход свои незаурядные актерские способности: например, изображал «зарницу» или «молнию». «Фарс этот, – вспоминали очевидцы, – начинался легким миганьем глаз, подергиванием рта то в одну, то в другую сторону с неуловимой быстротой. А когда начиналось подражание молнии, то вся физиономия его настолько изменялась, что становилась неузнаваемой: мышцы лица приходили в такое беспорядочное движение, что Варвара Петровна приказывала немедленно прекратить представление: она боялась, чтобы сын не перекосил себе глаза».
Летом Иван Сергеевич усиленно занимался греческим языком, а в минуты отдыха «обучал» воспитанницу Варвары Петровны премудростям греческого произношения, заставляя ее заучивать и громко выкрикивать звуки: «Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс!» Затем Иван Сергеевич ставил Вареньку на стол, придавал ее фигуре классическую позу с вытянутой рукой и заставлял повторять заученное сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом оба заливались таким звонким и беззаботным смехом, что следовал приказ Варвары Петровны прекратить это ребячество. «Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех!»
В это время Варвара Петровна разыгрывала роль несчастной, оставленной богом и людьми женщины. Комнату покойного мужа она объявила «священной»: никто не имел права входить в это святилище, кроме самой хозяйки Спасского. Здесь она предавалась горьким раздумьям о своей вдовьей судьбе. Конечно, для грусти и горестных размышлений у Варвары Петровны были свои основания: вслед за потерей мужа скончался, не дожив до шестнадцатилетнего возраста, младший ее сын. Но в горе матери было что-то показное, вызывающее. Страдая сама, госпожа считала своим долгом мучить других. Часто с ней случались истерики, после которых Варвара Петровна объявляла домашним, что находится при смерти, и разыгрывала сцену прощания с близкими. В образе умирающей женщины, закатывая глаза, поминутно охая и впадая в краткие обмороки, она сидела в мягком кресле у себя в кабинете, а сыновья, родственники и близкие обязаны были подходить к ней по очереди, кланяться и целовать руку. При этом госпожа благословляла каждого, милосердно отпуская водившиеся за ним грехи.
Когда в доме становилось невыносимо от материнских причуд, Иван Сергеевич отправлялся на охоту с ружьем и собакой. Сначала спутником его охотничьих странствий был Николай Николаевич, но однажды в окрестностях Спасского Тургенев встретился с крестьянином-охотником Афанасием Алифановым, которому суждено было стать верным спутником и другом писателя на долгие годы. В «Записках охотника» Тургенев вывел его под именем Ермолая и нарисовал следующий портрет: «Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой шапки». Ружье у него было одноствольное, кремневое и так «отдавало» при выстреле, что правая щека у охотника всегда была пухлее левой.
Афанасий, крепостной одного из соседних помещиков, в дни рождений, именин или выборов обязывался доставлять дичь к господскому столу. Это был охотник по призванию и по всему складу характера: «беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях». Зато никто не мог сравниться с ним «в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом».
Тургенев все более убеждался, что в охотники отсеивается наиболее живая и талантливая часть русского народа. Афанасий явился для писателя неисчерпаемым источником всевозможных сведений не только о премудростях охоты, но и о нравах, привычках, образе жизни провинциального дворянства и крестьянства средней полосы России. Бездомный странник, всю жизнь проводящий в переходах из одного места в другое, Афанасий, как живая газета, развертывал перед Тургеневым хронику провинциальной российской действительности с точки зрения независимого и вольного человека из народа. Охотники, в отличие от дворовых и даже оседлых пахарей-хлеборобов, в силу страннической своей профессии, в меньшей степени подвергались обезличивающему и развращающему влиянию помещичьей власти. Они сохраняли в целости гордый, независимый ум, живую образную память, чуткость к жизни природы и неуязвленное, естественное чувство собственного достоинства.
Тургенев так привязался к своему новому приятелю, что упросил матушку выкупить его у соседа. Невдалеке от Спасского, у Кобыльего верха, в лесу, Афанасий отстроил себе новую избу, обзавелся семьей и хозяйством и отныне стал постоянным спутником охотничьих странствий Ивана Сергеевича.
Трудно было Тургеневу оставить родной край и уехать на чужбину. Возникали порой на этот счет серьезные сомнения. И кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы в отчем доме царило теплое семейное согласие. Но этого согласия не было и уже никогда быть не могло. Характер Варвары Петровны сложился окончательно и с годами только портился, становясь все невыносимее.
Однажды на охоте дядюшка Николай рассказал Тургеневу страшную историю. Собиралась Варвара Петровна в поездку, навестить дальние имения. В дорогу, по обычаю, она брала легкое вино, разбавленное водой. Садясь в экипаж, госпожа вина не обнаружила. Последовал грозный вопрос: «Почему не отпустили вина в дорогу?!» Пятнадцатилетний мальчик-казачок, обязанный доставить это вино, к своему ужасу, обнаружил, что оно все вышло, и затаился в доме. Раздался крик: «Притащить сюда мерзавца!» Несчастный Павлуша с испугу бросился во флигель, где жили молодые Тургеневы, схватил со стены ружье и застрелился. Николай Николаевич, бледный как полотно, совершенно потрясенный случившимся, заявил госпоже, что какой-то незнакомый охотник забрел в сад и вздумал охотиться. Кое-как ему удалось проводить Варвару Петровну в дальний хутор... По возвращении госпоже объясняли отсутствие Павлуши его болезнью, а потом естественной смертью. Но неужели не чувствовала она, что тут есть что-то недоброе?
Перед отъездом Тургенева в Петербург Варвара Петровна жестоко наказала близкого Ивану Сергеевичу человека, его слугу Порфирия, по самому невинному поводу.
Возились они, как близкие друзья, во флигеле – брала свое жизнерадостная молодость, – кидали друг в друга диванными подушками. Вдруг в комнату вошла мать, как раз в тот момент, когда подушка, пущенная Порфирием, летела прямо в лицо Ивана Сергеевича. Тотчас было приказано как следует проучить холопа – высечь его на конюшне плетьми. Никакие заступничества, никакие просьбы и мольбы сына не могли на сей раз смягчить материнский гнев и отменить решение...
«Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге, – говорил впоследствии Тургенев, – либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн – я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.
Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, к которой я стремился... Я только хочу заметить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда».
В конце августа, буквально накануне отъезда в Петербург, Тургенев упал с охотничьих дрожек и вывихнул руку. Это случилось в поле, и крестьяне пришли ему на помощь. «Шел с этой рукой верст 7, ждал 12 часов перевязки – но все кончилось благополучно: руку вправили», – писал Тургенев. Словно какая-то сила удерживала его в России, давая возможность основательно все обдумать и взвесить, прежде чем решиться на отъезд.
В Петербург Тургенев вернулся лишь зимой. 9 марта 1838 года П. А. Плетнев пригласил его на литературный вечер, где он встретился с А. В. Кольцовым. «Одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам». Кольцов «поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское – вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что, по-видимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией, а, напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья». Сколько подобных лиц встречал Тургенев в доме матери среди дворовых художников, мастеровых, садовников, конторщиков и секретарей! Вспомнился ему друг и учитель Леонтий Серебряков. Несут в себе эти таланты зародыш будущего народного развития, но как все-таки они подавлены бесчеловечным порядком вещей! Именно таким увидел Тургенев Кольцова, он тогда еще не в состоянии был почувствовать, что «этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов и своих покровителей». «Эти господа, – говорил Кольцов И. И. Панаеву, – несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мною своими знаньями, хотят мне пустить пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с».
Тем не менее что-то родное и близкое почувствовал Тургенев в Кольцове и всей душой потянулся к нему. В двенадцатом часу вечера, почти после всех, он вышел с Кольцовым в переднюю и предложил довезти до дому в своих санях. Поэт согласился, но и в пути оставался молчаливым и застенчивым – только покашливал и кутался в свою худую шубейку. «На угле переулка, в котором он жил, – он вышел из саней, торопливо застегнул полость и, все покашливая и кутаясь в шубу, потонул в морозной мгле петербургской январской ночи...»
Холодновато, пусто и как-то неуютно было все вокруг и в душе Тургенева, начинающего поэта, молодого кандидата Петербургского университета. И эта пустота, неуютность отзывали вдаль, туда, в обетованную страну возвышенной мысли, призванной, как казалось тогда многим, разрешить, наконец, все мучительные вопросы человеческого существования, сделать жизнь осмысленной, устремленной к ясной цели.